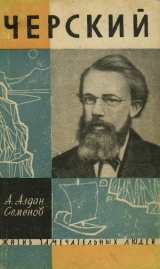
Текст книги "Черский"
Автор книги: Андрей Алдан-Семенов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Весной восемьсот семьдесят третьего года по рекомендации Александра Лаврентьевича Сибирский отдел поручил мне геологические исследования Восточного Саяна. Вместе с Гартунгом отправился я в Тункинские и Китойские гольцы. Это была моя первая самостоятельная экспедиция. Факты и практика, практика и факты дали мне то, что не дает теория.
Мы исследовали долину реки Китой и Китойские альпы, побывали на реке Хонголдой и в Тункинских альпах, через реку Ушарингу вышли на реку Иркут.
И работали, работали! С увлечением, радостью и вдохновением работали мы. Я весь горел от жажды деятельности и чувствовал себя неутомимым покорителем гор. Мы побывали с Гартунгом на таежных реках Илтей-Дабане, Хороке, Белой. Вторично пересекли Тункинские альпы, доходили до верховьев Ехе-Угуна. Мы досконально изучили этот малоизведанный горный район, произвели измерения многих вершин и составили подробную геологическую карту…»
Черский снова оторвался от своих записок. «Что-то скучно у меня получается! А ведь еще старик Вольтер говорил: все жанры хороши, кроме скучного! Но как же быть, если моя жизнь состоит из перечисления путешествий и работ? Я не буду перечислять всего пройденного и изученного мною. В конце концов кому интересна жизнь моя? Я что, Чарлз Дарвин? Александр Гумбольдт? Или Семенов-Тян-Шанский, великий мой современник?..»
И он не написал о том, что получил письмо от академика Миддендорфа. Академик сообщал, что омские раковины оказались пресноводными и научное значение находки Черского подтвердилось. Он не упомянул о путешествии в Еловский отрог Тункинскцх гольцов летом восемьсот семьдесят четвертого года. И о том промолчал он, как произвел маршрутную геологическую съемку Московского тракта от Иркутска до реки Бирюсы. Промолчал он и о путешествии в Нижнеудинскую пещеру, которая, по его догадкам, была кладбищем древних животных. И он действительно нашел в пещере палеонтологический клад – кости животных четвертичного периода.
Без колебаний опустил он и свою личную жизнь в Иркутске. А в этом городе «золотых миражей», дикого счастья и горькой нужды встретил он Мавру Павловну, дочь прачки, ставшую его женой. В этот город пришла ему высшая награда Русского Географического общества – золотая медаль за исследования Байкала.
Все это было, по его мнению, слишком частным и не представляющим никакого интереса. Он преувеличивал заслуги других исследователей Сибири и уменьшал свои.
В иркутские годы своей жизни он стал географом и геологом, видным специалистом по зоологии и анатомии, первым в России исследователем палеолита, талантливым этнографом. Острого ума и дарований его хватило бы на дюжину ученых.
Он даже не заикнулся о бешеной своей работоспособности – шестнадцать часов в сутки! Не обмолвился словом о своих научных трудах, а им было написано девяносто семь работ…
Он сидел за письменным, сооруженным из пустых ящиков столом и мучительно размышлял, стоит ли продолжать свою биографию.
«Я что, Чарлз Дарвин? Александр Гумбольдт? – повторил он снова и усмехнулся полынной улыбкой. – Кого заинтересуют жизнь и путешествия какого-то Ивана Черского?»
И вдруг сгреб написанные листки, смял их и кинул в камелек. Чиркнул спичку. И поджег. Воспоминания завертелись, как оранжевые птицы, и обратились в пепел.
«Вот цена вещам, не имеющим человеческого интереса!» – он погрел озябшие пальцы над пеплом и поднял глаза на окно.
Метель улеглась, ветер затих, но ледяное окошко было по-прежнему непроницаемо. Язычок над коптилкой, чуть подмигивая, сгибался на сторону. Черский потушил коптилку и будто опустился в вязкую черную глубину. Память мгновенно уснула, мысль прекратила плавное свое течение. Прозрачные волны воспоминаний замутились усталостью.
Он закрыл глаза, нажал на них пальцами. Голубые, оранжевые, красные круги засияли перед ним, сливаясь в радужное пятно.
Пальцы разжались, радужное пятно растаяло…
Покатая снежная горка врезается в молодой ледок. Он мчится на лыжах с горки, вылетает на лед и срывается в вороную зыбкую прорубь. Он погружается с головою в воду и снова мчится, но уже в гибкой речной глубине. Лыжи касаются песчаного дна, он спотыкается, падает и лежит на спине. Над ним двухаршинная толща воды, над водой – ледяная броня. Вокруг мельтешат красноперые окуни, чебаки серебряными ножами прорезывают реку. «Вот я и умер, вот я и утонул», – думает он – и просыпается…
Он идет через лес, непролазный и темный, полный угрожающих шорохов. Ох, как же темно в этом неизвестном лесу! Между гигантскими кедрами засветилась призрачная полянка. Он выходит на поляну, охваченную зеленым негреющим светом. Светляки всюду – на граве, на кустарниках, на замшелых стволах кедров. Его знобит, ему зябко от сырости и волглой травы. Он протягивает окоченевшие руки к зеленому ровному потоку, излучаемому малюсенькими насекомыми. Руки начинают пылать – не от жара – от нестерпимого холода. Он выпрямляется во весь рост и стоит, коченея на зеленом бездымном огне. «Вот я и горю и замерзаю одновременно», – думает он и просыпается…
«Смешно! За пять минут я видел два сна, и каждый окончился моей смертью. Я не суеверен, и все же какой неприятный осадок в душе».
Комнатная мгла посинела, серый квадрат окна выделялся из нее почти с осязаемой выпуклостью. Жена, сын, Степан, Генрих все еще спали: был шестой час утра. Он пошарил под столом, нашел стеариновую свечу, но не зажег. «Последняя! А где их взять, эти свечи? Ничего же нет у верхнеколымцев, ничего. Голые люди на голой земле. И у меня нет ничего. Неужели у меня нет совсем ничего?»
Ничего в этом мире нет,
Что я мог бы назвать своим, —
Даже ворона черный цвет,
Даже ветел зеленый дым!
Даже розовых чаек лёт
Не захлестывает души.
За собой меня не зовет
Лось, ломающий камыши.
«Неправда! Ложь! Не признаю поэзии, усыпляющей волю. Расслабляющей, убаюкивающей, уничтожающей радость бытия и творчества».
Он отодвинул ящик, на котором сидел; ящик с грохотом опрокинулся на пол.
«Поэзия – это молния, освещающая дорогу, черт возьми!»
– Ваня, что с тобою, Ваня? – Мавра Павловна вбежала в кабинетик, перепуганная грохотом рассыпавшегося ящика.
– Прости, Мавруша. Я разбудил тебя. Со мной совершенно ничего не случилось. Работал. Устал. Уснул. Вот проснулся, и пора за работу.
– Ты не спал всю ночь, вот что я вижу. Раздевайся и ложись в постель. Надо же так изнурять себя! – Мавра Павловна откинула одеяло на несмятой постели. – Прошу тебя, Ваня, поспи.
Он покорно разделся и лег в постель.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Отсюда —
только в неизвестность;
В хребты весны, в леса зимы.
Зовет неведомая местность
Материком из белой тьмы.

– Капсе бар?
– Бар капсе.
– Рассказывай свои новости. Чо молчишь?
Но прибывший не торопился с таежными новостями. Он развязал заиндевелый малахай, расстегнул малицу, набил табаком трубку. Скуластое лицо его, исхлестанное ветрами и морозами, выражало величайшее спокойствие; Степан уже давно убедился: пока якут не выкурит трубки, новостей не расскажет.
– Уйбан у себя в яранге? – спросил прибывший, выпуская из ноздрей тонкие штопорки дыма. – Новости мои я припас для него. Скажи ему об охотнике Онисиме Слепцове.
Расторгуев вызвал Черского из кабинетика. Черский, как и Степан, обратился к прибывшему с неизменным вместо приветствия вопросом:
– Капсе бар?
– Бар, бар!
– Степан, крепкого чаю, табаку и немножко спирта. – Черский распахнул дверь кабинета. – Проходи, Онисим.
Слепцов прошел в кабинет, сел на диван, сбросил с головы малахай, Черский ждал. Не надо задавать вопросов охотнику-якуту, он расскажет все сам, без суетни и спешки. «Суетливая белка на стрелу налетает» – эту якутскую пословицу путешественник всегда вспоминал, когда торопился.
Степан принес круто заваренный чай, пачку табаку, спирт и закуску.
Старик выпил, уперся ладонями в колени, сгорбился и заговорил тонким, бесстрастным голосом:
– Я приехал к тебе, Уйбан, с реки Яны. Слух о тебе дошел до наших охотников и рыбаков. Мы знаем, тебя послал сам белый царь. Еще мы знаем, ты ищешь в нашей земле костяной рог, старые кости зверюшек и птиц. На реке Яне живет мой приятель Михал Михалов Санников. Он живет в наслеге Казачьем. Так вот, он нашел в мерзлом берегу Яны тело большого косматого зверя. Мы, якуты, зовем такого зверя водяным быком – у-огун-мога. Но старики говорят, у-огун-мога умер давно, так давно, что не помнят даже отцы наших отцов.
– Твой друг нашел труп мамонта? – вскрикнул Черский. – Ведь у-огун-мога – водяной бык – это мамонт!
– Ты – нюча по-нашему, так мы зовем всех русских. А по-твоему водяной бык – мамонт? Пусть будет так.
– Что же сделал с трупом мамонта твой друг? Сам ты видел водяного быка?
– Нет, сам не видел. Михал Михалов Санников сказал мне: «Ты едешь в Верхне-Колымск. Скажи ученому человеку о моей находке. Если он хочет иметь ее, пусть напишет мне. Я буду хранить водяного быка, пока он (он – это ты, – пояснил Онисим) не приедет ко мне в гости в наслег». Вот и все мое «капсе»…
Черский зашагал по кабинетику, еще не веря в реальность необыкновенной находки. «Целый труп мамонта! Невероятно! Необыкновенно! Вечная мерзлота может хранить тела людей и животных сотни лет. Но миллионы лет? Такое событие в науке – полный, нетронутый труп мамонта!»
Он остановился около Онисима, заложил руку за борт сюртука.
– Ты когда вернешься на Яну?
– Я буду жить здесь. Здесь добычливее охота, жирнее налим.
– Какая жалость! С кем же я пошлю письмо Санникову?
– Передай его любому охотнику. От охотника до охотника, от рыбака к рыбаку оно попадет в руки моего друга.
– Спасибо за добрый совет. Где же ты будешь жить, Онисим?
– Пока нигде.
– Поживи у меня до весны. Места не унесешь.
– Окси! Поживу у тебя до месяца отдыха.
– Живи, живи до мая! В начале комариного месяца я уеду отсюда.
Степан и Онисим вышли. Черский присел к столу и начал письмо охотнику Санникову.
«Милостивый государь
Михаил Михайлович!
На Колыму проник слух, будто бы Вам посчастливилось открыть где-то по р. Яне хорошо сохранившийся труп мамонта.
Быть может, Вам уже известно, что в настоящее время ученая экспедиция Императорской Академии наук, состоявшая под моим начальством, находится в Верхне-Колымске…
Так как одна из главнейших целей экспедиции заключается в геологическом изучении почвы, в которой встречаются остатки мамонтов и других ископаемых животных, то понятно, что приобретение более или менее хорошо сохранившегося трупа мамонта (или другого какого-либо животного того времени) имело бы громадное значение для науки, в особенности, что такое желание выражено было самим государем императором, всемилостивейше даровавшим средства на снаряжение этой экспедиции»…
Черский передохнул от длинного своего абзаца.
«Вот когда ложь важнее правды! Государь император знает о моей экспедиции не больше, чем о мамонте. И интересуется государь император наукой, как я извлечением солнечного света из соленых огурцов».
«Поэтому, если слух о находке мамонта не принадлежит к числу возможных выдумок, покорнейше прошу Вас, м. г., уведомить меня письменно в виде ответов на нижеследующие вопросы…»
Со свойственной ему обстоятельностью, с любовью к точным и непреложным фактам он спрашивал неизвестного охотника: где найден мамонт? Целый ли труп, или только его части? Есть ли при нем бивни? Покрыт ли он кожею? Сохранилась ли шерсть? Заметно ли мясо около костей или жир под кожею? Сохранились ли внутренности? Есть ли мясистый хобот и уши? Сохранился ли хвост, и покрыт ли он шерстью, и какой длины волосы на кончике хвоста?
Свое обстоятельное, похожее на великолепную инструкцию по охране мамонтов письмо он закончил словами:
«Если слух о находке мамонта действительно верен и труп достаточно хорошо сохранился, то, разумеется, первою заботою человека, которому посчастливилось его найти, должно быть сбережение его от возможных повреждений или же совершенного уничтожения…»
В кабинет вошла Мавра Павловна, вся искрящаяся от мороза. Черский развязал ее пахнущую снегами шаль, усадил жену на диван.
– Ваня, приказчик заломил дикую цену за свечи и сахар…
– Постой-погоди! Что такое свечи и сахар перед мамонтом? Какую невероятную новость получил я сегодня!
– Бог с ними, со свечами и сахаром! Рассказывай.
Только когда он все рассказал жене и успокоился, Мавра Павловна передала ему свою беседу с Филиппом Синебоевым.
– За гнилую муку требует двадцать пять целковых с пуда. За фунт свечей – полтора рубля. А фунт сахару – целковый!
– Грабитель! Мы будем чаевничать вприглядку, будем есть черный хлеб, как пирожное, но платить такие цены не станем. А писать я буду с коптилкой.
Черский не предполагал, что Синебоев окажется мстительным. «Неужели ссора из-за Атты и Эллая причина мести? Мелко и подло! Хотя Филипп Синебоев по-своему прав: наживаться на нужде людей, пользоваться удобным случаем – да какой же торговец упустит такую возможность?»
На Колыме еще буйствовали первоапрельские морозы, еще два месяца оставалось до вскрытия реки. Как жить? На что жить? И нельзя без провизии отправляться в длительное путешествие по Колыме.
А в это время грузы Черского купец Бережнев еще и не отправлял из Якутска. Купец обрекал экспедицию на голодную смерть, а якутский губернатор даже не интересовался судьбой путешественника.
В это же самое время на далекой реке Яне охотник Санников не уберег величайшую научную ценность – труп мамонта. Дикие голодные звери растаскали мамонтово мясо, обглодали его непомерные кости.
В это же время Филипп Синебоев нанес второй удар Черскому. Он использовал для своей мести Генриха Дугласа.
Синебоев уговорил Дугласа жениться и бросить экспедицию в Верхне-Колымске, он же обещал переправить его с молодой женой в Якутск. Смешная месть эта удалась Синебоеву на славу.
Генрих пришел к Черскому и вручил официальное письмо о вступлении в брак с Екатериной Поповой и отказе продолжать путешествие. Письмо свое он подписал: «Прусский подданный Генрих Иосифов фон Дуглас». В верхнем углу письма поставил «копия», в нижнем «с подлинным верно».
Черский изумленно прочитал письмо, снял очки, еще раз перечитал и наложил резолюцию: «Утверждаю».
– Официально так официально! Желаю счастливой жизни, поздравляю с законным браком, освобождаю от должности препаратора. Жалею только, что ошибся в тебе. Надеюсь, Филипп Синебоев не бросит тебя в трудный час. Передай ему мой поклон.
– А он опять укатил в тайгу собирать с туземцев ясак, – с ухмылкой ответил Дуглас.
После ухода Генриха Черский присел к столу, подпер кулаком подбородок. Он прислушался к шагам жены, хлопочущей на кухне.
– Мавруша!
Жена вошла в кабинетик, почти бесшумно ступая оленьими торбасами.
– Ты что хотел сказать? – Она села на диванчик, опустив на колени усталые руки.
– Нам пора перейти на голодовочные блюда. Продуктов нет, приходится потуже затянуть пояса.
Она улыбнулась тихо, скорбно, погасив голубоватый свет в глазах.
– Я уже переписала все рецепты голодовочных блюд. Вчера попадья учила меня готовить суп из стружек лиственницы и полутухлых рыбешек. Ничего, кушать можно. Научилась я стряпать и пироги из рыбного теста.
– Придется нам выдержать тяжелую борьбу за зимнее бытие, – вздохнул Черский. – Береги сахар. Отныне сахар только для гостей, ну и для местных ребятишек. От них никуда не денешься. Вот и все, Мавруша. Я еще поработаю.
Он придвинул к себе дневник, взял перо, окунул в чернильницу. Чернила замерзли, пришлось отогревать их на коптилке. От ледяного окошка тянуло морозом, между бревнами и по углам комнаты куржавился иней. Черский перечитал последнюю запись в дневнике:
«Мы познакомились с оригинальным изобретением северян, о котором нельзя было составить себе надлежащего представления по имевшимся до сих пор литературным данным. На нарте, запряженной собаками, подвезли к нам плиты прозрачного льда, заготовленные уже заранее в двойном количестве против окошек и стоявшие на реке. После незначительной подправки вставленная плита подпиралась с наружной стороны жердью для удержания ее в колоде окна и сейчас же вмазывалась снегом, смоченным водой…»
«Интересно, как будут читать господа академики сие описание? – сказал он себе с тонкой улыбкой. – Они серьезно почтут меня за сумасшедшего. А Семенов-Тян-Шанский? Ну, этого не удивишь! Он видел виды похуже, этот меня только одобрит. – Он вызвал из памяти могучее, в густых седеющих бакенбардах лицо великого путешественника. – Географическая наука, как и природа, имеет свои горные вершины. Колумб, Магеллан, Гумбольдт, Семенов-Тян-Шанский. Вот они, горные вершины географии мира. У них надо учиться, им следует подражать. О собственных затруднениях можно написать, но со спокойной, даже иронической улыбкой…»
И он записал в дневник:
«Особенно досадно бывает, когда при гостях, на столе нашем, за чаем появляются какие-либо вкусные и жирные лепешки, причем в открытой сахарнице белеют куски сахара. А между тем к сим предметам роскоши не только не смеешь припасть, а напротив, должен изображать из себя лицо, относящееся к этим лепешкам самым равнодушным образом. Наполняешь поэтому стакан чая сухарной крошкой и пьешь его без сахара, облегчая себя мыслью, что вот, спустя месяц или два, придет транспорт и будет праздник и на нашей улице. А если и когда дерзнешь протянуть руку к чему-либо, уготовленному для гостей, то это делаешь с такой не испытанной до сих пор робостью…»
Он писал, изредка дуя на озябшие пальцы и поглаживая бороду. За окнами избушки снова разыгралась метель. Белый океан снегов шел на Верхне-Колымскую крепость, захлестывая и заметая все, что встречалось на его пути. Казалось, над миром дует непроницаемая, неодолимая, космическая метель.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
…что за смысл
Сейчас, немедленно ему,
Разбитому, полубольному,
Столкнуть карбас в холодный омут
И уходить в Нижне-Колымск?

Он стоял на береговых скалах, когда тронулась Колыма.
Господи боже мой! Как жалок человек с его суетой и мелкими дрязгами перед всесокрушающим величием природы!
Неподвижная река пошевелилась и хрустнула, скалы мелко задрожали, лиственницы на них вздрогнули. По льду заструились трещины, обнажая зияющие провалы.
Несколько мгновений все настороженно молчало, но вот река снова пошевелилась, и воздух наполнился шорохами. Шорохи переросли в тревожный гул, и лед сдвинулся с места сразу, во всю верстовую ширину.
Береговые скалы выдвигались далеко в реку. Лед пополз на них, вздыбливаясь и разламываясь. Из трещин тугими фонтанами забила вода и, взлетев в небо, осыпалась радужными зонтами. Льдины закрутились, сшибаясь в звоне и грохоте. Речные берега, смертельно посиневшие леса, вершины Сиен-Томахи завращались в глазах Черского.
Над скалами медленно поднималась ледяная стена, открывая свою нижнюю подводную сторону. Было странно смотреть на рыхлую, размытую, в желтых полосках речного песка ледяную громадину. И еще удивительнее было видеть примерзших к ней хариусов и налимов.
Ледяная стена все поднималась и поднималась: лиственницы на нижних уступах скал начали склоняться, будто лед притягивал их к себе. Гулко треснув, откололась большая льдина, скользнула, по уступам, подрезала вековые деревья и приподняла в воздух.
Несколько секунд лиственницы стоймя двигались со льдиной, потом рухнули в водовороты.
Черский оцепенело смотрел на возникшую перед ним стену. Как всегда в таких случаях, вспыхивали нелепые мысли: «Неужели нет силы, могущей остановить ледоход? Что было бы со мною, если б я оказался на гребне стены? Сколько весит лед Колымы в эту минуту?..»
Мысли улетучились от неожиданного видения: на гребне ледяной стены стоял человек.
На середине реки, на самой кромке вздымающегося льда, темнела маленькая человеческая фигурка, окруженная точками. Человек и собачья упряжка, захваченные ледоходом, попали в затор. Черский не мог представить безумца, рискнувшего переправиться через Колыму в такое неподходящее время, но этот безумец мельтешил перед глазами.
Человек, попавший в беду, не метался, не размахивал руками, не звал на помощь. Он стоял совершенно неподвижно в кольце собак. И Черский понял, что это спокойствие необходимо человеку. Малейшее неверное движение – и он может обрушиться со стены в кипящие водовороты.
Черский не мог помочь погибающему. Даже ценою собственной жизни он бы не смог этого сделать. Но вот человек пошевелился и шагнул вперед: собаки устремились за ним. Ледяной обломок, на котором он только что находился, звеня и рассыпаясь, рухнул в реку. Человек торопливо пробежал несколько шагов и опять остановился. Гребень стены то ускользал из-под его ног, то приподнимался. Одна из собак вильнула на острой кромке и не удержалась – покатилась вниз.
Человек, балансируя, прошел через опасное место и снова замер. «Кто он? – подумал Черский. – Русский? Якут? Охотник? Рыбак? И что заставило его перебираться через Колыму в такие минуты?»
Кто был этот человек, борющийся со смертью? Черский беспомощно топтался на месте, видя, слыша, чувствуя и лед, повиснувший в воздухе, и человека, балансирующего на нем, и глухое ворчание водоворотов, и потрескивание скал.
Ледяная стена больше не приподнималась. Достигнув высоты, она весело поблескивала над рекой. Солнце переполняло ее голубым светом, хариусы и налимы шевелились, будто живые.
Наклонившись вперед, Черский не отрывал глаз от человека. Теперь он хорошо видел побледневшее лицо и черную бородку Филиппа Синебоева.
Вдруг центр ледяной стены стремительно осел, правый край ее подскочил к небу и повернулся к Черскому синим своим ребром. Это продолжалось только мгновение, но Черский успел в это мгновение увидеть приказчика, подобно белке карабкавшегося вверх по ледяному ребру, потом прыгнувшего в пустоту.
Колыма раскидывала затор, перемалывала лед, захлестывала скалы, сотрясала тайгу звоном, а Черский уже ничего не слышал. Скользя и спотыкаясь, он спускался на нижние уступы, где между ветвями поваленных лиственниц виднелось безжизненное тело Синебоева. Напрягая все свои силы, Черский поднял приказчика и вытащил на берег.
Пять минут понадобилось ему, чтобы разложить костер, раздеть и привести в сознание Синебоева. Его собаки, нарты, меха погибли.
Без жалоб и вздохов приказчик приподнялся с земли, крепко пожал руку путешественника.
– Благодарю вас, господин Черский! Вы спасли мне жизнь…
Они разошлись, не сказав друг другу больше ни слова.
Колыма очистилась ото льда через несколько дней, и Черского охватило сладостное томление предстоящих неизведанных странствий. Каждое утро он отправлялся на берег реки, садился на плешивый мокрый валун, прижимал ладонь к сердцу. Сердце стучало неровно и глухо, маленькими острыми взрывами. Сердце приказывало отдохнуть, пожить спокойно, без волнений, присмотреться к окружающему миру.
А все, что было вокруг, было огромным, таинственным и угрюмо прекрасным.
Раскидывая в воздухе крестообразные тени, громко проносились журавлиные косяки. На реке раскачивались гусиные стаи, из слепящей голубизны неба падали вскрики розовых чаек.
– Ку-ик, ку-ик, ку-ик! – вскрикивали розовые чайки. Только здесь, на реке Колыме, водились они, и Черский мечтал раздобыть два-три экземпляра для своей зоологической коллекции.
Он, притихнув, сидел на камне и щурился на широкий желтый луч еще не видимого солнца. Ему все чудилось: луч вот-вот обломится и сорвется с неба. Но луч не срывался. На душе путешественника стало светлее.
Внизу, под ногами, холодно, настойчиво и неудержимо шла Колыма.
Она шла на север, к Ледовитому океану, а на ее отмелях таяли ноздреватые льдины, желтела смешным цыплячьим пухом молодая жимолость, умирали исковерканные рекою лиственницы.
На противоположном берегу грозовыми облаками толпились вершины Сиен-Томахи. И они уходили на запад, на юг, на восток, то обрывались на севере, перед пустыми пространствами Чаун-Чукотской тундры.
Черский с удовольствием слушал любовные лебединые стоны, веселые вскрики розовых чаек, теплое гусиное гоготание. Бледный стебелек колебался у валуна: Иван Дементьевич обошел его, чтобы не покалечить первого нежного вестника весны.
Он сидел по-прежнему неподвижно и прямо, присматриваясь к окружающей прозрачной тишине рассвета, ко все растущему солнечному перу.
Опять громко и тревожно застучало сердце, ударило в ребра и заныло. Он испуганно схватился за грудь. «Я слабею с каждым часом. Ждать больше нельзя. Мы должны отправиться завтра. Что бы ни случилось со мною, мы отправимся завтра…»
Он склонялся все ниже и ниже, боясь потревожить сердце. Сердце успокоилось, зато в легких вспыхнула острая боль и мучительный кашель потряс тело.
Прижав к губам платок, он кашлял надрывно и долго, потом скомкал красную тряпку и отбросил. «Что бы со мной ни случилось, мы отправимся завтра. Я пока еще, слава богу, не умер. Я жив. Я еще мыслю, значит я существую. Значит, надо работать».
Черский поднял голову.
Огромное косматое солнце выдвигалось из-за сопок, убирая с реки тяжелые тени. Укорачиваясь, тени уходили в ущелья.
Какое же это наслаждение смотреть на встающее солнце!
Кто не зимовал на Севере, тот не поймет этого наслаждения, пронизывающего светом все тело, озаряющего не только глаза, но и мозг, зовущего вдаль. Даже грязные дороги приподнимаются над землей, постепенно возвышаясь над горизонтом.
Черский зажмурился, ощущая ласковый розовый свет на веках. Солнце ощупывало его лицо, руки, грудь, залоснилось на сапогах. Он приоткрыл глаза: два маленьких солнца играли на носках, медленно скатываясь в липкую грязь.
«Ку-ик, ку-ик, ку-ик!»
Пушистый комочек просвистел над его головой: легкая воздушная волна от сияющих крыльев обдала лицо. Розовая чайка пошла в небо бесшумной свечой. Он следил за вертикальным полетом чайки, мысленно измеряя взятую ею высоту.
За спиной раздались грузные шаги: сырая земля чавкала и вздыхала под сапогами идущего. Отец Василий высморкался, вытер кулаком нос, поправил на плече ружьишко.
– Нехорошо, Иван Дементьич! Окончательно и бесповоротно нехорошо! На тебе лица нет, температуришь, чай, а разгуливаешь по заре. Я тебе лекарство всуе даю? Сердчишко-то, чай, опять заходилось?
– Мне сегодня лучше, отец Василий. Помогла ваша наперстянка.
– Полегче? Тогда слава богу! Только что-то не верится. Больно уж ты худущий, и глаза пожелтели, и щеки подернулись прозеленью.
– Уверяю, мне значительно легче.
– Дай бог, дай бог!
Священник оперся на ружье. Лохматый добродушный гигант – один вид его успокаивал путешественника. Отец Василий внушал к себе какое-то добротное доверие: так пятистенная мужицкая изба говорит о несокрушимости бытия.
– Я тебя разыскивал, – продолжал после паузы отец Василий. – Надо нам по-серьезному потолковать. Иван Дементьич, нельзя тебе сейчас ехать. Не даю благословения на окаянный путь…
Упругий, как пружина, протестующий жест остановил попа.
– Нет нужды отговаривать меня, отец Василий. Я решил, я еду…
– Безрассудство! Безумство! Вот как сие называется. Пожалей жену, сына своего пожалей, коли себя не жаль. Что будет с ними, ежели…
Священник не договорил, испугавшись собственной фразы.
– Жена понимает все. Она продолжит мое путешествие. А сын? Саша – смелый, мужественный мальчик. С ними останется Степан. Наша экспедиция должна пойти и пойдет до конца. Не будем говорить больше об этом, отец Василий.
«Господи Иисусе Христе, вразуми раба неразумного», – подумал священник, но не посмел высказать вслух свою мысль. Насильно растянув в улыбке мясистые губы, сказал:
– Хорошо стало на Колыме-то. Самое время осетров острожить.
На рыжей густой воде играли солнечные пятна, чайки кувыркались в нарастающей голубизне неба.
– Ах, хорошо бы раздобыть экземпляр розовой чайки! Надо попросить Степана…
Гулкий выстрел расколол утреннюю тишину.
Сложив узкие крылышки, птичка рухнула на обрыв. Священник, отставив назад еще дымящееся ружье, поднял розовый теплый комочек.
– Пожалуйте, Иван Дементьич.
Черский положил на ладонь птичку. Нежные, как лепестки розы, перья, золотистая грудка, розовое брюшко, легкое оранжевое колечко на шейке сохраняли отсветы полярных сияний и северных зорь. Это чудо природы только что было живым, но смертная пленка уже задернула глазки.
И опять в его сердце возник холодок, незаметный, невесомый, но неприятный. Стало больно и трудно дышать. Он прошептал, как булыжники роняя слова:
– Надо сделать чучело розовой чайки. Будет чудесное чучело…
Резкая боль завладела каждой жилкой, каждым нервом его, и он стал опускаться на землю, держа на ладони убитую чайку.
– Что с тобой, Иван Дементьич? Да ну же, ну же! Господи боже, да что же это такое?
Черский слышал, как его звал отец Василий, но голос священника казался тусклым и таким далеким, словно он доносился с другой стороны реки…
Перед ним снова проходили неизвестные берега северной реки, неисследованные хребты, мокрая цветущая тундра, белые тени Ледовитого океана.
Черский снова стоял на грани неведомого. И неведомое казалось сейчас доступным и легким. Горестные мысли о безнадежной болезни, о вчерашнем припадке исчезли. Все существо его пронизывало одно-единственное подмывающее желание – в дорогу! Как можно скорее в дорогу!
Черский вернулся в избу, положил перед собой чистый лист, взял перо, но, прежде чем написать первое слово, задумался. Есть ли необходимость в том, что он напишет? Исполнит ли жена завещание, хватит ли у нее силы и мужества следовать по его пути? Как бы то ни было, что бы ни произошло, он должен написать завещание. Рука тряслась, и перо дрыгало, когда он писал:
«Открытый лист…»
«Открытый лист? Почему открытый? Ах, не все ли равно, я никогда не придавал значения форме! Необходимо сказать в этом листе самое главное, самое существенное…»
Он утихомирил дрожь в пальцах и вывел твердым мелким почерком:
«Экспедиция Императорской Академии наук находится в полном снаряжении к плаванию до Нижне-Колымска, и необходимые затраты для этого сделаны. Между тем серьезная болезнь, постигшая меня перед отъездом, заставляет сомневаться в том, доживу ли я даже до назначенного времени отбытия. Экспедиция, кроме геологических задач, имеет еще зоологические и ботанические, которыми заведует моя жена Мавра Павловна Черская, поэтому я делаю нижеследующее постановление…»
Черский положил перо и взглянул на вошедшую жену.
– На корме карбаса мы построили каюту. В ней тебе будет спокойно, – сообщила Мавра Павловна.
Черский проследил, как жена подняла ящик и скрылась за дверью, и снова склонился над письмом.
«…Я делаю нижеследующее постановление, которое во имя пользы для науки и задач экспедиции должно быть принято во внимание и местными властями: в случае моей смерти, где бы она меня ни застигла, экспедиция под управлением жены моей Мавры Павловны Черской должна все-таки ныне летом непременно доплыть до Нижне-Колымска… Если экспедиция 1892 года не состоится в случае моей смерти, Академия должна потерпеть крупные убытки и ущерб в научных результатах, а на меня, вернее, на мое имя, до сих пор ничем не запятнанное, ложится вся тяжесть неудачи. Только по возвращении экспедиции обратно в Верхне-Колымск она должна считаться законченной».








