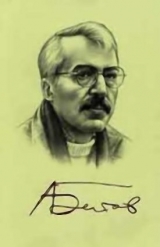
Текст книги "Ожидание обезьян"
Автор книги: Андрей Битов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Вызвавший мое восхищение мафиози стал слишком много говорить о кино, обращаясь все больше к режиссеру (одна порода!) почему-то по имени Федерико. Слава наша бежала уже впереди нас, как большая собака, как гладкий вал ленивого прибоя и, наконец, как мы сами в собственных глазах. В каждой кофейне объявлялось шампанское, нас любили. Единение искусства и спорта – вот что такое кино, и лучше места, чем курорт вне сезона, не найти для такой встречи. Это именно для них пустуют пляжи, и рестораны, и отели – для киногрупп и сборных.
Нас сводит Марксэн, экс-рекордсмен мира по стрельбе из пистолета, так и не снявший с глаз своих оптических прицелов, а ныне врач-сердечник и холостяк, пользовавший по специальности всех не утративших привлекательности и приобретший даже некоторую таинственность местных вдов, наперсник осенних их тайн и наш общий друг, нас пока, к счастью, не лечивший: у всех нас был пока один-единственный залетевший в нашу молодящуюся компанию, неожиданный и яркий, как птичка колибри, микроинфаркт Даура…
Обойдя все кофейни, придется зайти и к врачу-рекордсмену. Здесь покажет он нам свою библиотеку, этот все читавший человек. Камю и Борхес! знали б вы… кто первым прочтет вас в России! Он снимет свои очки и обнажит такие беспомощные глаза, что и руки, протирающие очки, покажутся вдруг дрожащими и белыми, как воск, как трепещущая свеча, – однако не дрогнула ни рука, ни глаз, когда он выбил 599 из шестисот. Режиссер, как всегда, «заказывал», то есть завел беседу о спорте, проникновенную, в самую его суть. Сам он похвастаться в прошлом такими же достижениями не мог, поэтому пытался победить чемпиона в понимании феномена. Не тут-то было!
…Марксэн родился слепым и таким рос в абхазской деревне, родители же не догадывались надеть на него очки (минус 20, констатировал он скромно). Сверстников уже водили на охоту, слепого что водить? Вот он однажды, когда дома никого не было, нацепил очки своей столетней бабки, схватил мелкашку и выскочил во двор, ослепленный зрением, ища, в кого выстрелить. Не мог он, конечно, стрелять в домашних животных. И вдруг видит, метрах в пятидесяти по речке плывут дикие утки. Выстрелил раз – промазал, уточка продолжала плыть, он в другую – то же самое, он в третью… только на пятой он заметил, что они после выстрела прятали голову. Он проверил свое наблюдение на шестой и седьмой – тот же эффект: они нежно и застенчиво склоняли головку, но продолжали плыть той же чередой, устойчивые, как кораблики. И тут с проклятиями прибежал сосед, у которого он, оказывается, перестрелял всех подсадных уток, попав каждой в глаз, а плыть они продолжали по течению.
«Была темная, темная ночь; дождь лил как из ведра…» Отец его был грузин, мать абхазка, но бабушка еврейка, дореволюционная революционерка, – вот откуда у него имя Марксэн. Родителей посадили в 37-м, так он и попал в деревню к своему абхазскому дедушке. Уже тогда, в 37-м, он прозрел: он их ненавидел, он и Маркса и Энгельса маму… Сами понимаете, куда ему, маленькому слепому, с таким именем, сыну репрессированных родителей? Одна дорога – в спорт. Он сказал, что мозг, глаз, рука, ствол и мишень во время стрельбы являются не просто одной линией, но как бы перетянутой струной, которая поет на ветру, и тогда он учитывает и направление ветра, и дрожание нагретого воздуха, если солнце… Как раз в Италии была такая жара, когда он… Мозг и мишень становятся одной точкой, равной пуле, – он чувствует движение пули в стволе во время стрельбы…
Режиссер закусил губу: он думал о том, что какая, к черту, «Дама с собачкой», когда вот про кого надо немедленно снимать фильм – готовый сценарий! Актера, актера настоящего нет… Ах, был бы жив Цибульский… Задетый за живое тем, что режиссер так быстро натянул все одеяло (Марксэна) на себя, я попросил его показать нам оружие. Тут-то мы и услышали все об униженном положении спортсмена в советском спорте: у него ничего не было! У него не было своего пистолета – пистолет был государственный, незаконно причисленный к боевому оружию. Только рукоятка – вот что у него осталось на память о мировом рекорде и двадцати годах жизни. Смущенный ничтожеством результата всей жизни, он нежно развернул фланелевую тряпочку, будто в ней был трупик ребенка. Там лежала небывалая кость…
Она повторяла кисть рекордсмена изнутри; эти обратные вмятины были неузнаваемы, как не встречающаяся в природе форма; она была как смерть. Это и была посмертная маска, вернее, ее изначальная форма, в которой отливается потом утративший жизнь лик. Маска руки (снимается же и она с руки великого пианиста…). Эта смерть была тепла, потому что была дерево. Редкое дерево, редкой твердости породы, отполированное рукой умельца, изготовлявшего рукоять в единственном экземпляре под единственную руку, а потом отшлифованное этой единственной рукою, нажимавшей курок сотни тысяч раз. Не было курка, не было ствола. Она была пуста, как череп. Я погрел ее в своей – это было как рукопожатие. (Никак я не предполагал, что подобное чувство, испытанное впервые, доведется пережить еще раз в течение суток…)
Он никого никогда не убивал, кроме тех уточек, ненавидел охоту и рыбалку. Но вот кого бы он не задумываясь застрелил, хоть в упор, так этого кровососа… Как стрелок и философ он знал, что такое убийство, и ненавидел убийц. В Берию с любого расстояния попал бы… В глаз даже легче – пенсне бы его посверкивало, в этот блик он бы и прицелился. Хоть два километра, хоть две мили…
– Майлз?.. – очнулся англичанин. – Ю хэв рашн майлз?
– Доунт ворри, – успокоил его Марксэн. Он как раз начал заниматься английским. Смесь еврейской, грузинской и абхазской кровей делала его интернационалистом, а не только ненавистником палачей.
Продолжая выбор натуры, на киношном автобусике и двух машинах (мафиози и сотрудника обезьянника) мы наконец повернули от моря и стали забираться вверх вдоль реки по имени Вода… Что-то мне что-то напоминало. Не здесь ли мы ловили с отцом форель и хариуса зимой 54-го, когда он строил в Сочи свой санаторий? Он ловил, а я бродил – это была его педагогическая мера, взять меня с собой на стройку, а моя первая ссылка. Меня разлучали с моей первой женщиной, которая была сочтена на тайном семейном совете «не парой». Я писал письма, секретно бегал на «до востребования» и не получал ответа. Плоть свою я усмирял непрестанным боди-билдингом, мои бицепсы выросли на два с половиной сантиметра. Бедный мой отец! И он, оказывается, усмирял свою плоть рыбалкой, кто бы мог подумать… Человек, которому за пятьдесят! (52) На «до востребовании» получил я наконец письмо, адресованное ему, и прочитал его… Я не мог отдать тебе его вскрытым! И когда ты, смущаясь, плутая по придаточным предложениям, все-таки спросил меня напрямую, не получил ли я не свое письмо по ошибке, я решительно отрицал. Через четверть века, когда я помогал тебе принять ванну и чуть не рыдал над твоим немощным отсутствием тела с разросшимися родинками, ты остался в трусах, пояснив (какие ты нашел слова!), что сын не должен видеть срама отца своего. Какую Библию ты читал?! Ее отродясь дома не было. Разговоры о хамах, конечно, были.
– Не учи отца е……., – слышу я. – Это здесь.
Мы тормозим.
Значит, уже тогда видел я этот дом… С мезонином, между прочим. За кустами, за платанами, за лужайкой, он пустует, но так, будто только что, будто как раз съехали дачники. Дом, в котором вырос мальчик Лаврентий. Может, именно в этих густых кустах умучил будущий Берия свою первую кошечку. Она ему не давала, царапалась. И он ее убил. Впрочем, это у попа была собака. Так он и его убил, попа. Убил за то, что у него съели кусок мяса. Хоть и собака. Но вряд ли он убил попа за то, что тот убил собаку. Скорее за то, что у него она была. Еще больше за то, что он любил…
– Он ее любил…
– Кого мог любить этот вурдалак!
– Я точно знаю эту историю, – настаивал режиссер. – Я с ней лично знаком. Он увидел ее в бинокль из своего особняка на Садово-Кудринской, она шла из школы, у нее уже тогда были полные ноги, и он ими залюбовался.
– «Худощавая, но с полными ногами…» – Кто это процитировал? Конечно, Даур. – Недавно стала жрицей… – Он шпарит «Письма к римскому другу» наизусть. – Жрицей стала и беседует с богами…
– Кто это написал? – всполошился режиссер.
– Саундс лайк Джозеф, – отметил англичанин.
– А что, может, он и слышал эту историю, – отвечал я на правах личного знакомства с поэтом. – Его всегда такие вещи занимали.
– Да, понта тут не занимать…
– В смысле Евксинского?
Мы возлежали на лужайке возле дома Берии и любовались открывающимся видом: налево вверх убегали горы, направо вниз долина расширялась, подразумевая море…
Шампанское, однако, кончилось, и англичанина развезло.
– Завтра. Завтра будет туморроу. Завтра все будет, – пояснял ему сотрудник. – И обезьяны, и туморроу…
Все-таки ОН был прав насчет пузырьковых: шампанское утомляет. Англичанин крепко спал, но и остальные подремывали. Только за моей спиной мафиози с Дауром вели разговор по-абхазски. Я прислушался: о тех же абузинах. Я прислушался: абхазский есть самый непонятный язык! Это какой-то шорох дракона о скалу. Когда они еще были… «Я вижу мир покрытым институтами абхазоведения», – сказал Мандельштам. Звук древнее речи. Звуки абхазской речи сливаются как бы не в слова, а только в одно слово, сколь угодно длинное, равное длине всей произнесенной фразы. Будто пейзаж, и действие, и действующее лицо, и время действия не разделены на подлежащее, сказуемое, определение и дополнение, а содержатся все в каждый раз заново зарожденном одном слове. То есть реальность не расслоена, а заключена в нем. Оттого никто и не знает абхазского языка, включая самих абхазов, что вдохнуть его надо вместе с реальностью с самого рождения. По тому, насколько естественно для них говорить по-абхазски, сегодня можно сразу заключить, что оба из деревни, родились и выросли. Трудно поверить, что язык умирает, когда на нем так говорят хотя бы двое, как Даур с мафиози. «Абузин» было не словом, а слогом того или иного длинного слова, которое бывало настолько длинным, насколько хватало дыхания. Этот отмечаемый мною слог перемещался по слову-фразе, становясь то в начало, то в конец, то в середину. Тон мафиози был решительным насчет «абузинов», а Даур умиротворял. Так я их понимал. Мне очень хотелось уже расспросить об этих головорезах абузинах, чего они хотят и чего не поделили. Но это, казалось, настолько все, кроме меня, знали, что я по-детски боялся спросить, чтобы не утратить качества «своего», столь лестного и не каждому даруемого.
– Из от олреди туморроу? – проснулся англичанин.
– Пока еще вчера, – остроумно отвечали мы ему. – Вчера у меня еще есть бутылка виски, – отвечал он. Мы по достоинству оценили его чувство юмора, пройдя за ним в отель.
– Ноу айс, – извинялся англичанин, доставая трехгранную бутылку с индюком.
– Он сказал, что нет стаканов, – перевел Даур.
– Нет проблем, – сказал мафиози, не подозревая, что переводит с английского.
Толиаслан уже вносил стаканы.
Мы слегка обсудили тему национального юмора. Марксэн, по-видимому борясь в себе с тремя, объявил, что никакого национального чувства юмора быть не может.
– Какой такой абхазский, грузинский, русский юмор? Смешно или не смешно вот юмор.
– Одним смешно, а другим не смешно.
– То есть русскому, скажем, смешно, а немцу не очень?
– Или немцу смешно, а русскому совсем не смешно…
– Или грузину смешно, а абхазу нет…
– Тогда абхазу совсем не смешно, если грузину смешно… – Еврейский юмор всем смешон…
– Если он еврейский на самом деле, – сказал Марксэн.
– Ты хочешь сказать, что их придумывают сами русские? Тогда бы это не было так смешно.
– Что ты имеешь против русских?
– Я? Никогда. Серож, армянский юмор есть? Серож надолго задумался, а затем обиделся:
– Ты что, опять армянское радио имеешь в виду? Это не армянский юмор.
– Хорошо, если армянский юмор придумали не армяне, а еврейский не евреи, а чукотский, уж точно, не сами чукчи, то кто же?
– Английский юмор тоже не английский?
– Я согласен с такой точкой зрения, что это вопрос больше импорта, чем экспорта, – сказал англичанин.
Мы захохотали, и англичанин не понял над чем.
– Мне другое смешно, – сказал он, обводя рукою свой роскошный, на наш взгляд, номер. – В России так много леса…
Мы проследили за его рукой, словно он показывал нам на рощу.
Номер и впрямь был весь обшит деревом, вернее, такой импортной, как раз скорее финской, чем русской, фанерой под дерево.
– И вот я не могу понять… Столько леса – и ни одного шкафа. Некуда ту пут клос…
Наши куртки были свалены посреди его безбрежной кровати, на ней же мы и сидели.
– Это как раз понятно, – сказали мы.
– Уай??
– Сметы не хватило.
– Чего-чего? – сказал англичанин совершенно по-воронежски.
– Ну, средств, денег.
– На дерево хватило, а на шкаф не хватило?
Он закружил по комнате, стукаясь о стены. Они отзывались звуком пушечного выстрела…
– Зачем столько?!
– Фонды.
– Фонды? Вы имеете в виду ваш план? Что, вам прислали больше фанеры, чем денег? Но ведь лишняя фанера – это ваши деньги!
Мы опять смеялись, и англичанин не мог понять над чем. Как мы могли объяснить, что не над его непониманием нашей экономики. А над тем, что «фанера» на жаргоне и означает деньги.
– Фанера – это капуста, – пробовал пояснить кто-то, но это был неудачный перевод.
– Фанера – это фанера.
Перевод был уточнен, и словно в доказательство этой высшей точности она вдруг гулко взорвалась, выстрелила и смолкла.
– Что это, что это! – Англичанин вскочил в испуге, указывая на потолок.
Кто-то снова пробежал по нему, издавая цепкий грохот. Мы не стали разъяснять ему, что это была крыса, а может, и кошка. Мы сказали «мышка». Не стали позорить державу.
– Зачем тогда такие низкие потолки?
– Фанеры не хватило.
– В смысле денег?
– Нет, в смысле фанеры.
– Это русский юмор?
– Нет, экономика. Из фанеры сделали деньги.
– То есть из фанеры фанеру?
– Вы схватываете на лету. Вы же, в отличие от нас, знаете, что такое город третьей категории.
– О, Воронеж!.. – Англичанин мечтательно завел глаза. Мы выпили за Воронеж. Согласитесь, это роднит наши просторы, когда англичанин пьет в Сухуме за Воронеж. Сплачивает империю.
– Летс кол ит икспириенс, – сказал англичанин.
Значит, так. Англичанин приехал в Советский Союз, чтобы собрать материал для диплома (тут мы так и не выяснили, что у них диплом, а что диссертация: то, что у нас диссертация, у них диплом, или наоборот). Он приехал изучить наш опыт, потому что у них в Британии есть тоже некоторый такой опыт. Опыт содержания обезьян в не близких им климатических зонах в близких к природным условиях. Иначе, на воле. Он много слышал об обезьяньем питомнике в Сухуме и считал, что именно там может быть накоплен этот некоторый опыт. Но ему сказали, что такой опыт широко распространен не только в Сухуме, но и по всему Союзу. Что разведение обезьян есть уже прэктис, а не опыт (по-видимому, что англичанин понял уже в Воронеже, они путали понятия «икспириенс» и «эксперимент»). По-видимому, и прэктис они перепутали с практикой (в смысле студенческой) и так направили его на практику в Воронеж, где однажды, риалли, был поставлен эксперимент с обезьянами, живущими в близких к воронежским условиях, но обезьяны подохли через неделю, так что эксперимент, может быть, и был, но экспириенса практически не было, о чем он тут же и рапортовал в Москву с просьбой перевести его все-таки в Сухум. Он рапортовал и рапортовал, продолжая жить в студенческом общежитии (о, вы не знаете, что это в городе третьей категории!), пока не вышел срок его стажировки, и тогда он решил просто проверить, есть ли такое место, как на карте, Сухум, и, он хиз оун икспенсиз, то есть на свои собственные, добрался сюда, что было тоже не очень просто – получить разрешение, поэтому ему удалось это только через «Интурист», как частное лицо, и вот теперь, когда он встретил мистер Драгамащенка (вот как, оказывается, звали сотрудника – еще и украинец в нашей компании…), и вот Сухум правда, риалли, есть, и мистер Драгамащенка обещал, что постарается сделать все возможное… но вот они встречаются уже третий день, а он не может так долго платить за отель, будто это пять звездочек, а шкафа нет…
Антиаслан сказал, что пять звездочек будут сейчас, и не успела по потолку пробежать новая крыса, тут же объявился с бутылкой коньяка. Англичанин пересчитывал звездочки на бутылке и не то смеялся, не то плакал.
– Сон, сон, сон! – провозгласил англичанин. – Вы меня заебучили. Сон есть кратчайшее расстояние между двумя пьянками.
Режиссера и мафиози уже не было.
Мистер Драгамащенка отвел меня под локоток: «Вы не могли бы меня выручить?»
Сами видите, в каком он состоянии… («Ноу мор. Ту слип», – бормотал англичанин.) У нас по пятницам встреча с интересными людьми. Ну, собирается узкий крут сотрудников, свободная беседа… Можете говорить о чем хотите… Вас хорошо знают, сказал он убежденно, из чего я вывел, что он-то обо мне впервые слышит. Это, впрочем, меня не задевало (или я обучил себя не задеваться?). После встречи небольшой чай, там же в лаборатории…
Чай, конечно, менял дело. Это неплохо, чай из колбочек и пробирок. ОН меня толкал согласиться. Сами видите… Неудобно в таком виде… Иностранец все-таки… А соотечественника – удобно? Соотечественник – понятно, да и вы молодцом…
Молодцом… пятница… я думал, четверг. Я мог гордиться собою. Чем я не «интересный человек»? По крайней мере сегодня я очень интересный человек. Кто знает здесь, что один из нас (я подумал о себе в третьем лице) только что закончил ВЕЩЬ! Для меня все еще оставалась среда, когда я наконец-то, после месячных усилий, сел за машинку… Мне казалось, что прошла одна ночь, оказалось, две. О, это признак! Это вселяет надежду. Я еще не читал, что там оказалось написано, но раз не помню, то, может быть, и текст. Помню, что последнее, что описывал, был двор – в него я и вышел.
Я вышел из НЕГО. Я мог и ИМ сегодня гордиться. Шуточное ли дело – две бессонных ночи (может, я где-то и прикорнул часа на три, но в том же курятнике, не раздеваясь, как цыпленок на насесте), сорок страниц непрерывного текста, около двух поллитр уже, не считая шампанского, которое я выпил сам… Это не всякому, это не всякий…
А была уже пятница. И всего лишь полдень. Вчерашний день просвистел, как пуля у виска. Мы, то, что осталось от компании – Марксэн, Даур и я, ехали в «Запорожце» сотрудника Драгамащенка. От предстоящей мне ответственности я окончательно протрезвел, и кое-что прояснилось. С англичанином возникли сложности. Отказать ему, сами понимаете, неловко, но дорога к месту расселения обезьян пролегала мимо «объекта». Что это был за объект, сотрудник и мне не сказал, но я так понял, что англичанину обезьян не видать. А мне, сказал сотрудник, меня и имея в виду, если меня это интересует, можно это устроить. Они не могут заплатить мне за выступление, но вот это могут: хоть завтра возьмут институтский автобус и поедут, кстати и проверят, как идет подготовка к зиме, зима – главная для обезьян проблема, прошлая была тяжелая зима, много снега, трудно проехать и морозы до двадцати пяти доходили там, в горах, где обезьяны, и у них слегка подмерзли хвосты, а в остальном они выдержали, и раз они выдержали эту зиму, то выдержат и следующие, только, конечно, их надо поддерживать, у них есть домики от непогоды, и подкармливать их надо, а так они на воле, можно считать… Да вы сами увидите. Лучше ли им на свободе? Об этом не может быть и речи, вы бы только поглядели на этих красавцев! Какие гривы! Это же львы, а не обезьяны… Наличие живого чувства в устах обезьяньего, оказывается, сотрудника порадовало меня. Что-то зашевелилось там, на дне моей было опустевшей писательской утробы, и стало стремительно разбухать и распирать наподобие замысла. Советские обезьяны… Освобождение обезьяны… Русская обезьяна… Обезьяна, живущая на воле в условиях социалистического общества… Без клетки… Обезьянья воля… Республика обезьян… Обезьянья АССР… ОбзАССР… Так, нельзя – все обидятся. Обезьяны не обидятся. Главное, не обижать обезьянок. Их-то уж я не дам в обиду. Нет, это можно, нужно написать! «Дали свободу… разрослись гривы, зато подмерзли хвосты… нуждаются в подкормке…» Что-то в этом есть! Всегда я залетаю с первого раза… А потом годами не могу разродиться. Плод давит на плод. Масса начинает бродить. Вина уже не получилось – приходится гнать самогон.
Его же и пить. Мы хлебнули по стаканчику чачи у Даура, куда заскочили сменить рубашку и принять душ. Получилось – не за этим: воду опять в Сухуме отключили и рубашка Даура на меня не налезла. Я завернул рукава повыше. ОН не удержался и поглядел в зеркало, я и сам себе понравился. Я усадил ЕГО на толчок, и пока ОН тужился, я гнался за обезьянами. Говорят, очень красивое место и живописная дорога… Пусть туда едут со мной человек шесть специалистов по обезьянам, пусть я их расспрашиваю об обезьянах, как в свое время доктора Д. о птицах, пусть они будут разных национальностей: абхаз, грузин, армянин, грек, еврей, русский… можно и англичайнина захватить… украинца не надо… пусть они будут жители и патриоты именно этой земли… пусть они будут такие любители-историки, как все они тут, в провинции… пусть они мне ненароком расскажут историю края и ненароком же заспорят, кто из них коренной житель, кто кореннее… пусть из спора вырастет ссора между грузином и абхазом, между грузином и армянином, между… нет, с евреем я ни за что ссориться не буду… это наши дела… «то давний спор славян между собою»… а что, в такой компании еврей скорее уж славянин… не грузин же, не армянин и не грек точно… да и такой ли уж не еврей русский?.. евреи-то скорее русские, чем мы… они всякий раз жить здесь собираются, а мы каждый раз жить не хотим… опять за свое! ты же к обезьянам едешь… да, но не доехал же еще!.. о чем они ссорятся?.. ну, это понятное дело, надо только уточнить в деталях… абхаз, естественно, о грузинизации, о ликвидации абхазских школ, о записании абхазов в грузины… грузин, естественно, не выдерживает такой исторической несправедливости и говорит: что, мы вам в 1978-м телевидение не дали, университет не дали?.. вот сам говоришь: «дали». Дали, потому что взяли, отняли, сначала отняли, а потом дали… что у вас отнимать? у вас и письменности не было… зато абхазы сколько веков были грузинскими царями!.. что! абхазы – царями?! у нас?! ха-ха-ха… грузины вообще не воевали, воевали горцы – черкесы, абхазы, осетины, а вы всегда под кем-нибудь были… под персами, монголами, русскими… а вы-то где были? вы же всегда под нами были, вы всегда были Грузией, да вы и есть грузины… тут они вступают в рукопашную, между ними начинается национальная борьба, как она называется? Сталин еще первую большевистскую газету выпускал? «Борба»? «Дзорба»? «Кобра»?.. кстати, где газета?.. вот газета… газета есть… тут не совсем правда… они впрямую так никогда говорить не будут, а то зарежут друг друга… они так третьему лицу, то есть третьей национальности, порознь друг от друга скажут… а что им скажет лицо третьей национальности?.. оно им скажет, что они зря дерутся, потому что в любом случае до них обоих тут была греческая колония (если лицо грек)… если же лицо – армянин, то оно скажет, что еще во времена ассирийские здесь была только армянская земля… тут все накинутся на армянина: ну да, Нефертити армянка, Наполеон армянин, Леонардо да Винчи армянин… а тут и спорить нечего, скажет армянин, что спорить, если они армяне… один русский будет скромно молчать да на ус мотать, потому что что спорить, что когда было, когда России еще не было? Когда России еще не было, то, пожалуйста, чья угодно могла быть эта земля, а только уж как появилась Россия, то чья же это еще земля могла бы быть?.. не турецкая же?.. вам что, туретчины захотелось?.. вы же христиане, побойтесь Бога… вот что не скажет никогда русский, пока они спорят по дороге к обезьянам, начисто про них забыв… русский же и на пейзажи любуется, отвоевывая их пядь за пядью у бусурман для своей книжечки, которая, как же она будет называться? «Обезьяна сапиенс»… неплохо… «Хомо двуногус» – как нога по-латыни? ну, ну?! ну, которые инвалидные ботинки делают?.. ортопеды, вот! так что же, орто– или педы-? орто-докс, педа-гог, педи-атр, педе-раст… «Хомо педис», смешно… нет, педы – это дети… что-то не то… Сейчас, сейчас! Уже готов, выхожу…
Вот что вышло. Пока я готовился к выступлению, Даур наширялся у своего соседа-грека, замечательного тем, что как только получили они квартиры в этом новом доме, то Даур ничего делать не стал, потому что денег не было на ремонт и потому что творческий работник (сапиенс сапиенс), а грек, потому что шофер на мебельном комбинате, рабочий человек, человек умелый (сапиенс хабилис), тут же взялся все отделывать своими руками дубом, все – и паркет, и стены, и потолок, и ванну, – и так четыре года, а когда все сделал, взял топор и изрубил все обратно в мелкие дребезги, после чего сделался задумчив и нелюдим (я его так ни разу и не видел) и мог общаться с одним Дауром. Я, конечно, не сразу догадался, зачем Даур удалялся к соседу-греку, может, потому что я занял его место так надолго, но понял я это, когда мы стояли перед аудиторией, состоявшей в основном из сотрудниц до тридцати лет, причем некоторые были даже хорошенькие (три из семи), а нас (ОН тут же за меня подсчитал) как раз трое и было: Драгамащенка, Даур да я… Драгамащенка представил публике Даура, человека в городе всем известного, который должен был представить меня, человека всем известного, но неизвестного в городе, рассказать, так сказать, о моем творческом пути. Даур смело вышел вперед, сказал, что они видят перед собой человека прежде всего интересного тем, что он… тут. Я замер в ожидании, в преддверии искреннего восхищения и наигранного смущения, ибо редко встречал я подобный дар красноречия, как у Даура. Как тамада он забивает всех, затыкает за пояс, особенно в присутствии дам он особенно красноречив и остроумен, так что я ему даже зачастую завидовал: настолько он меня в подобных случаях превосходил, что я, пользуясь преимуществом старшего по возрасту, лишь принимал позу учителя, любующегося своим учеником и одобряющего каждое его слово… Даур вздохнул всей грудью и больше не выдохнул. Так по крайней мере казалось. Он стоял выкатив грудь, округлив глаза и рот, и мы благожелательно выжидали его точного слова. Девушка, в которую уперся его взгляд, начала неудержимо краснеть, по лицу Даура струился пот, но следующее слово так и не родилось, Драгамащенка зааплодировал, Даур выдохнул наконец и сел, а я встал.
Человек есть человек, то есть очень слаб. Я не мог не расцвести подчеркнуто пышным цветом на фоне предыдущего оратора. Раз они были биологи, то, конечно же, что они в биологии понимали?.. И конечно, это должен был быть именно я, чтобы научить их понимать собственный предмет. Я говорил им о…
Ночное вдохновение еще кипело во мне. Там я так и не договорил, закончив. Как всегда, ради чего все и пишешь, те две-три мысли, что так беспокоили тебя до такой степени, что даже тебя усадили за стол выразить их, то именно эти две и оказались никак не высказанными: ни я, ни Павел Петрович их так и не додумали, сколько ни пили, так и вышел я, пройдя текст навылет, с ними же двумя в руках, никуда по дороге не пристроив. Даже Павел Петрович не успел их мне растолковать.
– Свинья… – говорил за меня девушкам Павел Петрович. – Можете ли вы мне объяснить, с чем связано такое традиционно пренебрежительное, неблагодарное и хамское (вот видите, я чуть не сказал – свинское) отношение к этому изумительному животному? – Павел Петрович, по-видимому, решил продолжить свою идею Творца как художника, изобличившего себя созданием воды. – Свинья не только чистоплотное, умное, но и наиболее совершенное существо в природоподобной системе крестьянского двора. Проблема безотходности производства, неразрешимая в условиях технического прогресса конца двадцатого века, была разрешена на заре развития человечества изобретением, подчеркиваю, изобретением Свиньи! Ничто в истории человеческой цивилизации не повторило так совершенно Творение, уподобившись ему, как крестьянский двор. Это картина Творения в раме забора. Забор, ОГОРОД – вот изобретение, равное колесу. Изначально он и был круглым. Только раздел, наличие соседа придали ему прямоугольность…
Полная неожиданность слова «прямоугольность» потрясла оратора, и он окинул все взором и выбрал себе блондиночку, которая мне лично не понравилась (я приглядывался к другой), зато нам обоим в одном лице делала знаки третья, машинисточка знакомого издательства, меня смутил ее застенчивый призыв: вот кого следовало избежать да не обидеть… Сорвавшись с языка, «прямоугольность» вдохновила его, и далее он с легкостью обнаруживал связь между следующими словами: Россия, колхоз, номады, нейтронная бомба, «без единого гвоздя», пожар, «с навозом в руках», плот и церковь, «восемнадцать войн с Турцией. – и никаких Дарданелл», викинги, тевтоны, шведы, татары, литовцы, поляки, Ермак, «нах остен», болото, прорубить окно, Сибирь, ареал, Европа, тундра, лошади, шкуры, бабы, вырезать скот, первобытные племена, самогон, ледостав, пельмени, пальмы. Калифорния… «Жаль Аляску!» Хрущев…
Господи! куда его несло… Это он перед блондиночкой приблизительно излагал не свои сомнительные идеи, их у него отродясь не было, и даже не мои, а нашего давнего приятеля доктора Д., которые тот лишь однажды мне разболтал и на следующий день вернул обратно…
Но ничего, про Хрущева уже можно, это даже поощряется, про Хрущева… Пусть плетет.
– Хрущев вообще был человек широкий. Даты при нем не были в таком почете, как сейчас. Ему что год, что «один день»… (Нет, про Солженицына лучше не надо.) Что 250-летие Петербурга, что 300-летие Петра, что 100-летие крепостного права… что Аляска, что Куба… кукуруза…
– Про Ермака Тимофеевича позвольте с вами не согласиться, – спасительно вклинился Драгамащенка. – Оригинальная, но несколько схематичная концепция. Из избы, положим, еще можно плот связать, но из плота – сани!.. (В аудитории раздался подобострастный смешок.) Не такие уж мы номады…
– Как не номады?! – вспылил уже я. – А что все эти массовые перемещения людей – целина, комсомольские стройки, БАМ – кто, кроме номадов, на такое согласится?..
– И вот еще недопонял. – Драгамащенка учел, что возражать и поправлять тут опасно. – Почему именно свинья – царь зверей?
– Потому что она венчает пирамиду крестьянского двора. Она его замок. Что нам прежде всего свидетельствует о присутствии хозяина? Замок, на который он запирает ворота своего хозяйства. Это – его. Замок замыкает цепь. Свинья замыкает двор, придавая ему совершенство природы, выдает в хозяине – творца. Потому что творца выдает – замысел. Замысел невоплотим в принципе. Концы с концами никогда не сходятся и не сойдутся. Их можно только завязать узлом. Замысел всегда торчит. Его не скроешь. Его можно пытаться скрыть. Хорошо, тогда объясните мне, зачем нефть? Почему, до человека, по всей земле равномерно накопаны эти отхожие места живой природы? Будто они задуманы для будущего человека. Ни одна ведь из гипотез происхождения угля и нефти до сих пор никого не убедила. А разве Земля, допустив на себе развитие жизни и цепную реакцию эволюции, не была бы погребена под отходами жизни и продуктами распада и разложения, если бы не эти аккуратные мешочки с нефтью? Разве крестьянский двор не подобен равновесной экологической системе именно благодаря свинье? Не сыграла ли нефть роль такой же изобретенной свиньи для всей природы? Хорошо, тогда скажите, зачем человеческому виду девственность, у каких видов животных она еще встречается и есть ли она у вашей матушки обезьяны? Что это за мембрана такая, рассчитанная на один раз?








