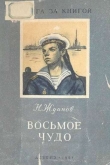Текст книги "Чудо человека (сборник)"
Автор книги: Андрей Балабуха
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Дмитрий Константинович, распалившись, вдруг разразился целой тирадой. Художники – инженеры человеческих душ. Но до сих пор они могли воздействовать на эти самые души только опосредованно, через свои произведения. Теперь же открывается новая эра. Художники станут подлинными мастерами, ваятелями, творцами душ. И первым искусством, совершившим это, окажется музыка – самое человечное изо всех искусств.
И снова говорил Николай. Какие же перспективы откроются? Реализуются потенции, делающие человека математиком, художником или музыкантом, когда ему под гипнозом внушают, что он Лобачевский, Репин или Паганини? А может быть, осуществятся телепатия, телекинез, левитация? Или просто гармонизируется внутренняя деятельность человека? Ведь есть же мнение, что незадействованные проценты мозга работают на обеспечение бессознательной жизнедеятельности организма. Тогда – человек, не знающий болезней. Человек Здоровый. Или…
И вдруг до Дмитрия Константиновича дошло: завтра. Опыт будет завтра!
– А кто… объект? – внезапно спросил он, слегка запнувшись на этом слове.
– Я, – коротко ответил Леонид.
В комнате стало тихо.
Очень тихо.
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Николай притушил сигарету. Чашка Петри уже была полна окурков.
– Кажется, все. Блокировка не сработала – значит, с ним ничего не случилось. Во всяком случае, ничего плохого
Дмитрий Константинович молча кивнул. Последние минуты были невыносимо длинными, сделанными из чего-то фантастически тягучего и липкого. Казалось, сейчас можно ощутить квант времени, как виден в абсолютной темноте квант света. Он был уверен, что сделанное им никуда не годится, что этот рискованный эксперимент – попытка с негодными средствами. Он достал пакетик и вылущил две таблетки,
– Коля, – сказал он тихо и вдруг впервые обратился к Николаю на «ты», – принеси мне, пожалуйста, воды.
Николай встал, сделал шаг. И замер. Леонид все еще сидел, откинувшись на спинку кресла, глаза его были закрыты. Но «фен» вдруг стал приподниматься над головой, словно отходящие от него провода приобрели жесткость и потянули колпак вверх, потом медленно – очень медленно – поплыл по воздуху и лег на панель пульта. У Николая перехватило дыхание: похоже, питекантроп познал-таки тайны звездолета.
Сзади хрипло, с надрывом дышал Дмитрий Константинович.
Леонид открыл глаза и начал медленно подниматься из кресла.
Сегодняшняя гениальность, понял Николай, телепатия, телекинез, левитация… Нет! Не то! Ибо все это частности, а теперь мы встаем перед их суммой – полным управлением окружающей средой. И понадобятся совершенно новые понятия, неведомые пока человеческому сознанию и языку.
Мысль была смутной, он сам еще не мог постичь ее до конца, но она упорно билась в мозгу, словно проникая откуда-то извне. Или это не его мысль?
Сейчас Леонид повернется и скажет…
1971
МАЛЕНЬКИЙ ПОЛУСТАНОК В НОЧИ
I
Света Баржин зажигать не стал. Отработанным движением повесив плащ на вешалку, он прошел в комнату и сел в кресло. Закурил. Дым показался каким-то сладковатым, неприятным, – и то сказать, третья пачка за сегодня…
В квартире стояла тишина. Особая, электрическая – вот утробно заворчал на кухне холодильник; чуть слышно стрекотал в прихожей счетчик – современный эквивалент сверчка; замурлыкал свою песенку кондиционер… было в этой тишине что-то чужое, тоскливое.
Баржин протянул руку и дернул шнурок торшера. Темнота сгустилась, словно услужливые максвелловские демоны согнали блуждающие фотоны в яркий конус, разделив полумрак комнаты на свет и тьму, из которой пялилось белесое бельмо кинескопа. Смотреть на него было неприятно.
"Эк меня, – подумал Баржин. – А впрочем, кого бы не развезло после столь блистательного провала? И всякому на моем месте было бы так же худо. Ведь как все гладко шло, на диво просто гладко. Со ступеньки на ступеньку. От опыта к опыту. От идеи к идее. И вдруг, разом, – все. Правда, сделано и без того немало Что ж, будем разрабатывать лонг-стресс. Обсасывать и доводить. Тоже неплохо. И вообще… "Камин затоплю, буду пить, Хорошо бы собаку купить… " Может, и в самом деле напиться?"
Он встал, прошелся по комнате. Постоял у окна, глядя, как стекают по стеклу дождевые капли, потом прошел в спальню и открыл дверь в "тещину комнату". "Хотел бы я знать, – подумал он, – что имели в виду проектировщики, вычерчивая на своих ватманах эти закуты? Как только их не используют: и фотолаборатории делают, и библиотеки. и просто чуланы… Но для чего они предназначались первоначально?" Впрочем, ему эта конура очень пригодилась. Он щелкнул выключателем и шагнул внутрь, к тепло и влажно поблескивающим желтым лаком секциям картотеки. Баржин погладил рукой их скользкую поверхность, выдвинул и задвинул несколько ящиков, бесцельно провел пальцем по торцам карточек… Нет, что ни говори, а сама картотека получилась очень неплохой. И форму для карточек он подобрал удобную. Да и мудрено ей было оказаться неудачной – ведь позаимствовал ее Баржин у картотеки Второго Бюро, на описание которой наткнулся в свое время в какой-то книге. Правда, ему никогда не удалось бы навести в своем хозяйстве такого образцового порядка, если бы не Муляр. Страсть к систематизации у Муляра прямо-таки в крови. Недаром он в прошлом работал в отделе кадров…
Баржин обвел стеллаж взглядом. Полсотни ящиков, что-то около – точно он сам не знал – пятнадцати тысяч карточек. В сущности, не так уж много: ведь картотека охватывает все человечество на протяжении примерно двух веков. Но это и не мало, – несмотря даже на явную неполноту.
Сколько сил и лет вложено сюда! Если искать начало, то оно, безусловно, здесь…
II
… Только на четверть века раньше, когда не было еще ни этой картотеки, ни этой квартиры. а сам Баржин был не доктором биологических наук, не Борисом Вениаминовичем, а просто Борькой, еще чаще – только не дома, разумеется, – и вовсе Баржой.
И было Борьке-Барже тринадцать лет. Как и любви, коллекционерству покорны все возрасты. Но только в детстве любое коллекционирование равноправно. Бывает, конечно, и почтенный академик собирает упаковки от бритвенных лезвий, – но тогда его никто не считает собирателем всерьез. Чудак, и только. Вот если бы он собирал фарфор, картины, марки, наконец, или библиотеку, – но только не профессиональную, а – уники, полное собрание прижизненных изданий Свифта, – вот тогда это настоящий собиратель, и о нем отзываются с уважением. Коллекционирование придает человеку респектабельность. Если хотите, чтобы вас приняли всерьез, не увлекайтесь детективами и фантастикой, коллекционируйте академические издания.
Не то в школе. Что бы ты ни собирал, – это вызовет интерес, и не важно, увлекаешься ли ты нумизматикой или бонистикой, лотеристикой или филуменией, филателист ты или библиофил… Да и слов таких обычно не употребляют в школьные годы. Важен сам священный дух коллекционирования.
Борькин сосед по парте собирал марки; Сашка Иванов каждое лето пополнял свою коллекцию птичьих яиц; на уроках и на переменах всегда кто-нибудь что-нибудь выменивал, составлялись хитрые комбинации. Эти увлечения знавали свои бумы и кризисы, но никогда не исчезали совсем И только Борька никак не мог взять в толк зачем все это нужно.
Но что-то собирать надо было – хотя бы для поддержания реноме И такое, чтобы все ахнули. – ай да Баржа! И тут подвернулся рассказ Нагибина «Эхо». Это было как откровение. Само собой, Борька был далек от прямого плагиата. Но понял, что можно собирать вещи, которые не пощупаешь руками. И он стал коллекционировать чудеса.
Конечно, не волшебные. Просто изо всех журналов. газет, книг, которые читал, он стал выбирать факты о необычных людях. Необычных в самом широком смысле слова. Вольф Мессинг, Роза Кулешова, Шакунтала Дэви и Уильям Клайн, – все что попадалось ему о подобных людях, он выписывал, делал вырезки и подборки. Сперва они наклеивались в общие тетради. Потом на смену тетрадям пришла система каталожных карточек, – Борькина мать работала в библиотеке
К десятому классу Борис разработал уже стройную систему. Каждое сообщение сперва попадало в «чистилище», где вылеживалось и перепроверялось. Если Оно подтверждалось другими или хотя бы не опровергалось – ему открывалась дорога в «рай», к дальнейшей систематизации. Если же оказывалось уткой, вроде истории Розы Кулешовой, то не выбрасывалось, как сделал бы это на Борькином месте другой, а шло в отдельный ящик – «ад».
Чем дальше, тем больше времени отдавал Борька своему детищу, и тем серьезнее к нему относился. Но было бы преувеличением сказать, что уже тогда в нем пробудились дерзкие замыслы. Нет, не было этого, если даже будущие биографы и станут утверждать обратное. Впрочем, еще вопрос, станут ли биографы заниматься персоной д.б.н. Б.В.Баржина… Особенно в свете последних событий.
Так или иначе, к поступлению Бориса на биофак ЛГУ коллекция была непричастна. Если уж кто-то и был повинен в этом, то Рита Зайцева, за которой он потел бы и значительно дальше. Ему ЖЕ Было более или менее все равно, куда поступать. Просто мать настаивала, чтобы он шел в институт… А на биофак в те годы был ко всему не слишком большой конкурс.
И только встреча со Стариком изменила все А было ото уже на третьем курсе
Старик в те поры был доктором, как принято говорить в таких случаях, "автором целого ряда работ", что, заметим, вполне для доктора естественно, а также – автором нескольких научно-фантастических повестей и рассказов, что уже гораздо менее естественно и снискало ему пылкую любовь студентов и аспирантов, в то время как иные коллеги относились к нему с определенным скепсисом. Уже тогда все называли его Стариком, причем не только за глаза. Да он и в самом деле выглядел значительно старше своих сорока с небольшим лет, а Борису и его однокурсникам казался и вовсе… ну не то чтобы старой песочницей, но вроде того.
Старик подошел к Борису первым: от кого-то он узнал про коллекцию, и она заинтересовала его. На следующий вечер он нагрянул к Баржиным в гости.
– Знаете, Борис Вениаминович, – сказал он, уходя… это было характерной чертой Старика: всех студентов он знал по имени и отчеству и никогда не величал иначе), – очень получается любопытно. Сдается мне, к этому разговору мы еще вернемся. А буде мне попадется что-нибудь в таком роде, – обязательно сохраню для вас. Нет, ей-ей, золотая это жила, ваша хомофеноменология.
Он первым ввел это слово. И так оно и осталось: «хомофеноменология». Несмотря на неудобопроизносимость. Из уважения к Старику? Вряд ли. Просто лучшего никто не предложил. Да и нужды особой в терминах Борис не видел
А жизнь шла своим чередом. Борис кончил биофак, – если и не с блеском, то все же очень неплохо, настолько, что его оставили в аспирантуре. А когда он, наконец, защитился и смог ставить перед своей фамилией каббалистическое "к.б.н.", – Старик взял его к себе, потому что сам Старик был теперь директором ленинградского филиала ВНИИППБ, то бишь Всесоюзного научно-исследовательского института перспективных проблем биологии, организации, в просторечии именовавшейся "домом на Пряжке". Нет-нет, потому лишь, что здание, где помещался филиал, было действительно построено на набережной Пряжки, там где еще совсем недавно стояли покосившиеся двух-трехэтажные домишки…
Старик дал Баржину лабораторию и сказал:
– Ну, а теперь – работайте, Борис Вениаминович. Но сначала – подберите себе людей. Этому вас учить, кажется, не надо.
Люди у Баржина к тому времени уже были. И работа – была. Потому что началась она почти год назад.
В тот вечер они со Стариком сидели над баржинской коллекцией и рассуждали на тему о том, сколько же абсолютно не используемых резервов хранит в себе человеческий организм, особенно мозг.
– Потрясающе, – сказал Старик. – Просто потрясающе! Ведь все эти люди абсолютно нормальны. Во всем, кроме своей феноменальной способности к чему-то одному. Это – не патологические типы, нет. А что, если представить себе все эти возможности сконцентрированными в одном человеке, этаком Большом Бухарце, а? Впечатляющая была бы картина… Попробуйте-ка построить такую модель, Борис Вениаминович…
III
Звонок.
Баржин задвинул ящики картотеки, вышел из чулана, погасил свет. Звонок повторился. "Ишь, не терпится кому-то, – подумал Баржин. – И кому, главное?"
За дверью стоял Озол. Если кого-либо из своих Баржин и мог сейчас принять, то именно Озола. Или – Муляра, но Муляр где-то в Крыму. Ведь оба они не были сегодня в лаборатории, они – «внештатные».
– Привет! – сказал Озол. – Между прочим, шеф, это – хамство.
– Что – это? – удивился Баржин. Он никак не мог привыкнуть к манерам Озола.
– Чистосердечное раскаяние облегчает вину, – мягко посоветовал Озол. Потом прислушался: – У вас, кажется, тихо? Ну да в любом случае, разговаривать на лестнице – не лучший способ. – И прошел в квартиру; не раздеваясь, заглянул в комнату: – Неужто я первый?
– Первый, – подтвердил Баржин. – И, надеюсь, последний.
– Не надейтесь, – пообещал Озол и спросил: – Чем вы боретесь с ранним склерозом, Борис?
Тем временем он разделся, вытащил из портфеля и сунул в холодильник бутылку вина.
– Что вы затеяли, Вадим? – спросил Баржин.
– Отметить ваш день рождения.
Баржин крехнул.
– Нокаут, – констатировал Озол. – Вот они, ученые, герои, забывающие себя в труде…
– Уел. – сказал Баржин. – Ох и уел ты меня, Вадим Сергеевич! Ну и ладно, напьемся."… Камин затоплю, будем пить…»
– Цитатчик, – грустно сказал Озол. – Начетчик. Как там еще?
"Знает он или нет, – размышлял Баржин. – Похоже, что нет. Но тогда почему не спрашивает, чем сегодня кончилось? Выходит, знает. Черт бы их всех побрал вместе с их чуткостью и тактичностью!"
– Кстати, шеф, заодно обмоем маленький гонорар, – скромно сказал Озол.
– Что?
– "Сага о саскаваче".
– Где?
– Есть такой новый журнал, «Камчатка» называется. В Петропавловске. Случайно узнал, случайно послал, случайно напечатали… Бывает!
– Поздравляю!
– Ладно, – буркнул Озол. – Поздравлять после будете. Потом. А пока – накрывайте на стол. Ведь сейчас собираться начнут. Не у всех же склероз. А я займусь кофе. Что у вас там есть?
– Сами разберетесь, – сказал Баржин.
– Разберусь, естественно. – Озол скрылся в кухню, и вскоре оттуда раздался его страдальческий голос: – И когда я научу вас покупать кофе без цикория, Борис?
"Знает, – решил Баржин. – Конечно, знает. Ну и пусть". Почему-то ему стало полегче, – самую малость, но полегче.
IV
Озол-таки знал.
С самого утра у него все валилось из рук. Даже правка старых рукописей, – работа удивительно интересная, которой он всегда вводил себя в норму, – и то не шла. Он пытался читать, валяются на диване, курил… С четырех начал дозваниваться в лабораторию – тщетно. И только около семи ему позвонил Гиго.
Итак, первая попытка оказалась неудачной. Плохо. Но и не трагедия.
– С шефом здорово неладно, – сказал Гиго. – Я, конечно, понимаю, ему тяжелее всех нас, но… Он даже не попрощался ни с кем. Я такого не помню.
Ну, конечно, – это же Баржин, "счастливчик Баржин", не знавший еще ни одного поражения, а когда накапливается такая инерция удачи, – первый же толчок больно бьет лицом о лобовое стекло.
– Ладно, – сказал Озол. – Это поправимо. Кстати, ты не забыл, что шеф сегодня именинник?
– Но он никого не приглашал…
– Я приглашаю, – Озол повесил трубку.
Ему не нужно было напрягать воображения, чтобы ясно представить себе, как все это происходило: Озол хорошо знал и обстановку, и людей.
Яновский увел Перегуда в физиологическую экспериментальную. Перегуд сел в кресло – большое, удобное, охватывающее со всех сторон кресло энцефалографа; под потолком начала мерно вспыхивать – три раза в секунду – лампочка; заунывно запел усыпляющий сигнал. Профессиональным, чуть театральным жестом Яновский поднял руку… Зойка с Лешкой и Борей-бис замерли в машинной, куда подавалась информация со всех налепленных на Перегуда датчиков. У дверей наготове стоял Зимин – на случай экстренной медицинской помощи, хотя представить себе ситуацию, в которой такая помощь могла бы понадобиться, довольно трудно – слишком проста схема эксперимента. Баржин заперся в своем кабинете. Гиго мягкой походкой горца прогуливался по коридору, где толкалась молодежь из обеих экспериментальных групп.
Время остановилось.
И теперь, трясясь через весь город в старенькой «волге», – ему всегда удивительно «везло» на такси, – Озол думал, что в неудаче этой есть определенная закономерность. Яновский… Впрочем, это последнее дело – махать кулаками после драки. Ведь когда Баржин привел Яновского в лабораторию и сказал, что "Михаил Сергеевич любезно согласился принять участие в наших опытах", – Озол был так же доволен, как и все остальные. Это сейчас легко говорить и думать, будто уже тогда у него было какое-то предубеждение… Не было. Задним умом все мы крепки А тогда…
Яновский был человеком в своем роде удивительным. С детства он обнаружил в себе способность ко внушению, и нередко ею пользовался – и в играх со сверстниками, и в школе на занятиях, а когда стал постарше, в отношениях с девчонками. Потом поступил в медицинский институт, окончил его и стал психотерапевтом. По отзывам – неплохим. Но в один прекрасный день вдруг сменил белый халат на черный фрак и стал выступать на сцене – новый Вольф Мессинг или Куни. Успех он имел потрясающий, на его вечера народ валил толпами. Как Баржину удалось уговорить его принять участие в их эксперименте – до сих пор неизвестно. Но само то, что откопал Яновского Баржин, – свидетельство таланта Яновского, поскольку Баржин никогда не ошибался в этом. И все же… Было в нем что-то излишне, как бы это сказать… эффектное, что ли? Этакий новоявленный Свенгали. В кино бы ему – Трильби мучить. Но это, опять же, задним умом.
Сам Озол был вовлечен в орбиту хомофеноменологии примерно через год после того, как Старик дал Баржину лабораторию. Однажды Баржин натолкнулся на научно-фантастический рассказ, в котором некий Озол писал о неиспользованных физических и психических возможностях человека. Идея как таковая была не нова и обыгрывалась в научной фантастике неоднократно. Но Озол нашел любопытное решение: стресс, но стресс «пролонгированный», длительный и управляемый. Лонг-стресс. Баржин показал рассказ Позднякову.
– А что? – сказал Леша. – В этом есть нечто… Я и сам о чем-то таком подумывал. Прикинем?
– Прикинь, – сказал Баржин. – По-моему, стоит. Я-то об этом не думал вовсе. Так что ты прикинь, а мы поищем этого парня. Как ты думаешь?
– Давай, – согласился Позняков, но было ясно что думает он сейчас уже только о лонг-стрессе
Найти Озола оказалось несложно. Хотя он не был членом Союза писателей, но состоял в какой-то секции, или чем-то в этом роде, и адрес дали сразу же. С такими людьми Баржину еще не приходилось встречаться. Было Озолу от силы лет тридцать: он был лохмат, бородат и усат, – истинно поэтическая внешность. Резкий, угластый какой-то, иногда он бывал совершенно невыносим. И в то же время Баржин готов был голову отдать на отсечение, что Озол талантлив. Дьявольски талантлив.
Озол обладал буйной фантазией. Сам он объяснял это очень просто:
– У всех вас на глазах шоры образования, специализации. А вот я человек простой, необразованный, – Озол всегда бравировал своей десятилеткой, любил прикидываться этаким "мужичком из глубинки", – я могу девять раз попасть пальцем в небо, зато уж десятый… Потому что меня не ограничивает знание всех законов. Помните старый анекдот про Эйнштейна: "Десять тысяч мудрецов знают, что этого сделать нельзя, потом появляется дурак, который этого не знает, и он-то делает великое открытие"? Вот таким дураком и надо быть. Я – дилетант. В лучшем, но, увы, утерянном значении этого слова. Ведь что такое дилетант в исконном смысле? Противоположность специалисту. Специалист знает все в своей области, и чуть-чуть в остальных. Дилетант же, не имея специальных познании ни в одной области, имеет представление обо всех…
Баржина это не убеждало. Но почему-то ему было всегда интересно с Озолом.
Озол загорелся идеей. И подстрекаемый хомофеноменологами, написал рассказ. Рассказ о человеке, в котором сошлись все известные ныне уникальные способности; человеке, считающем, как Шакунтала Дэви и Уильям Клайн; читающем по 80 000 слов в минуту, как Мария-Тереза Кальдерон; не нуждающемся во сне, как Иштван Кайош; помнящем все, как Вано Лоидзе; человеке, чьи способности неисчислимы и неисчерпаемы, для которого телепатия, телекинез, левитация, пирокинез – обыденность, а не утопия.
Рассказ долго не могли опубликовать. Все же он, наконец, увидел свет. И если для читателей это был просто еще один фантастический опус, то для всей баржинской лаборатории он стал программой. Это была их мечта, их план, овеществленный фантазией и талантом Озола. И номер журнала лежал у каждого из них – у кого на столе, у кого дома…
V
Следующим заявился, как и следовало ожидать, Лешка, баржинский школьный приятель, руководитель теоретической группы лаборатории и вообще… Что скрывалось за этим «вообще», Баржин и сам не знал. Но без Позднякова лаборатория была бы совсем не той…
Лешка молча поставил на стол бутылку коньяку, ткнул в вазу букет гвоздик, потом подошел к Баржину, встряхнул за плечи:
– Ну, шеф, торжественные дары будут в следующий раз. Пока же нам не сорок а лишь тридцать девять, с чем и имею честь поздравить! И знаешь, давай сегодня ни о чем не думать! Будем пить, танцевать и рассказывать анекдоты. Договорились?
– Ага, – сказал Баржин, прекрасно зная, что ни он, ни Лешка при всем желании не смогут "ни о чем не думать". – Договорились. И давай-ка, брат, помоги мне накрыть на стол, не то Озол ругаться будет.
– Буду, – подтвердил Озол из кухни, откуда доносились уже совершенно неправдоподобные ароматы. – Еще как буду! Так что, если хочешь спасти шефа, Лешенька, – принимай командование на себя. Он у нас сегодня в расстроенных чувствах, чую. Он у нас сегодня недееспособный…
– Язва ты, – фыркнул Лешка. – Фан-та-сти-чес-кая.
– Кофе не дам, – парировал Озол. – А что твой коньяк без кофе?
– Мы уже идем! – взмолился Поздняков. – И в самом деде, пойдем, а то он такой, он все может…
Что бы Лешка ни делал, все получалось у него изумительно изящно. И сейчас, глядя, как он сервирует стол, Баржин снова, в который уже раз, не мог удержаться от легкой, «белой» зависти.
Будучи внуком, – точнее, внучатым племянником, – одного из композиторов "могучей кучки", Лешка обладал абсолютным слухом и неплохим баритоном, – на радость всей семье, прочившей ему великое будущее. Но он пошел в медицинский, а окончив – уехал в Калининград, где стал судовым врачом на БМРТ. Был он врачом, как говорили в старину, "Божьей милостью", – блестящим хирургом и вообще универсалом. А если учесть, что к тому же он был отнюдь не из хмурых фанатиков а ля Баталов в роли Устименки, а человеком обаятельным, умеющим вызывать "улыбки дам огнем нежданных эпиграмм", знающим анекдоты ты чуть ли не "от Ромула до наших дней", – если учесть все это, то неудивительно, что всегда в везде он становился душой общества.
Когда-то они с Баржиным учились в одном классе. И встретились снова десять лет спустя, когда Лешка приехал в Ленинград поступать в ЛИТМО – Ленинградский институт точной механики и оптики – на факультет медицинской кибернетики.
– Понимаешь, Боря, – сказал он тогда Баржину, – как хирург я не могу сделать шага вперед без медкибернетики. Тяжко без нее. Специалистов пока мало, у меня же есть некоторые преимущества: я ведь практик.
Баржин сразу же решил, что Лешка будет в лаборатории. Будет, чего бы это Баржину не стоило. А своего он умел добиваться. Во всяком случае, большая часть теоретических разработок лонг-стресса – бесспорная заслуга Позднякова. Он 6ыл генератором сумасшедших идей, причем сумасшедших именно в необходимой степени, в отличие от бредовых по большей части идей Озола.
VI
Они уже почти покончили с сервировкой, когда пришел Гиго Чехашвили, а через две минуты вслед за ним – Зойка. Когда же раздался еще один звонок, Баржин чертыхнулся и сказал, глядя прямо в невинные глаза Перегуда:
– Шли бы уж все сразу, что ли! Все равно ведь ненатурально получается, несмотря на всю вашу чуткость…
Перегуд ухмыльнулся и, обернувшись, крикнул в лестничный пролет:
– А ну, давай сюда, ребята! Шеф приглашает!
Баржин не выдержал и расхохотался – до слез, чуть ли не до истерики, – впервые за этот вечер.
А через полчаса квартиру было не узнать. Лешка с Озолом сделали из стола что-то фантастическое, от чего даже у Баржина началось слюноотделение: Зойка с Зиминым – и когда они только успели? – умудрились натянуть через всю комнату нитки и подвесили на них всякую ерунду: серпантин, какие-то бумажки с лозунгами и картинками; над письменным столом был приколот лист ватмана, на котором Перегуд под Бидструпа изобразил в рисунках жизнь и творчество Б.В.Баржина от рождения до сегодняшнего вечера; на столе кучей Были свалены подарки: номер «Камчатки» с рассказом Озола, пепельница ручной чеканки – подарок Гиго, запонки – одна от Зойки, другая от Перегуда… Что-то еще, чего Баржин так и не успел рассмотреть…
– По местам! – рявкнул вдруг командирским басом Озол. – Равнение на именинника!
Перестроение было произведено в рекордные сроки а зазевавшегося Баржина под руки водворили на положенное ему место.
– Тост! – потребовал Озол.
Чехашвили монументально простер длань.
– Я буду краток, – сказал он. – Не по-грузински краток. На моей родине за такой тост из меня сделали бы шашлык. Но я не следую традициям, ибо помню, что краткость – сестра гениальномти. Итак…
– Короче! – перебил Озол. – Я краток, но не кроток. Не прерывайте меня, или во мне проснутся кровожадные инстинкты, коими не хотелось 6ы омрачать сегодняшний юбилей. Итак, в честь нашего шефа я предлагаю произвести салют в один залп, и пусть энтузиазм наш скажет ему невысказанное словами.
"И пробки в потолок, вина кометы брызнул ток" – пронеслось у Баржина в голове…
– Ой, – тихо взвизгнула Зойка, – ой, братцы, плафон…
Но плафон уцелел, – это был хороший, небьющийся пластик, – и лишь медленно покачивался под потолком.
Шампанское было сухое, очень сухое и очень холодное" – в этом Чехашвили знал толк, как впрочем, во многом другом. "Милый Гиго, достать в такую позднь полдюжины шампанского – это почти подвиг," – подумал Баржин. Он сел и обвел всех взглядом.
VII
Вот сидят они за столом – такие разные, несхожие, со своими судьбами, характерами, взглядами.
Лешка. Кандидат медицинских наук Алексей Павлович Поздняков.
Озол.
Гиго Чехашвили, "зам. по тылу", человек, без которого работа лаборатории кажется немыслимой. Баржин встретил его в «Гипромеде», когда передавал им заказ на разработку портативной искусственной почки. А через пару месяцев Чехашвили уже работал во ВНИИППБ. Че-хашвили хорошо знал, что как научному работнику ему цена невелика: он был тщателен, исполнителен, причем в этой своей исполнительности – даже оригинален, пожалуй. Но не было в нем какой-то живинки, "искры научной", что ли. Зато это был прирожденный, первоклассный администратор. И с ним Баржин всегда мог быть спокоен. Он перевалил на Гиго все свои чисто административные заботы, которых у заведующего лабораторией хоть отбавляй, и притом еще Чехашвили был и «доставалой», и «толкачом», и… и… Нужно что-то раздобыть – Чехашвили; узнать – Чехашвили; договориться с кем-то – опять Чехашвили; скажи ему Баржин: "Гиго, к утру мне нужна одноместная машина времени," – утром, придя на работу, он наверняка увидел бы у себя в кабинете похожий на велосипед аппарат, поблескивающий хромом и слоновой костью…
Баржинскому заместителю нужна была ученая степень: в отделе кадров Баржину уже не раз говорили об этом. Но Гиго и слышать не хотел о диссертации.
– Я думаю, Борис Вениаминович, диссертация – это нечто новое, что ты хочешь и должен сказать. А я – сами знаете – ничего особенно нового сказать не могу. Так зачем же увеличивать число никому не нужных переплетов?
Но диссертация эта была нужна всей лаборатории хомофеноменологии, и Чехашвилн заставили ее написать – и Баржии, и Поздняков три месяца просиживали вечера вместе с Гиго, готовя ее.
Наконец он защитился.
– Это был самый гнусный день в моей жизни, – признался он тогда Баржину.
– Но вашу диссертацию никак не назовешь ненужной!
– Нет. Но разве ее можно назвать моей?
И в этом был весь Гиго.
Зойка. Вообще-то она, конечно, Зоя Федоровна Пшебышевская. Но на памяти Баржина ее так называли только дважды, и то оба раза в приказах по институту.
Выудил ее Леша. Зойке было всего лет двадцать пять, она кончила 157-ю экспериментальную школу, выпускавшую программистов. По ступила в ЛИТМО, где и познакомилась с Поздняковым. А сама преподавала программирование в той же школе. Но потом выяснилось, что для получения диплома нужно работать точно по специальности. И тогда, воспользовавшись случаем, Лешка притащил ее к Баржину.
– Нужен нам программист? – спросил он.
– Нужен, – сказал Баржин. – Гиго только что вышиб где-то «Раздан» и сейчас доругивается с главбухом.
– Вот тебе программист, Боря, – сказал Лешка, подталкивая вперед Зою. – А ты, чадо, не смотри, что я с ним так фамильярно. Потому как он – начальство. Зовут Его Борис Вениаминович, и он совсем не страшный. Уловила?
– Уловила. – сказала Зойка своим опереточным голоском. – А где этот ваш «Раздан», Борис Вениаминович? Можно мне к нему, а?
Баржин никогда не жалел, что взял ее. О таком программисте можно было только мечтать.
Ивин, Борис Ильич, в просторечии – Боря-бис. Инженер-экспериментатор по призванию, он обладал удивительным талантом чувствовать схему. Рассчитывал он потом. Сперва сидел, разглядывая ее со всех сторон, щупал своими короткими толстыми пальцами с обгрызенными ногтями, потом говорил: "Вот здесь, во втором каскаде что-то не то. Посмотрим". И не было еще случая, чтобы он ошибся. Бывало и похлеще. Борис подходил ко вполне исправно работающему прибору и говорил, задумчиво глядя на него: "А ведь полетит сейчас дешифратор, как пить дать!" И – летел. Что это было? Сверхтонкое чутье? Бог весть. Зойка смотрела на него большими глазами и регулярно затаскивала его к себе на машину – для профилактики. А пока он копался в какой-нибудь очередной схеме, она потихоньку пришивала ему пуговицу к пиджаку, потому что пуговицы у него хронически были прикручены проволокой. Ужасно он был неухоженный, и в лаборатории знали, хотя сам он и не говорил на эту тему, что у него не задалась, как говориться, семейная жизнь. Но это сплетни, которые Баржину перебирать не хотелось, а когда однажды он попытался заговорить об этом со своим тезкой, тот ответил коротко: "Я ни на что не собираюсь жаловаться. Знал, на что иду. И не будем этом, шеф, ладно?"