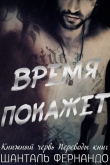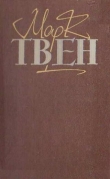Текст книги "Петербург"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 40 страниц)
Какой такой костюмер?
Помещение Николая Аполлоновича состояло из комнат: спальни, рабочего кабинета, приемной.
Спальня: спальню огромная занимала кровать; красное, атласное одеяло ее покрывало – с кружевными накидками на пышно взбитых подушках.
Кабинет был уставлен дубовыми полками, туго набитыми книгами, пред которыми на медных колечках легко скользил шелк; заботливая рука то вовсе могла скрыть от взора содержимое полочек, то, наоборот, обнаружить ряды черных кожаных корешков, испещренных надписями: «Кант» [51]51
Философия Иммануила Канта (1724 – 1804) сыграла большую роль в эволюции миросозерцания Белого (ср., например, его стихотворения «Искуситель», «Под окном» в кн. «Урна»). Кантовский агностицизм (идея непознаваемости мира), а также учение Канта о пространстве и времени наложили заметный отпечаток на общий стиль мышления Белого (см.: Филиппов Л. И. Неокантианство в России. – В кн.: Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции. – М., 1978. – С. 310 – 316), и в частности на роман «Петербург». В кантианстве Николая Аполлоновича нашли отражение философские искания Белого 1904 – 1908 гг., характеризующиеся интересом к «теории знания», чистой логике и внимательным и пристрастным изучением Канта и философов-неокантианцев Г. Когена (см. примеч. 15 к гл. 3), Г. Риккерта и др. с целью построения теории символизма. «Трагедия сенаторского сына в романе «Петербург» – в том, что он – революционер-неокантианец», – отмечал Белый («Между двух революций», с. 210), подчеркивая, видимо, отвлеченный, умозрительный характер восприятия младшим Аблеуховым революционных событий. Безусловное воздействие на историческую и философскую концепцию «Петербурга» оказали представления Канта о пространстве и времени как субъективных формах чувственного созерцания.
[Закрыть].
Кабинетная мебель была темно-зеленой обивки; и прекрасен был бюст… разумеется, Канта же.
Два уже года Николай Аполлонович не поднимался раньше полудня. Два с половиною ж года пред тем пробуждался он ранее: пробуждался в девять часов, в половине десятого появляясь в мундире, застегнутом наглухо, для семейного распивания кофея.
Два с половиною года назад Николай Аполлонович не расхаживал по дому в бухарском халате; ермолка не украшала его восточную гостиную комнату; два с половиною года назад Анна Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга Аполлона Аполлоновича, окончательно покинула семейный очаг, вдохновленная итальянским артистом; после же бегства с артистом на паркетах домашнего остывающего очага Николай Аполлонович появился в бухарском халате: ежедневные встречи папаши с сынком за утренним кофеем как-то сами собою пресеклись. Кофе Николаю Аполлоновичу подавалось в постель.
И значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович.
Встречи папаши с сынком происходили лишь за обедом; да и то: на краткое время; между тем с утра на Николае Аполлоновиче стал появляться халат; завелись татарские туфельки, опушенные мехом; на голове же появилась ермолка.
И блестящий молодой человек превратился в восточного человека.
Николай Аполлонович только что получил письмо; письмо с незнакомым почерком: какие-то жалкие вирши с любовно-революционным оттенком и с разительной подписью: «Пламенеющая душа» [52]52
Эта подпись, возможно, представляет собой ироническую реминисценцию названия двухтомного собрания стихотворений Вячеслава Иванова «Cor ardens» («Пламенеющее сердце») (М., 1911 – 1912).
[Закрыть]. Желая для точности ознакомиться с содержанием виршей, Николай Аполлонович беспомощно заметался по комнате, разыскивая очки, перебирая книги, перья, ручки и прочие безделушки и бормоча сам с собою:
«А-а… Где же очки?…»
– «Черт возьми…»
– «Потерял?»
– «Скажите, пожалуйста».
– «А?…»
Николай Аполлонович, так же как и Аполлон Аполлонович, сам с собой разговаривал.
Движения его были стремительны, как движения его высокопревосходительного папаши; так же, как и Аполлон Аполлонович, отличался он невзрачным росточком, беспокойным взглядом беспрестанно улыбавшегося лица; когда же он погружался в серьезное созерцание чего бы то ни было, то взгляд этот медленно окаменевал: сухо, четко и холодно выступали линии совершенно белого его лика, подобного иконописному, поражая особого рода благородством аристократизма: благородство в лице выявлял заметным образом лоб – точеный, с надутыми жилками: быстрая пульсация этих жилок явственно отмечала на лбу преждевременный склероз.
Синеватые жилки совпали с синевою вокруг громадных, будто бы подведенных глаз какого-то темно-василькового цвета (лишь в минуты волнений черными становились глаза от расширенности зрачков).
Николай Аполлонович был перед нами в татарской ермолке; но сними он ее, – предстала бы шапка белольняных волос, смягчая холодную эту, почти суровую внешность с напечатленным упрямством; трудно было встретить волосы такого оттенка у взрослого человека; часто встречается этот редкий для взрослого оттенок у крестьянских младенцев – особенно в Белоруссии.
Бросив небрежно письмо, Николай Аполлонович сел пред раскрытою книгою; и вчерашнее чтение отчетливо возникало пред ним (какой-то трактат). Вспомнилась и глава, и страница: припоминался и легко проведенный зигзаг округленного ногтя; ходы изгибные мыслей и свои пометки – карандашом на полях; лицо его теперь оживилось, оставаясь и строгим, и четким: одушевилося мыслью.
Здесь, в своей комнате, Николай Аполлонович воистину вырастал в предоставленный себе самому центр – в серию из центра истекающих логических предпосылок, предопределяющих мысль, душу и вот этот вот стол: он являлся здесь единственным центром вселенной, как мыслимой, так и не мыслимой, циклически протекающей во всех зонах времени [53]53
Эон – термин, обозначающий понятие, лежащее в основе философии гностиков, но известное также в древней Греции. Понятие зона связано с представлением о времени (для древних греков эон – то, что больше эпохи, т. е. абсолютное выражение времени). В философии Валентина (ум. ок. 161 г.), самого значительного представителя гностической философии, «вечное бытие» есть «мир эонов, из которого происходит и к которому возвращается все способное к восприятию истины» (см.: Соловьев Владимир. Валентин и валентиниане. – В кн.: Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. – СПб., 1891. – Т. V, полутом 9. – С. 406 – 407). Согласно системе Валентина, за пределами чувственно воспринимаемого бытия пребывает безначальный, совершенный эон – Глубина, имеющий в себе абсолютную возможность всякого определенного бытия; 30 эонов составляют выраженную полноту абсолютного бытия – Плерому; 30-й эон – София – возгорается желанием знать и созерцать первоотца – Глубину. Ср. изложение Белого: «…и пошли бесконечные лестницы эонов в философии гностиков, чтоб при помощи их разрываемое экстазом сознание что-то такое умело ощупать»; «…падают цепи эонов, развивая в падении страсть к источнику совершенства, страсть меж безднами – образ влюбленной Софии; зоны принимают участие в ее страсти» (Белый Андрей. На перевале. II. Кризис мысли. – Пб., 1918. – С. 82, 85). Понятие зона было использовано родоначальницей теософского движения Е. П. Бла-ватской для интерпретации древнеиндийской космогонии. В комментариях к своей статье «Эмблематика смысла» (1909) Белый, излагая отдельные положения «Тайной доктрины» («The secret doctrine»; 1888) Блаватской, отмечает, что «время Манвантарайи» (одного из двух состояний мира) «делится на семь периодов или Эонов, обнимающих приблизительно в совокупности период в 311 триллионов лет» («Символизм», с. 491 – 492). Понятие зона возникает у Белого также в поэме «Первое свидание» (1921) (см.: «Стихотворения и поэмы», с. 426, 430, 435). В стихотворении, посвященном памяти отца («Н. В. Бугаеву», 1903, 1914), Белый писал:
Ты говорил: «Летящие монады
В зонных волнах плещущих времен, -
Не существуем мы; и мы – громады,
Где в мире мир трепещущий зажжен.
В нас – рой миров.
Вокруг – миры роятся.
Мы станем – мир.
Над миром встанем мы.
Безмерные вселенные глядятся
В незрячих чувств бунтующие тьмы (…)
(«Стихотворения и поэмы», с. 505)
Здесь явственно чувствуются мотивы, роднящие стихотворение с романом «Петербург».
[Закрыть].
Этот центр – умозаключал.
Но едва удалось Николаю Аполлоновичу сегодня отставить от себя житейские мелочи и пучину всяких невнятностей, называемых миром и жизнью, и едва Николаю Аполлоновичу удалось взойти к себе самому, как невнятность опять ворвалась в мир Николая Аполлоновича; и в невнятности этой позорно увязло самосознание: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой.
Николай Аполлонович оторвался от книги: к нему постучали:
– «Ну?…»
– «Что такое?»
Из-за двери раздался глухой и почтительный голос.
– «Там-с…»
– «Вас спрашивают-с…»
Сосредоточиваясь в мысли, Николай Аполлонович запирал на ключ свою рабочую комнату: тогда ему начинало казаться, что и он, и комната, и предметы той комнаты перевоплощались мгновенно из предметов реального мира в умопостигаемые символы чисто логических построений; комнатное пространство смешивалось с его потерявшим чувствительность телом в общий бытийственный хаос, называемый им вселенной; а сознание Николая Аполлоновича, отделясь от тела, непосредственно соединялося с электрической лампочкой письменного стола, называемой «солнцем сознания». Запершися на ключ и продумывая положения своей шаг за шагом возводимой к единству системы, он чувствовал тело свое пролитым во «вселенную», то есть в комнату; голова же этого тела смещалась в головку пузатенького стекла электрической лампы под кокетливым абажуром.
И сместив себя так, Николай Аполлонович становился воистину творческим существом.
Вот почему он любил запираться: голос, шорох или шаг постороннего человека, превращая вселенную в комнату, а сознание – в лампу, разбивал в Николае Аполлоновиче прихотливый строй мыслей. Так и теперь.
– «Что такое?»
– «Не слышу…»
Но из дали пространств ответствовал голос лакея:
– «Там пришел человек».
____________________
Тут лицо Николая Аполлоновича приняло вдруг довольное выражение:
– «А, так это от костюмера: костюмер принес мне костюм…»
Какой такой костюмер?
Николай Аполлонович, подобравши полу халата, зашагал по направлению к выходу; у лестничной балюстрады Николай Аполлонович перегнулся и крикнул:
– «Это – вы?…»
– «Костюмер?»
– «От костюмера?»
– «Костюмер прислал мне костюм?»
И опять повторим от себя: какой такой костюмер?
____________________
В комнате Николая Аполлоновича появилась кардонка, Николай Аполлонович запер двери на ключ; суетливо он разрезал бечевку; и приподнял он крышку; далее, вытащил из кардонки: сперва масочку с черною кружевной бородой, а за масочкой вытащил Николай Аполлонович пышное ярко-красное домино, зашуршавшее складками.
Скоро он стоял перед зеркалом – весь атласный и красный [54]54
Ср. строку: «Стройный черт, – атласный, красный» в стихотворении Белого «Маскарад» (1908) («Пепел», с. 123). Красное домино и маскарадная маска Николая Аполлоновича – факт из биографии Белого, обозначивший сложные душевные переживания летом 1906 г., когда его взаимоотношения с Л. Д. Блок породили тяжелейший внутренний кризис. «Да, я был ненормальным в те дни, – вспоминает Белый, – я нашел среди старых вещей маскарадную, черную маску: надел на себя, и неделю сидел с утра до ночи в маске: лицо мое дня не могло выносить; мне хотелось одеться в кровавое домино; и – так бегать по улицам (…) Тема красного домино в «Петербурге» – отсюда: из этих мне маскою занавешенных дней протянулась за мной по годам» («Эпопея», № 3, с. 187 – 188). Намерение Николая Аполлоновича преследовать в маскарадном облачении Софью Петровну Лихутину соответствует подлинным фантазиям Белого: «я предстану пред Щ. в домино цвета пламени, в маске, с кинжалом в руке» («Между двух революций», с. 91; Щ. – Л. Д. Блок). Образ красного домино восходит к рассказу Э. По «Маска Красной Смерти».
[Закрыть], приподняв над лицом миниатюрную масочку; черное кружево бороды, отвернувшися, упадало на плечи, образуя справа и слева по причудливому, фантастическому крылу; и из черного кружева крыльев из полусумрака комнаты в зеркале на него поглядело мучительно-странно – то, само: лицо – его, самого; вы сказали бы, что там в зеркале на себя самого не глядел Николай Аполлонович, а неведомый, бледный, тоскующий – демон пространства.
После этого маскарада Николай Аполлонович с чрезвычайно довольным лицом убрал обратно в кардонку сперва красное домино, а за ним и черную масочку.
Мокрая осень
Мокрая осень летела над Петербургом; и невесело так мерцал сентябрёвский денек.
Зеленоватым роем проносились там облачные клоки; они сгущались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозою. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских просторов; темная водная глубина сталью своих чешуи билась в граниты; в зеленоватый рой убегал шпиц… с петербургской стороны.
Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоти высоко встала от труб пароходных; и хвостом упала в Неву.
И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароходика, разбивала свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала граниты; натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, плащи и фуражки. И повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль; и оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние Всадника со скалы все так же кидало тяжелую, позеленевшую медь.
И на этом мрачнеющем фоне хвостатой и виснущей копоти над сырыми камнями набережных перил, устремляя глаза в зараженную бациллами мутную невскую воду, так отчетливо вылепился силуэт Николая Аполлоновича в серой николаевской шинели и в студенческой набок надетой фуражке. Медленно подвигался Николай Аполлонович к серому, темному мосту, не улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким с пренелепо плясавшим по ветру шинельным крылом.
У большого черного моста остановился он.
Неприятная улыбка на мгновение вспыхнула на лице его и угасла; воспоминанья о неудачной любви охватили его, хлынувши натиском холодного ветра; Николай Аполлонович вспомнил одну туманную ночь; тою ночью он перегнулся через перила; обернулся и увидел, что никого нет; приподнял ногу; и резиновой гладкой калошей занес ее над перилами, да… так и остался: с приподнятою ногой; казалось бы, дальше должны были и воспоследовать следствия; но… Николай Аполлонович продолжал стоять с приподнятою ногой. Через несколько мгновений Николай Аполлонович опустил свою ногу.
Вот тогда-то созрел у него необдуманный план: дать ужасное обещание одной легкомысленной партии.
Вспоминая теперь этот свой неудачный поступок, Николай Аполлонович неприятнейшим образом улыбался, представляя собой довольно смешную фигуру: запахнувшись в шинель, он казался сутулым и каким-то безруким [55]55
Этот образ навеян Белому впечатлением от встречи с А. А. Блоком в сентябре 1906 г., когда их взаимоотношения были особенно напряженными: «это «голое», злое лицо крепко вляпалось в память; и – стало лицом Аблеухова-сына, когда он идет, запахнувшись в свою николаевку, видясь безруким с отплясывающим по ветру шинельным крылом; сцена – реминисценция встречи» («Между двух революций», с. 95).
[Закрыть] с заплясавшим по ветру длинным, шинельным крылом; с таким видом свернул он на Невский; начинало смеркаться; кое-где в витрине поблескивал огонек.
– «Красавец», – постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича…
– «Античная маска…»
– «Аполлон Бельведерский».
– «Красавец…»
Встречные дамы по всей вероятности так говорили о нем.
– «Эта бледность лица…»
– «Этот мраморный профиль…»
– «Божественно…»
Встречные дамы по всей вероятности так говорили друг другу.
Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:
– «Уродище…» [56]56
Двойственное восприятие Николая Аполлоновича дамами непосредственно восходит к портрету Ставрогина – героя романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (ч. I, гл. 2, I): «…волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, – казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску…» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. – Л., 1974. – Т. 10. – С. 37). Связи между образами Николая Аполлоновича и Николая Ставрогина анализируются в статье: Пустыгина Н. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Статья 1. – В кн.: Тр. по русской и славянской философии. XXVIII. Литературоведение (Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 414). – Тарту, 1977. – С. 90 – 93.
[Закрыть]
Где с подъезда насмешливо полагают лапу на серую гранитную лапу два меланхолических льва, – там, у этого места, Николай Аполлонович остановился и удивился, пред собою увидевши спину прохожего офицера; путаясь в полах шинели, он стал нагонять офицера:
– «Сергей Сергеевич?»
Офицер (высокий блондин с остроконечной бородкою) обернулся и с тенью досады смотрел выжидательно сквозь синие очковые стекла, как, путаясь в полах шинели, косолапо к нему повлеклась студенческая фигурка от знакомого места, где с подъезда насмешливо полагают лапу на лапу два меланхолических льва с гладкими гранитными гривами. На мгновенье будто какая-то мысль осенила лицо офицера; по выражению дрогнувших губ можно было бы подумать, что офицер волновался; будто он колебался: узнать ему или нет.
– «А… здравствуйте… Вы куда?»
– «Мне на Пантелеймоновскую», – солгал Николай Аполлонович, чтоб пройти с офицером по Мойке.
– «Пойдемте, пожалуй…»
«Вы куда?» – вторично солгал Николай Аполлонович, чтоб пройтись с офицером по Мойке.
– «Я – домой».
– «Стало быть, по пути».
Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных львиных морд [57]57
Здесь описаны симметричные фигуры львов, находящиеся у подъезда особняка графини А. Г. Лаваль на Английской набережной (ныне наб. Красного Флота, 4).
[Закрыть]; каждая морда висела над гербом, оплетенным гирляндой из камня.
Точно стараясь не касаться какого-то тяжелого прошлого, оба они, перебивая друг друга, озабоченно заговорили друг с другом: о погоде, о том, что волнения последних недель отразились на философской работе Николая Аполлоновича, о плутнях, обнаруженных офицером в провиантской комиссии (офицер заведовал, где-то там, провиантом).
Между окнами желтого, казенного здания над обоими повисали ряды каменных морд; каждая висла над гербом, оплетенным гирляндою.
Так проговорили они всю дорогу.
И вот уже – Мойка: то же светлое, трехэтажное пятиколонное здание александровской эпохи; и та же все полоса орнаментной лепки над вторым этажом: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах. Они миновали уж здание; вон за зданием – дом; и вон – окна… Офицер остановился у дома и отчего-то вдруг вспыхнул; и вспыхнув, сказал:
– «Ну, прощайте… вам дальше?…»
Сердце Николая Аполлоновича усиленно застучало: что-то спросить собирался он; и – нет: не спросил; он теперь стоял одиноко перед захлопнутой Дверью; воспоминанья о неудачной любви, верней – чувственного влечения, – воспоминания эти охватили его; и сильнее забились синеватые, височные жилки; он теперь обдумывал свою месть: надругательство над чувствами его оскорбившей особы, проживающей в этом подъезде; он обдумывал свою месть вот уж около месяца; и – пока об этом ни слова!
То же светлое, пятиколонное здание с полосою орнаментной лепки: круг за кругом; в круге же римская каска на перекрещенных мечах.
____________________
Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там – изумруды. Мгновение: там – рубины; изумруды же – здесь, здесь и здесь.
Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «Кофейня», «Фарс», «Бриллианты Тэта», «Часы Омега» [58]58
«Кофейня», «Фарс», «Бриллианты Тэта», «Часы Омега». – В 1905 г. на Невском было 6 кофеен; «Фарс» – название театра Г. Г. Елисеева (Невский, 56); «Американский дом бриллиантов Тэт'а (искусственных)» помещался в доме № 32 по Невскому проспекту (газетная реклама того времени: «Бриллианты ТЭТ'а – лучшая имитация в мире»); «Омега» – название немецкой часовой фирмы (на Невском проспекте располагалось 20 часовых магазинов). Восприятие города, и в частности Петербурга, как воплощенного кошмара оформилось у Белого задолго до романа «Петербург». См., например, его статью «Город» (1907): «Смерть извела из ада великую блудницу, чтобы та брызнула в ночи темь горстями „бриллиантов, сапфиров, яхонтов (…) Вот начертание „Omega“, будто созвездие, мерцает рубиновыми огоньками с высоты пятиэтажного дома. Посмотрите вверх в туманную ночь, и вы подумаете, что в небе горят небывалые звезды (…) Город, извративший землю, создал то, чего нет. Но он же поработил и человека: превратил горожанина в тень. Но тень не подозревала, что она призрачна (…) Город убивает землю. Перековывает ее в хаотический кошмар“ („Арабески“, с. 355 – 357). См. там же статью „Штемпелеванная калоша“ (1907).
[Закрыть]. Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, – и вдаль поплетешься: ты гееннское место постараешься обойти.
Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многоогневыми обстал бы домами, – и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.
Никакой Геенны и не было б.
____________________
Николай Аполлонович Невского не видал, в глазах его был тот же все домик: окна, тени за окнами; за окнами, может быть, веселые голоса: желтого кирасира, барона Оммау-Оммергау [59]59
Фамилия Оммау-Оммергау образована, возможно, от названия селения в Баварии, близ Мюнхена – Обераммергау, где по традиции раз в несколько лет исполняют мистерии «Страсти Христовы» (см.: «Между двух революций», с. 107). Мистериальные празднества в Обераммергау славились на всю Европу, о них сообщалось в русской печати. Ср.: Долгополое Л. К. Символика личных имен в произведениях Андрея Белого. – В кн.: Культурное наследие Древней Руси. Истоки. Становление. Традиции. – М., 1976. – С. 350 – 351.
[Закрыть]; синего кирасира [60]60
Кирасиры – конные части, имевшие на вооружении солдат и офицеров латы. В начале XX в. в России было всего четыре кирасирских полка. Имеются в виду различные цвета мундиров лейб-гвардии кирасирских полков (желтые и синие), входивших в 1-ую гвардейскую кавалерийскую дивизию.
[Закрыть], графа Авена и ее – ее голос… Вот, сидит Сергей Сергеич, офицер, и вставляет, быть может, в веселые шутки:
– «А я шел сейчас с Николаем Аполлоновичем Аблеуховым…»
Аполлон Аполлонович вспомнил
Да, Аполлон Аполлонович вспомнил: недавно услышал он про себя одну беззлобную шутку. Говорили чиновники:
– «Наш Нетопырь [61]61
Нетопырь – один из видов летучих мышей. Это прозвище Аполлона Аполлоновича непосредственно сближает героя романа с Победоносцевым, который уподоблялся в сатирической журналистике и критике летучей мыши или ночным птицам вообще: «Словно обритая летучая мышь в очках и на задних лапах» (Амфитеатров А., Аничков Е. Победоносцев. – СПб., 1907. – С. 44 – 45); «сыч, улетевший из св. синода» (Яблоновский А. Прощаюсь, ангел мой, с тобою… – Восточное обозрение, 1905, № 244) и мн. др. Были выпущены в свет открытки с изображением Победоносцева в виде «нетопыря». На одной из них (автор – Н. Заборовский) изображалось лицо Победоносцева в клобуке, с огромными щупальцами; на другой – черная птица с лицом Победоносцева витала над группой людей со знаменем «Свобода». М. Горький в «Жизни Клима Самгина», описывая открытки «на политические темы», упоминает и «Победоносцева в виде нетопыря» (Горький М. Поли. собр. соч. «Художественные произведения.: В 25-ти т.– М., 1974.– Т. 22.– С. 159; М., 1976. – T. 25.-C. 254).
[Закрыть] (прозвище Аполлона Аполлоновича в Учреждении), пожимая руки просителям, поступает совсем не по типу чиновников Гоголя; пожимая руки просителям, не берет гаммы рукопожатий от совершенного презрения, чрез невнимание, к непрезрению вовсе [62]62
Очевидно, Белый имеет в виду рассуждение Гоголя в главе 3 первого тома «Мертвых душ» о различном обращении одного и того же канцелярского чиновника с разными в должностном отношении лицами (см.: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.– [Л.], 1952.– Т. VI.– С. 49-50). Ср. также наблюдения Белого над «чиновником» в статье «Иван Александрович Хлестаков» (1907), построенной на гоголевских образах: «…он прибежит к себе в департамент, где день свой проведет в строго соразмеренных поклонах, отношениях: тому – глубокий, почтительный (о, конечно, не обидно почтительный!) поклон. Этому изящная улыбка, а этому – кивок» (Столичное утро, 1907, № 117. 18 октября).
[Закрыть]: от коллежского регистратора к статскому…» [63]63
По табели о рангах коллежский регистратор – чин последнего, четырнадцатого класса, статский советник – чин пятого класса.
[Закрыть].
И на это заметили:
– «Он берет всего одну ноту: презрения…»
Тут вмешались заступники:
– «Господа, оставьте пожалуйста: это – от геморроя…»
И все согласились.
Дверь распахнулась: вошел Аполлон Аполлонович. Шутка испуганно оборвалась (так юркий мышонок влетает стремительно в щелку, едва войдете вы в комнату). Но Аполлон Аполлонович не обижался на шутки; да и, кроме того, тут была доля истины: геморроем страдал он.
Аполлон Аполлонович подошел к окну: две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.
И головки там в окнах пропали.
____________________
Здесь, в кабинете высокого Учреждения, Аполлон Аполлонович воистину вырастал в некий центр: в серию государственных учреждений, кабинетов и зеленых столов (только более скромно обставленных). Здесь он являлся силовой излучающей точкою, пересечением сил и импульсом многочисленных, многосоставных манипуляций. Здесь Аполлон Аполлонович был силой в ньютоновском смысле; а сила в ньютоновском смысле, как, верно, неведомо вам, есть оккультная сила [64]64
Произвольное мистическое истолкование закона всемирного тяготения, открытого Ньютоном. По мысли Белого, материальный мир подвержен действию не только механических сил, но и сил оккультных, о чем он сказал в комментариях (1909) к своей статье «Формы искусства»: «Но и в пределах ньютонианского представления космоса понятие о силе видоизменялось; точка приложения сил оказывалась то в пространстве, то вне пространства; сила оказывалась то механической работой, то «qualitas occulta» (к последнему истолкованию силы склонялся сам Ньютон)» («Символизм», с. 510). В 1913 г. Белый отмечал в письме к М. К. Морозовой: «Например, Ньютон: его „сила“ есть конечно „qualitas occulta“. Говоря широко – и Ньютон оккультист: все ньютонианские теории в физике непроизвольно мистичны» (ГБЛ, ф. 171, карт. 24, ед. хр. 16).
[Закрыть].
Здесь был он последней инстанцией – донесений, прошений и телеграмм.
Инстанцию эту в государственном организме он относил не к себе: к заключенному в себе центру – к сознанию.
Здесь сознание отделялось от доблестной личности, проливаясь вокруг между стен, проясняясь невероятно, концентрируясь со столь большой силой в единственной точке (меж глазами и лбом), что казалось, невидимый, беленький огонек, вспыхнувши между глазами и лбом, разбрасывал вокруг снопы змеевидных молний; мысли-молнии разлетались, как змеи, от лысой его головы; и если бы ясновидящий стал в ту минуту пред лицом почтенного мужа, без сомнения пред собой он увидел бы голову Горгоны медузы [65]65
Горгона – в древнегреческой мифологии – крылатое чудовище в женском облике, взгляд которого обращал все живое в камень. Было три Горгоны: Стено, Эвриала и Медуза; Медузу – единственную смертную из Горгон – обезглавил Персей.
[Закрыть].
И медузиным ужасом охватил бы его Аполлон Аполлонович.
Здесь сознание отделялось от доблестной личности: личность же с пучиною всевозможных волнений (сего побочного следствия существованья души) представлялась сенатору как черепная коробка, как пустой, в данную минуту опорожненный, футляр.
В Учреждении Аполлон Аполлонович проводил часы за просмотром бумажного производства: из воссиявшего центра (меж глазами и лбом) вылетали все циркуляры к начальникам подведомственных учреждений. И поскольку он, вот из этого кресла, сознанием пересекал свою жизнь, постольку же его циркуляры, из этого места, секли в прямолинейном течении чресполосицу обывательской жизни.
Эту жизнь Аполлон Аполлонович сравнивал с половой, растительной или всякой иною потребностью (например, с потребностью в скорой езде по петербургским проспектам).
Выходя из холодом пронизанных стен, Аполлон Аполлонович становился вдруг обывателем [66]66
Эту двойственность Аполлона Аполлоновича сам Белый возводил к повести Гоголя «Шинель» с ее полярными образами – Акакия Акакиевича Башмачкина и «значительного лица»: «Шинель» развивает две темы: тему униженности (Акакий Акакиевич); и – тему высокопарицы значительного лица, которое, Башмачкина напугавши до смерти, поздней до смерти напугано: тенью Башмачкина. Аполлон Аполлонович соединяет в себе обе темы «Шинели»: он в аспекте «министра» – значительное лицо; в аспекте обывателя – Акакий Акакиевич»; далее Белый обнаруживает у Аполлона Аполлоновича ряд общих черт с Акакием Акакиевичем: косноязычие, подхихикивание, геморрой и др. («Мастерство Гоголя», с. 305).
[Закрыть].
Лишь отсюда он возвышался и безумно парил над Россией, вызывая у недругов роковое сравнение (с нетопырем). Эти недруги были – все до единого – обыватели; этим недругом за стенами был он себе сам.
Аполлон Аполлонович был сегодня особенно четок: на доклад не кивнула ни разу его голая голова; Аполлон Аполлонович боялся выказать слабость: при исправлении служебных обязанностей!… Возвыситься до логической ясности было ему сегодня особенно трудно: бог весть почему, Аполлон Аполлонович пришел к заключению, что собственный его сын, Николай Аполлонович, – отъявленный негодяй.
Окно позволяло видеть нижнюю часть балкона. Подойдя к окну, можно было видеть кариатиду подъезда: каменного бородача. [67]67
В описании «каменного бородача», возможно, отразились впечатления Белого от скульптурных фигур атлантов, поддерживающих колонны дворца Белосельских-Белозерских (с 1884 г. дворца великого князя Сергея Александровича; архитектор А. И. Штакеншнейдер). Это здание у Аничкова моста (на углу Невского проспекта и Фонтанки) несомненно было хорошо знакомо Белому: осенью 1906 г. он жил в Петербурге в меблированных комнатах на Невском проспекте по другую сторону Аничкова моста.
[Закрыть]
Как Аполлон Аполлонович, каменный бородач приподымался над уличным шумом и над временем года: тысяча восемьсот двенадцатый год освободил его из лесов. Тысяча восемьсот двадцать пятый год бушевал под ним толпами; проходила толпа и теперь – в девятьсот пятом году. Пять уже лет Аполлон Аполлонович ежедневно видит отсюда в камне изваянную улыбку; времени зуб изгрызает ее. За пять лет пролетели события: Анна Петровна – в Испании; Вячеслава Константиновича – нет; желтая пята дерзновенно взошла на гряды высот порт-артурских; проволновался Китай и пал Порт-Артур.
Собирался выйти к толпе ожидавших просителей, Аполлон Аполлонович улыбался; улыбка же происходила от робости: что-то ждет его за дверьми.
Аполлон Аполлонович проводил свою жизнь меж двумя письменными столами: между столом кабинета и столом Учреждения. Третьим излюбленным местом была сенаторская карета.
И вот: он – робел.
А уж дверь отворилась; секретарь, молодой человек, с либерально как-то на шейном крахмале бьющимся орденком подлетел к высокой особе, почтительно щелкнувши перекрахмаленным краем белоснежной манжетки. И на робкий вопрос его загудел Аполлон Аполлонович:
– «Нет, нет!… Сделайте, как я говорил… И знаешь ли», – сказал Аполлон Аполлонович, остановился, поправился:
– «Ти ли…»
Он хотел сказать «знаете ли», но вышло: «знаешь ли… ти ли…»
О его рассеянности ходили легенды; однажды Аполлон Аполлонович явился на высокий прием, представьте, – без галстуха [68]68
Эта деталь могла быть навеяна сатирической поэмой А. К. Толстого «Сон Попова» (1873): герою поэмы приснился сон, будто он явился на прием к министру без панталон. Белый упоминает об этой поэме в шутливом описании кавказского путешествия: «…едем в Тифлис, где читаю две лекции, после чего состоится нечто, от чего с меня заранее от страха и стыда спадают… «штаны», и я переживаю толстовский «Сон Попова»; грузинские писатели устраивают торжественное заседание, мне посвященное…» (Письмо к Иванову-Разумнику от 20 июня 1927 г.– ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 18).
[Закрыть]; остановленный дворцовым лакеем, он пришел в величайшее смущение, из которого его вывел лакей, предложивши у него заимствовать галстух.