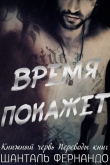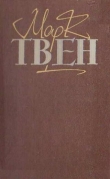Текст книги "Петербург"
Автор книги: Андрей Белый
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Кариатида
Там, напротив, чернел перекресток; и там – была улица; каменно принависла там кариатида подъезда.
Учреждение возвышалось оттуда: Учреждение, где главенствовал надо всем Аполлон Аполлонович Аблеухов.
Есть предел осени; и зиме есть предел: самые периоды времени протекают циклически. И над этими циклами принависла бородатая кариатида подъезда; головокружительно в стену вдавилось ее каменное копыто; так и кажется, что вся она оборвется и просыплется на улицу камнем.
И вот – не срывается.
То, чтó видит она над собой, как жизнь, переменчиво, неизъяснимо, невнятно: там плывут облака; в неизъяснимости белые вьются барашки; или – сеется дождик; сеется, как теперь: как вчера, как позавчера.
То же, чтó видит она под ногами, как и она, – неизменно: неизменно течение людской многоножки по освещенной панели; или же: как теперь, – в мрачной сырости; мертвенно шелестение пробегающих ног; и вечно-зелены лица; нет, не видно но ним, что события уж гремят.
Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события, например, в городке Ак-Тюке, где рабочий на станции, поссорившись с железнодорожным жандармом, присвоил кредитку жандарма, введя ее в свой желудок при помощи ротового отверстия, отчего в тот желудок введено было рвотное – железнодорожным врачом; наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что уже в Кутаисском театре публика воскликнула: «Граждане!…» [275]275
Ср. газетное сообщение: «В Кутаисе. 7-го вечером, во время спектакля русской труппы, в зрительном зале раздался голос: «Граждане, почтим князя С. Н. Трубецкого!» Весь театр поднялся, как один человек. Порядок спектакля нарушен не был» (Биржевые ведомости, № 9066, 1905, 8 октября, вечерний выпуск).
[Закрыть] Не сказал бы никто, что в Тифлисе открыл околоточный фабрикацию бомб [276]276
Белый неточно указывает на событие, происшедшее в Тифлисе 7 октября 1905 г.: «В 10 ч. утра, близ сада Муштаид, на околоточного надзирателя Саникидзе, открывшего фабрику бомб в Авчалае летом, произведено покушение посредством разрывной бомбы. При взрыве легко ранен Саникидзе, 2 женщины и 1 мужчина. Преступник, по которому безуспешно стрелял Саникидзе из револьвера, успел скрыться, перескочив через ближайший забор» (Новости дня, Москва, 1905, 8 октября; об этом случае сообщили и другие петербургские и московские газеты).
[Закрыть], библиотека в Одессе закрылась и в десяти университетах России шел многотысячный митинг [277]277
В дни Всероссийской октябрьской политической стачки волнения и манифестации проходили в Петербургском, Московском, Одесском, Юрьевском, Варшавском, Казанском, Томском, Рижском, Киевском и других университетах.
[Закрыть] – в один день, в один час; не сказал бы никто, что именно в это время тысячи убежденных бундистов привалили на сходку, что кочевряжились пермяки [278]278
Вероятно, Белый имел в виду сходку рабочих Мотовилихинского завода в Перми 8 октября 1905 г. (см.: Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. – М.; Л., 1955. – Ч. 2. – С. 17 – 18).
[Закрыть] и что именно в это время стал выкидывать свои красные флаги, окруженный казаками, ревельский чугунно-литейный завод [279]279
Указание на забастовку рабочих ревельского завода «Двигатель» 7 октября 1905 г. (см.: Русские ведомости. 1905, № 263, 8 октября).
[Закрыть].
Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что ключом била новая жизнь, что Потапенко под таким заглавием оканчивал пьесу [280]280
Игнатий Николаевич Потапенко (1856 – 1928) – беллетрист и драматург, широко популярный а 1880 – 1890-е гг. Белый, по-видимому, опирается на газетное сообщение: «И. Н. Потапенко закончил пьесу „Новая жизнь“ в 4 д. Пьеса пойдет в театре Литературно-Художественного общества» (Биржевые ведомости, № 9071, 1905, 12 октября, утр. вып.). В театре Литературно-Художественного общества пьеса была впервые поставлена 3 декабря 1905 г. Белый иронически упоминает название пьесы, подчеркивая несоответствие революционных событий и устаревшего банально-нравоучительного творчества Потапенко. «В „Новой Жизни" сказался весь г. Потапенко со всем его бодрым, но узеньким миросозерцанием», – отмечал рецензент Ст. Т. (И. М. Хейфиц) (Одесские новости, № 6848, 1906).
[Закрыть], что уже началась забастовка на Московско-Казанской дороге [281]281
Вечером 6 октября 1905 г. отказались продолжать работу машинисты товарных поездов Московско-Казанской железной дороги; с 3 часов дня 8 октября движение на этой дороге было совершенно прекращено. Забастовка на Московско-Казанской железной дороге положила начало всеобщей забастовке железнодорожников.
[Закрыть]; поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы, прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской железных дорогах [282]282
Забастовка на Московско-Курской и Московско-Нижегородской железных дорогах началась 8 октября 1905 г. (Муромская железная дорога – Муромская линия Московско-Нижегородской железной дороги), на Московско-Виндаво-Рыбинской – 10 октября. Движение поездов прекратилось также на Московско-Ярославско-Архангельской, Московско-Киево-Воронежской, Московско-Брестской и Николаевской железных дорогах.
[Закрыть]; и десятками тысяч вагоны, пораженные столбняком, останавливались в многообразных пространствах; сообщение – мертвенело. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что в Петербурге уж гремели события, что наборщики почти всех типографий, избрав делегатов, сроились [283]283
2 октября 1905 г. на общем собрании петербургских типографских рабочих было решено, выражая солидарность с наборщиками московских типографий, бастовавших с 21 сентябра по 3 октября, прекратить работу на три дня. 4 октября не вышли столичные газеты; в этот же день войсками была разогнана депутация от наборщиков в Экспедицию заготовления государственных бумаг. Выход петербургских газет возобновился лишь 7 октября.
[Закрыть]; и – бастовали заводы: судостроительный, Александровский, прочие [284]284
Забастовка на Невском судостроительном и других заводах по Шлиссельбургскому тракту началась 4 октября 1905 г. Согласно донесению петербургского градоначальника В. А. Дедюлина от 5 октября 1905 г., «число рабочих, прекративших работы на Невском судостроительном, Александровском механическом и Трубопрокатном заводах, а равно на Спасско-Петровской мануфактуре и ситценабивной фабрике Паля, составляет 14 000 чел.» (Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, ч. 1, с. 348-349; ср.: ч. 2, с. 511 – 512).
[Закрыть]; что пригороды Петербурга кишели манджурскою шапкою; наблюдая проход котелков, не сказал бы никто, что идущие были т е, да не т е; что не просто шагали, но шагали, тая в себе беспокойство, чувствуя свою голову головой идиотской, с несросшимся теменем, разрубаемым шашкою, расшибаемым и просто деревянным колом; если бы припасть ухом к земле, то услышали бы они чей-то ласковый шелест: шелест от непрерывного револьверного треска – от Архангельска до Колхиды и от Либавы до Благовещенска.
Но циркуляция не нарушилась: монотонно, медлительно, мертвенно еще текли котелки под ногами кариатиды.
____________________
Серая кариатида нагнулась и под ноги себе – смотрит: на все ту же толпу; нет предела презрению в старом камне очей; пресыщению – нет предела; и нет предела – отчаянью.
И, о, если бы силу!
Распрямились бы мускулистые руки на взлетевших над каменной головою локтях; и резцом иссеченное темя рванулось бы бешено; в гулком реве, в протяжно-отчаянном реве, – разорвался бы рот; ты сказал бы: «То рев урагана» (так ревели черные тысячи картузов городских громил на погромах); как из свистка паровоза, паром обдало б улицу; привскочил бы над улицей ею оторванный от стены сам балконный карниз; и распался б на крепкие громко-гремящие камни (очень скоро потом разбивали камнями окна земских управ и губернских земских собраний); каменным градом на улицу оборвалося бы старое изваяние это, описавши в мрачнеющем воздухе и стремительную, и ослепительную дугу; и кровавясь осколками, улеглось бы оно на испуганных котелках, проходивших здесь – мертвенно, монотонно, медлительно…
____________________
В этот серенький петербургский денечек распахнулась тяжелая, роскошная дверь: серый бритый лакей с золотым галуном на отворотах бросился из передней подавать знаки кучеру; кони кинулись на подъезд, подкатили лаковую карету; серый, бритый лакей поглупел и вытянулся в струну, когда Аполлон Аполлонович Аблеухов, сутуловатый, согбенный, небритый, с болезненно опухшим лицом и с отвисшей губой прикоснулся к краю цилиндра (цвета воронова крыла) перчатками (цвета воронова крыла).
Аполлон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, исполненный равнодушия взгляд на вытянутого лакея, на карету, на кучера, на большой черный мост, на равнодушные пространства Невы, где так блекло чертились туманные, многотрубные дали и где пепельно встал неотчетливый Васильевский Остров с бастовавшими десятками тысяч.
Вытянутый лакей захлопнул каретную дверцу, на которой изображался стародворянский герб: единорог, прободающий рыцаря; карета стремительно пролетела в грязноватый туман – мимо матово намечавшегося черноватого храма, Исакия, мимо конного памятника императора Николая – на Невский, где сроилась толпа, где, отрывался от деревянного древка, гребнями разрывались по воздуху, где трепались и рвались – легкосвистящие лопасти красного кумачового полотнища; черный контур кареты, абрис треуголки лакея и разлетевшихся в воздухе крыльев шинели неожиданно врезался в черную, косматую гущу, где манджурские шапки, околыши, картузы, сроившись, грянули в стекла кареты отчетливым пением.
Карета остановилась в толпе.
Пошел прочь, Toм!
– «Mais j'espère…» [285]285
Я надеюсь… (фр.). – Ред.
[Закрыть]
– «Вы надеетесь?»
– «Mais j'espère que оui», [286]286
Я надеюсь, что так будет (фр.). – Ред.
[Закрыть] – дзенкнула из-за двери речь иностранца.
Шаги Александра Ивановича простучали по доскам терраски с намеренной твердостью; Александр Иванович подслушивать не любил. Дверь, ведущая в комнаты, была полуоткрыта.
Темнело: синело.
Его шагов не расслышали. Александр Иванович Дудкин решил не подслушивать; поэтому переступил порог двери он.
В комнате стояло тяжелое благовоние; смесь парфюмерии с какою-то терпкою кислотою: с медикаментами.
Зоя Захаровна Флейш [287]287
Зоя Захаровна Флейш. – Fleisch (нем.) – мясо.
[Закрыть] любезничала, как всегда. В кресло силилась она усадить какого-то захожего иностранца; иностранец отнекивался.
Темнело: сипело.
– «Ах, как рада вас видеть… Очень, очень рада
вас видеть: оботрите ноги, разденьтесь…»
Но ответной радости не последовало; Александр Иванович пожал Зоину руку.
– «Вы, надеюсь, вынесли прекрасное впечатление о России… Не правда ли…», – обратилась она к поджарому иностранцу. – «Какой небывалый подъем?»
И француз сухо дзенкнул:
– «Mais j'espère…»
Зоя Захаровна Флейш, потирая пухлые пальцы, попеременно обращала свой ласковый, немного растерянный взор то на француза, то на Александра Ивановича; у нее были выпуклые глаза: они вылезали из орбит. Зое Захаровне казалось лет сорок; Зоя Захаровна была большеголовой брюнеткой; эмалированы были ее крепкие щеки; со щек сыпалась пудра.
– «А его еще нет… Ведь вам его надо?» – спросила она невзначай Александра Ивановича; в этом беглом вопросе обнаружилась затаиваемая тревога; может быть, затаилась враждебность; а может быть, ненависть; но тревогу, враждебность и ненависть ласково покрывали: улыбка и взор; так скрывается в продаваемых липко-сладких конфетах вся отвратная грязь непроветряемых кондитерских кухонь.
– «Ну, я все-таки его подожду».
Александр Иванович поклонился французу; он потянулся за грушею (на столе стояла ваза с дюшесами); Зоя Захаровна Флейш от Александра Ивановича тут отставила вазу: Александр Иванович так любил груши [288]288
Белый использовал здесь характерную черту поэта-символиста, переводчика и критика Эллиса (Л. Л. Кобылинского). В воспоминаниях Белый пишет о нем: «Увидев прекрасно сервированный стол с вазой дюшесов, испытывал колики голода (…) голодный Эллис, не бравший сутками ничего в рот, набивал желудок дня на два дюшесами: ваза пустела к ужасу хозяек (…)» («Начало века», с. 52).
[Закрыть].
Груши грушами, но не в них была сила.
Сила – в голосе: в голосе, запевавшем откуда-то; голос был совершенно надорванный, невозможно крикливый и сладкий; и при этом: голос был с недопустимым акцентом. На заре двадцатого века так петь невозможно: просто как-то бесстыдно; в Европе так не поют. Александру Ивановичу померещилось, что поющий – сладострастный, жгучий брюнет; брюнет – непременно; у него такая вот впалая грудь, провалившаяся между плеч, и такие вот глаза совершенного таракана; может быть, он чахоточный; и, вероятно, южанин: одессит или даже – болгарин из Варны (пожалуй, так будет лучше); ходит он в не совсем опрятном белье; пропагандирует что-нибудь, ненавидит деревню. Строя мысли свои о невидимом исполнителе песенки, Александр Иванович потянулся вторично за грушею.
Между тем Зоя Захаровна Флейш ни на минуту от себя не отпускала француза:
– «Да, да, да: мы переживаем события исторической важности… Всюду бодрость и молодость… Будущий историк напишет… Не верите? Походите на митинги… Послушайте пылкие излияния чувств, поглядите: всюду – восторг».
Но француз не желал поддерживать разговор.
– «Pardon, madame, monsieur viendra-t-il bientôt?» [289]289
Прошу прощения, мадам, скоро ли придет мосье? (фр.) – Ред.
[Закрыть]
Чтоб не быть свидетелем этого неприятного разговора, почему-то унизившего его национальное чувство, Александр Иванович подошел вплотную к окошку, чуть было не споткнувшись о косматого сенбернара, на полу глодавшего кость.
Дачка окнами выходила на море: темнело, синело.
Повернулся глаз маяка; заморгал огонечек: «раз-два-три» – и потух; полоскался по ветру там темный плащ отдаленного пешехода; еще дальше курчавились гребни; световою крупою порассыпались береговые огни; многоглазое взморье ощетинилось тростником; издали завывала сирена.
Какой ветер!
– «Вот вам пепельница…»
Пепельница опустилась под носом Александра Ивановича: но Александр Иванович был обидчивый человек, так что ткнул окурком он в цветочную вазу: ткнул из духа протеста.
– «А поет-то там, кто?»
Зоя Захаровна сделала жест, из которого явствовало, что Александр Иванович отстал: недопустимо отстал.
– «Как? Вы не знаете?… Да, конечно: не знаете… Ну, так знайте: Шишнарфиев… Вот что значит сидеть бирюком… Шишнарфиев, – он со всеми нами освоился…»
– «Где-то фамилию слышал…»
– «Шишнарфиев замечательно артистичен…»
Зоя Захаровна произнесла эту фразу с видом решительным – с таким видом, как будто он, Александр Иванович, издавна над артистичностью всем известного, со всеми дружащего обладателя имени поставил неуместнейший вопросительный знак. Но Александр Иванович талантов этого самого господина не намеревался оспаривать.
Он спросил всего-навсего:
– «Армянин? Болгарин? Грузин?»
– «Нет и нет…»
– «Хорват? Персианин?»
– «Персианин из Шемахи, чуть было недавно не павший жертвою резни в Испагани [290]290
Шемаха – город в Азербайджане, в IX – XVI вв. был резиденцией ширваншахов. Мспаганъ (Исфахан) – город в центральной части Ирана второй по значению в стране, в XVI – XVII вв. – столица государства. В данном случае допущен анахронизм: речь идет о начальных событиях Иранской революции 1905 – 1911 гг. – столкновениях между сторонниками конституционных реформ и феодальной реакцией, в частности, в Исфахане летом 1906 г. Возможно, Белый также подразумевает другой эпизод Иранской революции – вооруженное восстание в Исфахане в январе 1909 г. и изгнание шахского губернатора. См.: Б ер ар В. Персия и персидская смута. – [СПб.], 1912. – С. 123.
[Закрыть]…»
– «А… младоперс [291]291
Младоперсы (название образовано по словообразовательной модели: младотурки, младоафганцы и т. д.) – сторонники конституционных реформ, участники Иранской революции
[Закрыть]?»
– «Разумеется… Вы не знали?… Стыдитесь…»
Взгляд сожаления, снисхождения в его сторону, и – Зоя Захаровна Флейш повернулась к французу.
Александр Иванович, естественно, разговора не слушал: слушал он безнадежно сорванный тенор; деятель младой Персии пел там страстный цыганский романс и навеивал ни душу все какие-то невеселые думы. Между прочим: Александр Иванович вскользь подумал о том, что черты лица Зои Флейш по справедливости были сняты с лиц самых разнообразных красавиц: нос – с одной, рот – с другой, уши – с третьей красавицы.
Вместе ж взятые, решительно они раздражали. И казалась Зоя Захаровна сшитою из многих красавиц, будучи сама далеко не красива – ей, ей! Но существеннейшею чертою ее была принадлежность к категории, что называется, жгучих восточных брюнеток.
Трескучая болтовня Зои Захаровны тем не менее долетала и настигала Александра Ивановича:
– «Это вы о деньгах?»
Молчание.
– «Деньги из-за границы – понадобятся…»
Нетерпеливое движение локтя.
– «Вашему редактору лучше не приезжать после разгрома организации Т. Т…»
Но француз – ни гу-гу.
– «Потому что найдены документы».
Если бы Александр Иванович мог подумать о деле, то известие о разгроме Т. Т. могло бы (это скажем мы) сшибить его с ног; но он слушал, – как деятель младой Персии заливался романсом. Француз этим временем, выведенный из себя так и лезшею к нему Зоей Флейш, осадил:
– «Je serai bien triste d'avoir manqué l'occasion de parler à monsieur» [292]292
Мне будет очень грустно не воспользоваться случаем поговорить с господином (фр.). – Ред.
[Закрыть].
– «Все равно: говорите со мною…»
– «Excusez, dans certains cas je prefère parler personellement…» [293]293
Извините меня, в некоторых случаях я предпочитаю говорить лично… (фр.). – Ред.
[Закрыть]
В окне бился куст.
Меж ветвями куста было видно, как пенились волны да раскачивалось парусное судно, вечеровое и синее; тонким слоем резало оно мглу остро-крылатыми парусами; на поверхности паруса медленно уплотнялась синеватая ночь.
Казалось, что вовсе стирается парус.
К садику в это время подъехал извозчик; тело грузного толстяка, страдающего явно одышкой, неторопливо вываливалось из пролетки; обремененная полудюжиной на веревочках заколебавшихся свертков, неповоротливая рука медлительно как-то стала возиться над кожаным кошельком; из-под мышки над лужею косолапо выпал мешок; на лету разрывая бумагу, антоновки покатились по грязи.
Господин завозился над лужею, подбирая антоновки; пальто его распахнулось; он, очевидно, кряхтел; затворяя калитку, он вновь едва не рассыпал покупочки.
Господин приблизился к дачке по садовой желтой дорожке между двух рядов в ветре изогнутых кустиков; распространилась вокруг та гнетущая знакомая атмосфера; покрытая шапкой с наушниками, круто как-то на грудь оседала зловещая голова; глубоко в орбитах сидящие глазки на этот раз не бегали вовсе (как бегали они перед всяким пристальным взором); глубоко сидящие глазки устало уставились в стекла.
Александр Иванович успел подсмотреть в этих глазках (представьте себе!) какую-то особую, свою радость, смешанную с усталостью и печалью – чисто животную радость: отогреться, выспаться и плотно поужинать после стольких перенесенных трудов. Так зверь кровожадный: возвращаясь в берлогу, кажется зверь кровожадный домашним и кротким, обнаружив беззлобие, на какое способен и он; дружелюбно обнюхивает тогда этот зверь свою самку; и облизывает заскуливших щенят.
Неужели это особа?
Да: это – особа; и особа на этот раз не ужасная; вид ее – прозаический; но это – особа.
– «Вот и он!»
– «Enfin…» [294]294
Наконец-то… (фр.). – Ред.
[Закрыть]
– «Липпанченко!…»
– «Здравствуйте…»
Желтый пес, сенбернар, с радостным ревом метнулся чрез комнату и, подпрыгнув, пал мохнатыми лапами прямо особе на грудь.
– «Пошел прочь, Том!…»
Особа не имела даже и времени заприметить своих незваных гостей, защищая отчаянно от мохнатого сенбернара покупочки; на широко-плоском, квадратном лице отпечатлелась смесь юмора с беспомощней злостью; проскользнула – просто какая-то детскость:
– «Опять обслюнявил».
И беспомощно повернувшись от Тома, особа воскликнула:
– «Зоя Захаровна, освободите ж меня…»
Но широкий песий язык неуважительно облизнул кончик особина носа; тут особа пронзительно вскрикнула – беспомощно вскрикнула (в то же время она, представьте себе, – улыбалась)…
– «Томка же!»
Но увидев, что – гости, и что гости-то – ждут, нетерпеливо посмеиваясь на идиллию домашнего быта, особа перестала смеяться и отрезала безо всякой учтивости:
– «Позвольте, позвольте! Сейчас: вот я только…»
И при этом обидчиво дрогнула отвисающая губа; на губе же было написано:
– «И тут нет покою…»
Особа бросилась в угол; там топталась – в углу: все не снимались калоши – новые и несколько тесные; долго еще она стояла в углу, медля снять пальтецо и рукой копаясь в туго набитом кармане (будто там был запрятан двенадцатизарядный браунинг); наконец, рука вылезла из кармана – с детской куколкою, с Ванькой-Встанькой.
Куколку эту она швырнула на стол.
– «А это вот Акулининой Маньке…»
Гости, признаться, тут разинули рты. После же, потирая озябшие руки, она обратилась к французу с робеющей подозрительностью:
– «Пожалуйте… Вот сюда… Вот сюда».
И – кинула Дудкину:
– «Повремените…»
Лобные кости
– «Зоя Захаровна…»
– «А?»
– «Шишнарфиев – это я понимаю: деятель младой Персии, пылкая артистическая натура; но вот – при чем тут француз?»
– «Много станете знать – скоро станете стары», – не по-русски ответила та, и чрезмерные перси ее заходили над туго затянутым лифом; пощипывал в руке пульверизатор.
В комнате слышалось тяжелое благовоние: смесь парфюмерии с искусственно приготовляемым зубом (кто сиживал в зубоврачебных квартирах, тот запах этот знает наверное – запах не из приятных).
Зоя Захаровна тут придвинулась к Александру Ивановичу.
– «А вы вое… отшельником…»
Губы Александра Ивановича как-то криво поджались:
– «Ваш же сожитель давно уже постарался об этом…»
– «?»
– «Коли я не буду отшельником, все равно: кто-нибудь отшельником да уж будет…»
Направление разговора Зое Захаровне не понравилось явно, так что снова нервически стал в руках ее пощипывать пульверизатор; Александр Иванович улыбнулся нехорошей улыбкой, и – поправился.
– «Да и то сказать: мне рассеяние не к лицу».
Это новое течение мыслей Зоя Захаровна приняла; и поспешила сострить она:
– «Оттого-то вы так рассеянны: пеплом мне засыпали скатерть?»
– «Простите…»
– «Ничего: вот вам пепельница…»
Александр Иванович протянулся за новою грушею; и, проделавши это движение, Александр Иванович себе с досадой сказал:
– «Экая скряга…»
Он увидел, что вазы с дюшесами (он-таки дюшесы любил) – вазы с дюшесами не было.
– «Вы что? Вот вам пепельница…»
– «Знаю: я – за дюшесом…»
Зоя Захаровна не предложила дюшесов.
Двери в ту дальнюю комнату были не вовсе притворены: в полуоткрытую дверь с ненасытимою жадностью он смотрел; там виднелися два сидящие очертания. Французик растараторился; и казалось, что дзенькает; а особа глухо бубукала, перебивала французика; нетерпеливо хваталась она в разговоре за письменные принадлежности – то за ту, то за эту; и чесала затылок угловатым жестом руки; видимо, сообщеньем француза особа была взволнована не на шутку; жест просто самообороны какой-то подметил Александр Иванович.
– «Бу-бу-бу…»
Так раздавалось оттуда.
А сенбернар Том на клетчатое колено особе положил свою слюнявую морду; и особа рассеянно гладила его шерсть. Тут наблюдения Александра Ивановича перебили: перебила Зоя Захаровна.
– «Отчего это вы перестали бывать у нас?»
Он рассеянно посмотрел на ее оскаленный рот: посмотрел и заметил:
– «Да так себе: сами же вы сказали – отшельник я…»
Золото пломбы проблистало в ответ:
– «Не отвертывайтесь».
– «Да нисколько…»
– «Просто вы обижены на него…»
– «Вот еще…» – попытался было возразить Александр Иванович и оборвал свои оправдания: вышло – неубедительно.
– «Просто вы обижены на него. Все на него обижаются. И тут вмешался Липпанченко… Этот Липпанченко!… Портит ему репутацию… Да поймите ж: Липпанченко – необходимая, взятая роль… Без Липпанченко давно бы он был уж схвачен… Липпанченкой он покрывает всех нас… Но все верят в Липпанченко…»
Некоторые существа имеют печальное свойство: дурной запах во рту… Александр Иванович отодвинулся.
– «Все на него обижаются… А скажите», – Зоя Захаровна ухватилась за пульверизатор, – «где сыщете вы такого работника?… А? Где сыщете?… Кто согласится, скажите, как он, отказавшись от всех естественных сантиментов, быть Липпанченкой – до конца…»
Александр Иваныч подумал, что особа была что-то уж слишком Липпанченкой: но возражать не хотел.
– «Уверяю вас…»
Но она перебила:
– «Как же вам не стыдно так его оставлять, так таиться, скрываться; ведь Колечка мучается; рвать все прошлые, интимные связи…»
Александр Иванович с изумлением вспомнил, что особа-то – Колечка: сколько месяцев этого он, признаться, не вспомнил?
– «Ну, если там он и выпьет, нагрубиянит; и – ну, там – увлечения… Так ведь: лучшие же спивались, развратничали… И по личной охоте. Колечка же делает это для отвода лишь глаз – как Липпанченко: для безопасности, гласности, пред полицией, для общего дела он так губит себя».
Александр Иваныч усмехнулся невольно, но поймал на себе недоверчивый, озлобленный взгляд:
– «Чтó…»
И поспешил:
– «Нет… ничего я…»
– «Тут ведь самая страшная жертва… Не поверите ли, ведь ему грозит многое; от насильственных частых попоек, от обязательных в его положении кутежей преждевременно Николай погубит себя…»
Александр Иванович знал, что Зоя Захаровна подозревает его в том, что он слишком часто бывает с Липпанченко в ресторанчиках, приучая Липпанченко… к многому…
– «Это может ведь кончиться плохо…»
Ну и жизнь: здесь – сможет кончиться плохо; он, Александр Иванович, медленно сходит с ума. Николая Аполлоновича придавили тяжелые обстоятельства; что-то такое неладное завелось у них в душах; тут ни – полиция, ни – произвол, ни – опасность, а какая-то душевная гнилость; можно ли, не очистившись, приступать к великому народному делу? Вспомнилось: «Со страхом Божиим и верою приступите» [295]295
Слова, возглашаемые дьяконом во время православной литургии (см.: Никольский К. Руководство к изучению богослужения православной церкви. – СПб., 1901. – С. 126 – 127).
[Закрыть]. А они приступали без всякого страха. И – с верой ли? И так приступая, преступали какой-то душевный закон: становились преступниками, не в том смысле конечно… а – иначе. Все же они преступали.
– «Вспомните Гельсингфорс и катанье на лодках…», – в голосе Зои Захаровны тут послышалась неподдельная грусть. – «И потом: эти сплетни…»
– «А какие?»
Он заинтересовался, он вздрогнул.
– «О Колечке сплетни!… Вы думаете, не подозревает он, не терзается, не кричит по ночам» (Александр Иваныч запомнил, что – кричит по ночам) – «как они о нем говорят после столького. И – нет благодарности, нет сознания, что человек пожертвовал всем… Он вое знает: молчит, убивается… Оттого-то он мрачен… Он душою кривить не умеет. Выглядит он всегда неприятно», – в голосе Зои Захаровны послышался чуть не плач, – «выглядит неприятно… с этой… несчастной наружностью. Верите: он – ребенок, ребенок…»
– «Ребенок?»
– «А вам удивительно?»
– «Нет», – замялся он, – «только, знаете, как-то странно мне это слышать, все-таки представление о Николае Степановиче не вяжется как-то…»
– «Настоящий ребенок! Посмотрите: куколка – Ванька-Встанька», – рукою она указала на куколку, просверкавши браслетом… – «Вы вот уйдете: наговорите ему неприятностей, а он – он!…»
– «?»
– «Он посадит к себе на колени кухаркину дочку и играет с ней в куклы… Видите? А они его упрекают в коварстве… Господи, он играет в солдатики!…»
– «Вот так-так!»
– «В оловянные: покупает персов, выписывает из Нюренберга коробочки… Только – это секрет… Вот какой он!… Но», – брови ее резко сдвинулись, – «но… в детской запальчивости он способен на все».
Александр Иванович все более убеждался из слов, что особа-то скомпрометирована не на шутку; а он этого, признаться, не знал; эти намеки на что-то теперь принял он к сведению, уплывая взором туда, где сидели они…
Круто как-то на грудь падала узколобая голова; в орбитах глубоко затаились пытливо сверлящие глазки, перепархивающие от предмета к предмету; чуть вздрагивала и посасывала воздух губа. Многое было в лице: отвращением необоримым лицо стояло пред Дудкиным, складываясь в то самое странное целое, уносимое памятью на чердак, чтобы ночью там зашагать, забубукать – сверлить, посасывать, перепархивать и выдавливать из себя невыразимые смыслы, не существующие нигде.
Он теперь внимательно всматривался в гнетущие и самою природою тяжело построенные черты.
Эта лобная кость… -
Эта лобная кость выдавалась наружу в одном крепком упорстве – понять: что бы ни было, какою угодно ценою – понять, или… разлететься на части. Ни ума, ни ярости, ни предательства не выдавала лобная кость; лишь усилие – без мысли, без чувства: понять… И лобные кости понять не могли; лоб был жалобен: узенький, в поперечных морщинах: казалось, он плачет [296]296
В характеристике внутреннего мира Липпанченко Белый, возможно, опирался на суждения Р. Штейнера о смысле личности провокатора Е. Ф. Азефа. Слова Штейнера об Азефе приводит в своих воспоминаниях М. В. Сабашникова (Волошина): «Посмотрите на это лицо, на этот лоб – он не способен мыслить. Посмотрите на нижнюю часть лица, она показывает непреодолимую бычью силу действия, без участия воли. Он должен беспрепятственно выполнять действия, продиктованные чужой волей. Поэтому и кажется он таким смелым. Но он выполнял только то, чего требовала полиция или чего хотели революционеры. И он был искренен, когда оплакивал их гибель» (Wо1оsсhin Margarita. Die griпne Schlange, S. 216).
[Закрыть].
Пытливо сверлящие глазки… -
Пытливо сверлящие глазки (приподнять бы им веки [297]297
Реминисценция из повести Н. В. Гоголя «Вий»: «„Подымите мне веки: не вижу!" – сказал подземным голосом Вий – и все сонмище кинулось подымать ему веки» (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. – [Л.], 1937. – Т. П. – С. 217).
[Закрыть]!) – стали бы и они… так себе… глазками.
И они были грустными.
А посасывающая воздух губа напоминала – ну, право же! – губку полуторагодовалого молокососа (только не было соски); если б в губы ему настоящую соску, то не было б удивительно, что губа все посасывает; без соски же это движение придавало лицу прескверный оттеночек.
Ишь ведь – тоже: играет в солдатики!
Так внимательный разбор чудовищной головы выдавал лишь одно: голова была – головой недоноска; чей-то хиленький мозг оброс ранее срока жировыми и костяными наростами; и в то время как лобная кость выдавалась чрезмерно наружу надбровными дугами (посмотрите на череп гориллы), в это время под костью, может быть, протекал неприятный процесс, называемый в общежитии размягчением мозга.
Сочетание внутренней хилости с носорожьим упорством – неужели это вот сочетание в Александре Ивановиче и сложило химеру [298]298
Химера (древнегреч. миф.) – чудовище с львиной головой, длинным языком, козьим туловищем и змеиным хвостом.
[Закрыть], а химера росла – по ночам: на куске темно-желтых обой усмехалась она настоящим монголом.
Так он думал; в ушах же его затвердилось:
– «Ванька-Встанька… Кричит по ночам… Выписывает из Нюренберга коробочки… Настоящий ребенок…»
И прибавилось от себя:
– «Расшибает лбом лбы… Занимается вампиризмом… Предается разврату… И – тащит к погибели…»
И опять затвердилось:
– «Ребенок…»
Но затвердилось только в ушах: Зоя Захаровна уже вышла из комнаты.