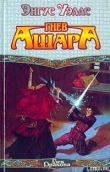Текст книги "Собирай и властвуй (СИ)"
Автор книги: Андрей Андреев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Много, сладенькая, много!
– А взглянуть можно? – в тусклых глазах Руты блеснули искорки интереса, – никогда ещё такого не видела...
– Да там обычная каша, – заупрямился Рюк, – к тому же вонища – жуть!
– Ну, пожалуйста! А за мной не заржавеет...
– Заманчивое предложение, – искатель поскрёб жидкую бородёнку. – Как насчёт моего любимого?
– Обещаю!
– Хакраш с тобой, договорились...
Щёлкнул замками, откинул крышку, из ящичка ударила вонь, да такая сильная, как если бы кулаком в нос! Пушистики дружно принялись чихать, откатились, затявкали. Рута, наоборот, придвинулась, заглянула внутрь: действительно, комок слизи, как обычно и бывало с самозародками, с одной стороны торчит костяная рукоятка, с другой – часть обода, возможно и длинноговорителя. Стоило придвинуться ещё ближе, как в голове зашелестели голоса, даже начала что-то разбирать, но Рюк отпихнул в сторону, поспешно захлопнул крышку.
– Надышалась, сладенькая? – участливо спросил.
– Вроде того...
– Я и сам как пьяный, – искатель прицепил к ящичку ремень, перекинул через плечо, – в голове шумит, ноги еле держат.
– Не лучше ли тогда отправиться к сборщику вместе? – озабоченно спросила Рута. – А то мало ли, где завалишься...
– Какая заботливая, – Рюк усмехнулся, – не бойся, не завалюсь. Хотя нет, вру, у нас же сегодня красная "радуга"! Придется кое на кого и завалиться, и помять, и покусать...
– Да ну тебя!
Рута отмахнулась, а Рюк залился сиплым смехом.
[2]
"Левиафаны" на их квадрат приходят каждый третий день декады, сегодня такой и есть. "Левиафаны" – это огромные мусоровозы, плавными очертаниями и правда похожие на морских исполинов. Площадок, где происходит выгрузка, четыре, о том, какая будет задействована сегодня, сообщают приближённые смотрящего. "Левиафаны" редко появляются раньше полудня, но люди начинают стягиваться ещё с утра, пока не собираются все жители квадрата, вплоть до новичков из карантина. Атмосфера царит праздничная, какой бы скверной ни была погода, все в предвкушении, все ждут, и вот раздаётся возглас, катится штормовым валом по толпе:
– Едут!..
Твердь содрогается от движения тяжелых машин, "левиафаны" будто бы плывут по мусорному морю. Вот первый навис над краем площадки, распахнул широкую пасть, натужился, изрыгнул отходы. За ним второй, третий – горы хлама все выше. Руте вспоминается Горячая, вспоминаются баржи, вспоминается их "кулак". Память вернулась полностью, грызёт не хуже ледяного покрова, который здесь, в Играгуде, называют ледяным саваном. Средств от этой болезни, как выяснилось, нет и у цвергов, а если и есть, то не для простых смертных. Как нет лекарства и от металлика, которым больна старуха в замызганном балахоне, стоящая рядом; кожу её покрывает похожая на ртуть плёнка, волосы жёсткие, словно проволока, движения резкие, рваные, как у голема. Зовут старуху Урсулой, Рута прибилась к ней после того, как Рюк пропал. То ли погубил его синий самозародок, то ли наоборот, появилась возможность с чистилки убраться, чем искатель не преминул воспользоваться. Ведь ничего смертельного у Рюка не было – подумаешь, горгон обжег своим ядовитым дыханием.
– Я из бестиария "Когти и зубы", – похвалился однажды, после любви, похожей на тот же бестиарий, – слыхала о таком?
Память у Руты не только восстановилась, ещё и улучшилась – без труда могла теперь вспомнить любую мелочь, и, как бы это сказать, рассмотреть с разных сторон.
– Что-то такое припоминаю... – прижала палец к губам. – Тот, где охота на живца, так?
– Я же говорю, – Рюк кивнул с довольным видом, – известное место! Кто-нибудь что-нибудь, да слышал.
– То есть ты этим самым, живцом? И как только не страшно! В бестиариях же, как слышала, чудовища исключительно лютые, из самой Дыры...
– Страшно, сладенькая, а как же, да только оплата до того страшно высокая, что на всё остальное закрываешь глаза. Безобразие у меня на лице от кого, думаешь? Горгон, стервец, дыхнул, прежде чем укокошили. Да только не в нём дело, а в том засранце-охотнике, который, чтобы неустойку не выплачивать, обставил всё так, будто я помер. Золтаном его звать-величать, Золтаном... Сучий магнат! Но ничего, я ещё вернусь, я им всем покажу...
"Левиафаны" медленно разворачиваются, уходят, за дело принимаются щелкуны, катятся со всех сторон к нагромождениям мусора. Тел, как таковых, у них нет, только одна огромная пасть с кольями кристальных зубов. Люди сторонятся, отходят от огороженной невысоким барьером площадки подальше, потому что щелкунам всё равно, что перемалывать. Кожа у них в пупырышках, как у жаб, и раздуваются так же. Раздувшиеся до предела не уступают размерами тем воздушным шарам, на которых летают, откатываются, тяжело переваливаясь, на отстойник. Там со временем лопаются, а инферны сжигают то, что осталось. Говорят, щелкуны поглощают только опасные амулеты и артефакты, но никто не знает, сколько в том правды. Больше похоже на то, что им всё равно, что поглощать...
– Теперь наша очередь, – говорит смотрящий, благодаря голосовому артефакту слышат его все прекрасно. – Но не ссорьтесь, братья и сёстры, ваши ссоры делают меня печальным.
– Пошли, – скрипит Урсула, толкая Руту в бок, – полакомимся объедками. Голос у неё грубый, мужской, как и черты лица, легче принять за старика, чем за старуху.
– Мне на этой четвертинке редко везёт, – вздохнув, Рута достаёт метку, – но пойдём, конечно, посмотрим.
Металлик – вещь страшная, однако благодаря ему Урсула чувствует артефакты всем телом, никакая метка ей не нужна. Находит и превосходную ловушку для ржавокрыс, и обогреватель, исполненный в виде куба, и артефакт-кухню, из которой, правда, постоянно лезет каша... Руту предчувствие не обмануло – только пару пищалок и нашла, для отпугивания спицехвостов и прочей подобной нечисти. Чтобы совсем уж не позориться, добавляет к ним цветных трубок – для украшения жилища самое оно.
– Возвращаемся, ладно, – кряхтит Урсула, – а то не дотащим...
– Ага, – кивает Рута, размышляя, как бы так перехватить артефакт-кухню, чтобы не перемазаться в каше с ног до головы.
Со стороны соседнего квадрата уже слышится вой гноллов, пушистики рычат, тявкают. Гноллы – последнее звено в цикле переработки. Стая займёт четвертинку после ухода людей, будет пировать всю ночь, пока утром не прикатятся щелкуны...
[3]
Край неба горит белым – выброс. Застал их с Урсулой недалеко от дома – двухъярусного строения, которые на чистилке принято называть "коробками". Рута называет иначе, Гнездом.
– Какой большой... – шепчет она в испуге, – почему же не было предупреждения?
Руту будто бы завернули в наждачную бумагу, от малейшего движения тело горит огнём. С Урсулой ещё хуже: упала, и хрипит, и трясётся, по коже с треском бегают искорки. Рута хватается за мешковину балахона, тащит.
– Оставь меня, – бормочет Урсула, – уходи...
– Ещё чего, – с гневом отвечает Рута, – и не подумаю!..
Пушистики пищат, жмутся к ногам, Рута спотыкается о Волчка, едва не падает на старуху.
– Пошли вон, плесень лохматая! Смерти моей, что ли, хотите?
Гнездо видно издалека – тоже светится. Цветные трубки по краю плоской крыши вспыхивают то красным, то синим, то зелёным, стены увиты живой проволокой, цветочки на ней, как россыпь звезд.
– Уже рядом, – голос срывается от натуги, – осталось самую чуточку...
Света на западном краю неба всё больше, такой приятный, красивый, будто бы говорит: "Брось, перестань, успокойся, ляг и усни". Рута думает о матери, думает о Примуле – сейчас обе они соединились в Урсуле, потому, наверное, так тяжело. Мир сломал их, ибо твёрдые, но с ней не пройдёт, не такая – текучая, как вода.
– Не дотянешься, слышишь? – кричит, скалясь разъярённой гарпией, – сквозь пальцы пройду!
Кругом всё плывёт, всё качается, "коробка" приближается рывками. Тяжёлая дверь с заклёпками по кромке то ближе, то дальше, то ближе, то дальше, наконец останавливается. У Руты вырывается ликующий возглас – она это сделала! Так, теперь открыть, втащить Урсулу, спуститься на нижний ярус. Руки трясутся, дыхание перехватывает, и первое получается далеко не с первого раза, второе – не со второго, третье – не с третьего. Наконец внизу, закрывает люк плотно, пушистики так и вьются, заливаются радостным тявканьем.
– Эх, вы, – улыбается Рута устало, – помощнички...
Сил дотащить Урсулу до лежанки уже никаких, падает на ложе сама, проваливается в забытьё.
– Воды... – по руке будто бы проходятся крючья, – воды...
Просыпаться не хочется – вот совершенно! – но надо. Урсула пришла в себя, доползла до лежанки, тянет руку.
– Вот же нас угораздило, да? – горько вздыхает Рута. – Но ничего, здесь защита хорошая – у меня вот зуд сразу прошел, да и ты не искришь больше!
Подхватив старуху под руки, поднимает на ложе, та всё тянет своё:
– Воды...
Чистая вода на чистилке ценится высоко, дороже неё только самозародки, потому Рута раздумывает, давать или нет. Волшебной воды здесь хоть отбавляй, отовсюду льётся, но гадости в ней до того много, что не справляются никакие очистители. Артефакты и самозародки на воду в основном и обмениваются, иначе никак. А сидит на запасах с водой, понятное дело, смотрящий.
– Воды, – стонет Урсула, – дай хоть глоточек...
Внутри неё что-то бренчит, как в сломанном механическом големе, Руте не по себе.
– Ладно-ладно, сейчас. Только знаешь же, как у нас мало осталось...
Бочка из камнестали выкрашена в яркий голубой цвет – откидывает крышку, зачёрпывает, даёт кружку Урсуле:
– Вот, держи.
Та жадно пьёт, захлёбывается, но вдруг отбрасывает кружку, вопит:
– Что ты мне налила, курва? Опять это дерьмо оранжевое!..
Поражённая, Рута отступает на шаг, из-под лежанки, разбуженные криком, выкатываются пушистики, звонко тявкают.
– Что ты несёшь, плесень? – удивление сменяется яростью, Рута до боли стискивает кулаки.
– Прости, – по лицу старухи проходят волны, будто стекает ртуть, – я... я не хотела...
– Ах, не хотела!..
Рута подхватывает кружку, бьёт, куда придётся, звук такой, как если бы стучала по бочке. Потом они плачут, обнявшись, Урсула рассказывает:
– Используют нас, пока ресурс свой не выработаем, а потом сюда вот, на свалку, мусор к мусору... Гордилась, что порна, а не простуха какая-нибудь, не ходила – носила себя. И заведение не какое-нибудь, а закрытого типа, для избранных. Хозяина раз только и видела, но запомнила хорошо: толстый, что твой "левиафан", глаза разные, а улыбка широкая такая, до самых ушей. Эх, сюда бы мне его, в эти руки... – сжала пальцы-крючья, со скрежетом.
– Кажется, и я его видела... – тихо говорит Рута. – А как заведение называлось?
– Хо-хо, название с умыслом, "Апельсиновый сад". На оранжевой "радуге" всё было замешано, в три круга, с размахом. На первой ступени иголочки, на второй пьёшь особым образом приготовленный раствор, на третьей в ванне с этим самым раствором принимаешь. Третья ступень – самое страшное, потому что пик наслаждения длится не миг, не минуту, а словно бы останавливается, пойманный в сети "радуги". Сначала поднимаешься в небо, сияешь как Игнифер, только оранжевым светом, затем взрываешься, разлетаешься на осколки, и падаешь, падаешь, падаешь прямо в Дыру...
Урсула умолкает, Рута боится пошевелиться, слышно, как работают артефакты Ветра, забирая воздух плохой, рождая воздух хороший.
– Металлик у тебя после тех ванн, так? – спрашивает наконец Рута.
– Нет, от ванн голос, и вот, борода. Женщин тот раствор делает мужеподобными, мужчинам придаёт черты женщин, такой вот эффект.
Снова молчание, только урчат пушистики, свернувшиеся клубками подле Руты.
– Мне тоже есть, что рассказать, – говорит она, – выслушаешь?
– Конечно, – голос Урсулы со щелчками и скрипами, – почему нет?
И Рута говорит, изливает, потеряв ощущение времени. Угасают всполохи на западном краю неба, вместе с ними угасают и искорки жизни в Урсуле. Старуха больше не бренчит, не щёлкает, будто окончился завод в механизме. Волчок начинает тихонько поскуливать, Чистюля с Грязнулей подхватывают – лишь это вынуждает Руту остановиться, опомниться.
– Нет, – трясёт головой, взглянув на Урсулу, – не уходи...
Душит сухой плач, но Рута быстро берёт себя в руки, преображается.
– Хватит, – слова падают ледяными глыбами, – не могу больше здесь!
Утром она сооружает волокуши, отвозит тело Урсулы к отстойнику, предаёт огню. С виду инферны похожи на пушистиков, но тела у них из лавы, вместо шерсти – шлейф пламени. Плоть Урсулы вмиг обращается пеплом, пепел возносится к небу...
– Прощай, – тихо говорит Рута, – спасибо за всё, особенно за последний наш разговор.
Собирается не торопясь, но и не медля, к полудню на квадрате её уже нет, к вечеру выбирается с чистилки. Пушистики, понятное дело, катятся впереди.
[
Год
тридцатый
]
Третий радующийся
Играгуд, город Крюлод
[1]
Из семи алей эвтаназиума больше всего Руте нравится Зелёная, с яблонями и грушами. Дорожка выложена кристальными плитами, по сторонам уютные скамейки из волшебного дерева, а в самом конце, на возвышении, большой ледяной экран. Прогуливаются они вместе с Лурией, белой проксимой; Рута и не знала, что такие бывают, пока не попала в эвтаназиум. От вопроса, понятное дело, не удержалась:
– А те, которые в проксимариях, получается, чёрные?
– Да, – последовал короткий ответ. Голосок у Лурии хрупкий, и сама тоже хрупкая, кожа будто просвечивает.
– Ну, будем знакомы, сестрёнка, я аккурат из тех самых, из чёрных...
Уйти с чистилки было легко, но что делать дальше, Рута представляла слабо. В конце концов решила отправиться по магистрали на запад, а там насколько сил хватит – до Ивинги, так до Ивинги, до Внешнего кольца, так до Внешнего кольца. Выброс за выбросом смерть приближалась к Руте, сдирала заживо кожу, однако чувствовалось, что не простой она человек, а проксима, пусть и бывшая. Вспомнить Примулу – за год стратилась, тогда как Рута уже четвёртый держится, торосом стоит под напором волшебной воды. В дороге ни она, ни пушистики не голодали: с выходом на магистраль артефакт-кухня сама собой починилась, выдавала теперь весь перечень блюд. Ночевали на станциях, расставленных по магистрали как раз с таким расчётом, что от одной до другой – дневной переход. Подобных ей путников было то густо, то пусто, Рута ни с кем не сближалась, ледяной покров отлично помогал в том, чтобы и у других не возникало желания сблизиться.
Расправив белоснежные одеяния, Лурия устраивается на скамейке, Рута занимает место рядом. Головы поворачивают в сторону экрана, вид там всегда один и тот же: излучина Ивинги. От одного края ледяного прямоугольника к другому проходят большие торговые суда, юркие сопровождающие.
– Только сейчас поняла, как Горячая с Ивингой похожи, – восклицает вдруг Рута, – ведь и текут в одном направлении, и волшебные обе!
Лурия не отвечает, но Руте ответ и не нужен. "Если так разобраться, – думает она, – всю жизнь только и делала, что от Горячей бежала, и от Хребтов, взявших друг друга за руки, и от Дыры. Да только к Дыре и вернулась – замкнулся круг, ухватился амфисбен одной пастью за другую..."
Пушистикам того, что готовила волшебная кухня, было мало – охотились в придорожных лесах. Волчок, неугомонный, дальше всех в дебри забирался, так и пропал. Потерю Рута тяжело переживала, будто не питомца лишилась, а ребёнка, на Чистюлю с Грязнулей так и накидывалась:
– Всё, от меня ни на шаг больше! Никакого вам леса!
Уж с чем-чем, а с сообразительностью у этих ребят был полный порядок – в сторону красно-рыжих зарослей перестали даже смотреть. Да только что толку, если Грязнулю смерть поджидала с другой стороны? Заигравшись с бабочкой, выкатился на магистраль, скользящий шар, пролетевший стрелой, раскатал в кровавый блин. Чистюля, звонко тявкая, едва следом не выкатился, Рута в последний момент удержала.
– Не отпущу! Не отдам! – кричала, прижимая к груди, а он смотрел большими фасетчатыми глазами, и не тявкал уже, не скулил, а всхлипывал, как человек.
Дальше Рута без воодушевления шла – так, ноги переставляла. А места между тем интересные были: приближалась излучина Ивинги, известная на весь Играгуд, приближался город Крюлод. В магистраль, как в большую реку притоки, стекались дороги поменьше, такого разнообразия средств передвижения Руте не приходилось видеть ещё никогда. И червегрузы, движение которых растягивалось порой на часы, и изящные махолёты, похожие на огромных колибри, и прыгуны, скачущие, как кузнечики. Идти тяжелей стало, сила словно бы вытекала из тела, Рута чувствовала каждую капельку. Оттого не всегда успевали они с Чистюлей до дорожных станций добраться – ночевали тогда прямо у магистрали. Никакой ночной холод с пушистиком был не страшен – на чистилке их для того и держали, что от холода самое наилучшее средство. С ночными хищниками было сложнее: один раз, так и вообще, стая бродячих гноллов напала, и если бы не сторожевой дорожный инферн, разодрали бы.
– Вот и думай после такого, – журила она потом пушистика, – непутёвые мы с тобой или всё же везучие?
До Ивинги оставалось всего ничего, когда прямо в дороге у Руты отказали ноги. И ни выброса же, ничего такого, однако же вот, как подкосило.
– Похоже, пришла я, малыш, – сказала Чистюле, что, обернувшись, звонко тявкнул. – А так хотелось на Ивингу поглядеть, на излучину...
Пушистик вдруг зарычал, метнулся куда-то в сторону, а Рута почувствовала холод.
– Что такое? – приподнялась на локте, – что происходит?
Медленным шагом к ней направлялся голем, которого сначала приняла за человека; от человека он почти и не отличался, но Рута откуда-то знала – голем. Чёрные одежды, лицо скрывает маска, правая рука оканчивается не ладонью, а петлёй. Подкатился Чистюля, распахнул широкую пасть, прыгнул...
– Не надо, – вырвалось у Руты, – уходи!..
Не замедляя шага, голем отбил пушистика левой рукой, тот отлетел далеко, уже не поднялся.
– Ах, ты, плесень!.. – прохрипела Рута, роняя от бессилия горькие слёзы.
Подойдя к ней, петлерукий опустился на колено, накинул петлю, оказавшуюся неожиданно широкой, на плечи. Вскрикнуть Рута и не успела даже, утянутая в бархатную пустоту...
– Пора на процедуры, – говорит Лурия, в больших голубых глазах всё милосердие мира.
Рута неохотно поднимается со скамьи, берёт белую проксиму под руку. "Ковчег" – так называется эвтаназиум, именно на этом "корабле" Руте суждено отправиться в последнее своё плавание.
[2]
Белый свод, белые плиты пола, белые одежды Лурии. Рута в камере восстановления, похожей на большой кристаллический гроб, обнажена, в тело входят иглы и трубочки. Летний пик очень тяжело дался – выброс будто на тёрке её натирал, обезболивающие снадобья помогали только отчасти. Закреплена камера восстановления почти вертикально, Рута без труда видит зеркальный купол, расположенный в середине процедурной. Ей холодно, ей теперь всегда холодно, ледяной покров тянется по телу узорами, как если бы вместо кожи была та волшебная ткань, булатик.
Лурия у пульта, нажимает на кнопочки, по иглам и трубкам бежит то одно, то другое, то третье. Рута балансирует на тонкой грани между явью и сном, кто-то прикасается к ней, но не пальцами, а словно тенётовой лентой. Наконец она погружается в сон, долгий и сладкий.
Пробуждается Рута уже в кресле-каталке, Лурия везёт по любимой Зелёной аллее. Деревья в цвету, жужжат трудолюбивые пчёлы, птицы поют, не умолкая. Рядом ещё одно кресло, толкает другая проксима, занимает кресло Тай. Руте бы изумиться, вскрикнуть от нахлынувших чувств, но почему-то не удивлена, ничего не нахлынуло. Понимает, по одной аллее их везут неслучайно, понимание, опять же, эмоций не вызывает, лишь пониманием и остаётся.
– Ты меня помнишь? – спрашивает у Тая, когда проксимы, оставив кресла-каталки на площадке с экраном, отходят.
– Нет... – тот потирает лоб, – кажется, нет...
Кожа у него сплошь в красных точечках, Рута знает, что это такое – игольная лихорадка. Руту выбросы терзают, прохаживаясь по телу тёркой, Тая протыкают иглами, и чем дальше, тем они больше...
– Покажи правое плечо, – просит она, – оголи.
– Оголить? – Тай недоумённо хлопает глазами.
– Да, – Рута тянет шейный вырез эластичной фиолетовой робы, – вот так.
У самой Руты плечо чистое, без каких-либо следов татуировки, как будто и не было никогда огненной лисы. Стёрли в проксимарии, где от следов прошлого избавляться умеют.
– Да, что-то есть, – озадаченно тянет Тай, – белый такой зверь... забыл, как называется...
– Единорог.
– Точно! – Тай расцветает улыбкой, но сразу же хмурится, – выходит, мы и правда раньше встречались?
– Да, – Рута бросает взгляд на экран, по водной глади проносится стремительный катамаран. Вдруг она понимает, многое понимает: цирковые выступления для труппы Олдоса были лишь прикрытием, ширмой, на самом же деле на катамаране переправлялись запрещённые артефакты, самозародки. Такое вот второе дно, не цирк, а контрабанда.
– Не помню, – Тай усиленно трёт виски, – ничего не помню... Я же весь в дырах, а через них и мысли утекают, и память...
– Не знаю, лучше ли, когда памяти нет, – задумчиво говорит Рута, – но что легче, это уж точно.
– Вот и Морпесса так говорит, – вздыхает Тай.
– Морпесса? – Рута вздрагивает, – так зовут твою проксиму?
– Да, – неуверенный кивок, – кажется, да.
Рута оборачивается осторожно, смотрит в сторону проксим. Нет, это другая Морпесса, хотя волосы тоже светлые и глаза немножко похожи. Рута и рада, и огорчена, но огорчена, наверное, всё же больше.
– Расскажи о чём-нибудь из прежней жизни, – просит Тай, тронув за руку, – может, и я тогда вспомню.
– Ох, даже не знаю, – Рута ёрзает в кресле, – из меня ещё та рассказчица! Ты же помнишь, что такое цирк?
– Подожди-подожди... – Тай трёт висок, – ага, вспомнил!
– Так вот, ты был циркачом, жонглёром и акробатом, хотя, когда впервые увидела, подумала, что клоун, до того смешные рожицы корчил.
– Рожицы? – недоумённо переспрашивает Тай, ощупывая лицо.
– Да, а я пришла наняться в вашу труппу танцовщицей, потому что освободилось место – прежнюю разорвали гарпии. Ты тогда ещё пошутил, что знаешь какая, самая из них главная. Сначала я ничего не поняла, но потом, глядя на Ядвигу, с трудом получалось удержаться от смеха, так и распирало!
– Точно! – подпрыгивает в кресле Тай, – Флейта, Виола, и эта, как её, с хохолком...
– Лира, – улыбается Рута, по зернистой, как у змеи, коже сбегает слезинка.
– Ага, Лира! Помню, я помню!
Тай так и сияет, так и светится, но вдруг выгибается, хрипит, а из дырочек на коже брызжет кровь.
– Что вы сидите? – кричит Рута проксимам, – у него же приступ!
Лурия с Морпессой на скамье, застыли в одной позе – прямая спина, руки сложены на коленях, лёгкий наклон головы. "Они же как куклы, – думает Рута, – неужели и я была когда-то такой?.." Хочет встать сама, но ничего не получается, сил нет, а кресло вдруг охватывает ремнями, прижимает, откатывается само собой в сторону.
– Ах, ты же, курва, – рычит Рута, – отпусти!..
Проксимы встают, как если бы за спиной покрутили ключик, к Таю не бегут, но шаг быстрый. По экрану катятся белёсые волны, будто там, на реке, разразилась метель, затем ледяной прямоугольник вспыхивает, угасает. Точно так же вспыхивает и угасает Тай.
[3]
Двенадцатый день месяца Стрекозы, день её рождения, начался неожиданно. После смерти Тая Рута в основном и делала, что спала, а тут пробуждение, и Лурия такая серьёзная.
– К тебе посетитель, – сказала проксима, помогая выбраться из камеры сна. От камеры восстановления та отличалась мало, разве что игл и трубочек меньше, да устлана изнутри чем-то мягким и пористым.
– Да, – сонно пролепетала Рута, – хорошо.
Лурия успела облачить в пижаму, усадить в кресло-каталку, прежде чем наконец-то дошло: посетитель? Какой ещё такой посетитель? Нет, они, конечно, бывают, но исключительно у магнатов, которые эвтаназиум себе могут позволить, которые не прекращают дел даже здесь. При таких всегда свита – и проксимы, и големы, и члены семьи. А Рута? Она же совсем из другой категории, в "Ковчеге" только потому и оказалась, что цверги с ней всё никак не расстанутся.
– Кто это? – спросила у проксимы, не на шутку разволновавшись.
– Капитан корабля, – ответила Лурия, вкатывая кресло на телепортационный диск, – до времени попросил себя не называть.
Колёса кресла шелестят по плитам Зелёной аллеи, с деревьев облетают последние листья, Руте не понадобилось много времени, чтобы понять, кто её ждёт. Другое дело, чтобы поверить...
– Тарнум!..
Он отворачивается от ледяного прямоугольника с видом излучины, смотрит на неё, смотрит. "Не смотри, – хочется выкрикнуть Руте, – не смотри на меня такую!" Однако же не выкрикивает и обезображенного лица руками не закрывает. Куртка на Тарнуме со шнуровкой, штаны со вставками из булатика, сапоги с отворотами. Очень похож на капитана Брана, только без усов, без повязки через глаз, но с бритой наголо головой.
– Ну, вот я тебя и нашёл...
Потом он на скамье, она по-прежнему в кресле, друг против друга, глаза в глаза.
– Знала бы ты, что со мной было, когда и тебя Горячая у меня забрала, – рассказывает Тарнум, – обезумел, как есть обезумел!
– Неужели не сплю, – шепчет Рута, – неужели ты и правда не сон?
– А потом и с лесопилкой простился, и с починком, – продолжает он, – на баржу сел. А знаешь, с чем проститься было сложнее всего? С нашим Гнездом.
– Нет нашего Гнезда больше, – тихо говорит Рута, – разрушила я его, уничтожила...
– Ошибаешься, – качает головой Тарнум, – его не разрушить.
– Не знаю, быть может, – голос Руты дрожит, – прости меня, если можешь, за всё прости...
– Глупая, – Тарнум осторожно касается её щеки, – какая же ты у меня глупая...
Молчат, долго молчат, Рута вздыхает:
– Столько вопросов – и о семье, и о том, как искал, что и не знаю, с какого начать.
– О семье много рассказать не получится, – отзывается Тарнум, – ведь за тобой отправился почти сразу же. Знал, что в Тёплой Гавани непременно задержишься, и настиг бы, но вышла с нашей баржей неприятность – напали пираты. Меня, как и ещё нескольких мужчин, взяли живыми, рабами на их треклятое судно. Там и сгнили бы, если бы эти выродки не попали в облаву.
– Банда Лукана, – догадывается Рута, – пираты ничтожные, пантеону противные...
Память послушно переносит на площадь Правосудия: три грязных человека на эшафоте, а к ним направляется смерть в образе палача с ледяной булавой.
– Так ты слышала о той банде? – удивлённо спрашивает Тарнум, – и до сих пор помнишь?
– Да, – смущённо улыбается Рута, – помню. Так что было дальше, когда попал в Тёплую Гавань?
– В столице непросто пришлось, – Тарнум хмурится, потирает заросшую щетиной щёку, – город очень большой. Блуждал, блуждал, пока будто не толкнуло что-то в "Красные сапожки" заглянуть. Там посчастливилось разговориться с Розамундой, она тебя вспомнила.
– Мы с ней дружили, – кивает Рута, – чуточку.
– Хорошая девушка, – говорит Тарнум слегка изменившимся голосом, – она же и о Натале рассказала. Да лучше бы не рассказывала, потому что из-за Наталы и сбился. До Синглии добраться труда не составило, там не составило труда разузнать, куда она отправилась. Я и подумал, что ты тоже с ней...
– Я хотела, – грустно говорит Рута, – мне с Наталой нравилось, но она не взяла.
– И правильно сделала, – заверяет Тарнум. – Если бы знал, что Беллкор собой представляет, тысячу раз подумал бы, стоит ли совать туда нос. Ну, да ладно, не о том речь. За Наталой долго гонялся, догнал, но только для того, чтобы выяснить – гнался за миражом. И всё же она помогла: переговорила с капитаном, чтобы взяли в команду, а собирались они в Играгуд. Даже если сейчас там нашей вертихвосточки нет, сказала, скоро будет, верь мне.
– А где Натала сейчас, не знаешь? – спрашивает, улыбнувшись, Рута.
– После Играгуда собиралась в Хладу – на покой, как говорила, да только сложно такую, как она, в покое представить.
– Это уж точно. Но кто же помог тебе с розысками здесь? Кроме цвергов, никто на ум не приходит...
– Помогло вот это, – Тарнум достаёт из кармана куртки до боли знакомый осколок артефакта, с продетой в дырочку тесёмкой, – в соединении с чарами поиска. Кстати, надень.
– Нет, ты что, – трясёт головой Рута, – я не могу!
– Надень-надень, иначе я сам, – взгляд суровый, решимость в голосе, потому упирается Рута недолго.
– Вообще, мне здесь нравится, – говорит Тарнум. – Пока тебя искал, неожиданно разбогател – и кораблик хватило приобрести, и команду нанять. Жаль, в это ваше волшебное окошко галеру мою не видать, она тебе понравилась бы.
– А как назвал?
– "Стрекозой", по твоему знаку в круге. Ты же не забыла, какой сегодня день? Так подгадать и старался, чтобы сегодня встретились.
– Нет, не забыла, и я счастлива, правда счастлива.
– Всё хорошо будет, слышишь? – Тарнум берёт её за руку, целует. – Как исцелишься, сразу же заберу, и уплывем, и всегда будем вместе.
– Да, – Рута накрывает его руку своей, – так и будет.
Проксима, застывшая на соседней скамье, внимательно слушает, уголки губ приподняла улыбка.
[
Симбиоз, стадия носителя
]
Интерлюдия первая
[1]
О скором начале выброса говорит молочно-белая пелена, заполнившая сферу соединителя-разделителя. Мысли Аваллаха, растянутого на распорках силовых полей, и без того медленные, словно бы тонут в белом, теряются. Края Раны дрожат, и дрожат все миры Определённого – от Сущего до Ментала. Аваллах чувствует линию, по которой прошло Разделение, обрубки нитей, ведущих к высшему телу, взрываются пиковым выбросом боли. Эта боль притягивает другую – боль новорождённой души. Пойманной в сачок бабочкой, та попадает в область действия соединителя-разделителя, к обрубкам кадавра тянутся яркие нити, пробуют соединиться, но соединиться не получается. Тогда нити тянутся к области Сопряжения, к астральным узлам. Вокруг высшего астрального тела Аваллаха формируется венок из семи энергетических шаров: первым рождается оранжевый, затем голубой, затем жёлтый, красный с зелёным, синий, и, наконец, фиолетовый. Руки энергий мнут ком лавы, придают человеческие очертания, шары раскручиваются радужным колесом, разделяют силовой кокон на две части, как если бы по тому прошлась дисковая пила. Последнего Аваллах вынести уже не в силах, проваливается в спасительную пустоту.