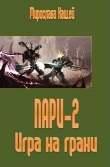Текст книги "Прынцик (СИ)"
Автор книги: Андрей Кокоулин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Посланная к нему, она влетела в гримерку с минеральной водой и оторопела.
Шарыгин печально посмотрел в зеркало, чему-то кивнул и сказал ей:
– Подойди.
– Я? – спросила Галка.
– Кто ж еще? – усмехнулся он. – Новенькая? Что-то ты часто мелькаешь в театре.
– Да, меня взял Федор Арсеньевич.
– А-а-а, по набору, значит, – многозначительно протянул Шарыгин. – Как я тебе?
– Очень-очень, – сказала Галка и, приблизившись, поставила воду на столик. – Ваша вода.
– Спасибо, – величественно кивнул Шарыгин.
Грива у него была убрана под парик, тоже свинцово-серый, в клочках пронзительно-желтых волос. В парике он казался постаревшим.
– Я пойду? – спросила Галка, краснея под немигающим, пусть и отраженным взглядом звезды.
– Погоди, – попросил Шарыгин и продекламировал: – "Мне помнятся карты Святой Земли. Цветные. Очень красивые. Мёртвое море было бледно-голубым. Лишь только взглянув на него, я чувствовал жажду". – И без паузы поинтересовался: – Массировать умеешь?
– Что? – заслушавшись, не сразу переключилась Галка.
– Массировать. Справа. У шеи, – скривился в зеркале Шарыгин.
– Сейчас.
Она подступила.
Шарыгин чуть приспустил с плеч кургузый пиджак.
– Вот-вот-вот, – быстро заговорил он, когда Галка принялась неумело нажимать на его кожу пальцами. – Правее еще.
А потом также, как сейчас, поймал ее ладонь.
– Ты никому не скажешь?
– Нет, – пискнула Галка, вся внутри похолодев.
В голове вспыхивали и гасли гнусные картинки: Шарыгин держит ее, Шарыгин рычит, Шарыгин пытается ее поцеловать, а она отбивается от рук, забирающихся под юбку. Ну а как еще? И зачем никому? – метались мысли.
Сказать, что закричу? Что никто не дает ему права…
– Ах, девочка! – произнес Шарыгин, заставив ее вздрогнуть. – В каком мерзком мире мы живем! Некому, некому раскрыть душу!
И разрыдался.
И раскрыл.
Замерев, ошеломленная Галка стояла и слушала, перемежаемую всхлипываниями, сморканиями и слезами речь. О, мир глухих! Мир казнокрадов и казначеев. Мир исчезающей любви. А что такое любовь как не понимание? А что такое понимание как не желание уделить человеку толику времени? Чтобы человек донес, поделился наболевшим, бедами своими…
Ладонь тискалась.
Галка думала: вот он какой. Бедный, несчастный Григорий Валентинович.
– …но не могу по другому, просто не могу! – неожиданно прорезался и перебил сам себя прошлого Гриша, пребывающий в настоящем. – Мне нужна разрядка, разгрузка… Я работаю на износ!
Где я? – будто очнувшись, спросила себя Галка. В пьесе, которая ходит кругами?
Может поэтому я и стала всюду видеть фальшь и неправильность? Не мудрено свихнуться от повторений. А если я больна?
– Сардельки!
Вопль Шарыгина напрочь снял оцепенение.
Галка взвизгнула и рванула к плите. Вода в кастрюле бурлила, сардельки болтались в ней, мелькая лохматыми разваренными боками.
Пар, мясной дух – все смешалось у Галкиного лица.
Она убавила огонь и, нацепив толстую рукавицу, уволокла кастрюлю как на запасной аэродром на пустующую конфорку.
– Одна сарделина чуть не выпрыгнула, – выдохнул Гриша.
– Да ну.
Галка принялась крошить картошку в сковороду.
– Я серьезно. Дай хоть лицо чем-нибудь обтереть. Весь в соплях, слюнях каких-то, – брезгливо скривился он.
– Сейчас.
Галка бросила ему полотенце.
– Что всухую-то, Галочка? – выразил неудовольствие Шарыгин. – Смочи хоть край.
И полотенце полетело обратно.
– А вот да, вот да, – сказал он сверкнувшей глазами Галке. – Я об этом и говорю. Мы же все люди, все требуем уважительного к себе отношения. И одно небрежное действие тут же приводит к другому, к ответному.
Зашипела вода.
Галка раздраженно сунула полотенце под струю, выкрутила в руках. Подала:
– Вот.
– Вот теперь спасибо, – сказал Шарыгин.
Он вытирался долго, основательно, лоб, щеки, шею, мокрым краем, сухим краем, мокрым, сухим. Потом запрокинул голову и приложил сложенное полотенце к глазам.
Галка успела и картошку докрошить, и масла на сковородку подлить, и сардельки на тарелку выловить. Она злилась даже не на Шарыгина, а на свое чувство, которое шептало: как он быстро успокоился, а? Ты посмотри, посмотри, дурында, на бедного, всеми унижаемого, удобно развалившегося на стуле Григория Валентиновича.
Это нормально? Это правильно? Он несчастен? Ха-ха! Он кайфует!
Галка, конечно, цыкнула на это чувство, но горечь сомнения осталась, застряла дурацкой першинкой в горле.
Кайфует?
– Знаешь, – сказал Шарыгин, не меняя расслабленной позы, – ты извини, что я вот так… Вывели меня из кондиции. Сейчас выговорился, и как-то легче, умиротворенней ощущаю себя…
А я? – хотела спросить Галка, но промолчала.
Разделывался с сардельками Шарыгин жадно, активно, быстро отделял, действуя вилкой, как ножом, что-то одобрительно урчал, разламывал хлеб, обмакивал в натекший жир, посыпал солью, накалывал бледные тельца картофельных долек, и все это исчезало во рту, перетиралось, перемалывалось зубами, глоталось, уплывало в путешествие по пищеводу.
Десять минут Шарыгина интересовала только его тарелка, и глаз он не поднимал.
Галка думала: вот он настоящий. Человек-желудок, человек-брюхо, вся жизнь которого состоит в усвоении еды. Или это тоже роль? Она следила за движением его пальцев и губ и не понимала, как в фильмах, в пьесах героиням в радость наблюдать за тем, как их герой с аппетитом наворачивает выставленные на стол завтраки, обеды и ужины.
Где тут радость?
А еще смотрят так, будто милый сейчас золотыми монетками, извините, какать будет. Чувство такое. Обожание. Любовь.
Эх, не отказалась бы.
Но это же к принцу применять надо, не к Шарыгину. С Шарыгиным вон, не работает.
Кусочек сливочного масла на Галкиной тарелке, растаяв, протек на дно. Последняя сарделька, теряя куски, самозабвенно отдавалась звезде театра.
– Ты, Галочка, отличная хозяйка.
Звезда добрала остатки остатков хлебной коркой, сунула ее в рот и, двигая залоснившимися щеками, наконец подняла глаза.
Во взгляде ее было окончательное примирение с действительностью и легкая осоловелость.
– Вроде на скорую руку, – Шарыгин сцепил пальцы на животе, – а хорошо. И в меру. Три сардельки – то, что надо. Мне вообще, Галочка, у тебя нравится. Маленькая, уютная квартирка. Недалеко от центра. Это наш театр… н-да… Ты уж прости меня, что позволяю себе нравоучения. С высоты пережитого, так сказать. Иногда непроизвольно, до дрожи, хочется всех учить, учить, учить. Как Ленину.
Он рассмеялся собственной шутке.
Галка в ответ двинула губами, но слабо, намеком, взяла Шарыгинскую тарелку, вывалила ошметки шкурок в мусорное ведро, опустила посуду в мойку.
Чувствовала спиной, как колет халат шалый мужской интерес.
– Галочка, а почему у тебя никого нет?
Дождалась.
Какой волнующий вопрос! Принципиальный, от слова "принц". Бессмысленный и беспощадный.
Галка повернулась так резко, что Шарыгин не успел порскнуть от халата глазами. И ладно бы смутился – ах, где уж львам смущаться! – нет, он медленно повел взгляд вверх – через живот, грудь, шею – к губам, к носу.
– Галка, ты же красивая.
Он обезоруживающе развел руками. Мол, как есть.
И как ему объяснить? Как объяснить, что ждет она неизвестно чего, когда наконец екнет, стукнет, шепнет сердце: "Это – твое"? Даже не принца ждет. Господи, как они достали эти принцы, мельтешащие перед глазами и копошащиеся в голове! Как достало это чертиком выскакивающее, идиотское сравнение – с рисунком в детской книжке, с наивной фантазией пятилетней девочки, с тем, первым в ее жизни, тревожно-сладким ощущением, что за ней прискачут и заберут. Скорее, конечно, прилетят и повяжут…
Что здесь поможет? Курсы психоаналитика? Гипноз? Лоботомия? Встреча с настоящим принцем? Ай эм третий принц Абу-Кебаб, за мной триста верблюдов и четыре нефтяные скважины, хочу тебя в гарем…
Смешно. Выбираю лоботомию.
Но Шарыгину-то это куда? Делиться с ним, с минуту назад взахлеб рыдающим и тискающим твою ладонь?
Фальшь. Фальшь. Плохая пьеса. Пиэска. И плакали они долго и счастливо. Главное – по очереди, не мешая друг другу.
– Отстань.
Галка отправила нетронутую свою порцию обратно на сковороду – масло покапало с тарелки золотистыми слезами. В мойку тебя, подружка.
– Галочка, если тебе надо, – протек сквозь шипение воды и жамканье тряпки вкрадчивый львиный голос, – если тебе просто нужен мужчина, то я, исключительно по дружбе, хотя годы мои не те, чтобы, знаешь, дарить бездну удовольствия…
– Гриша…
– Галчонок, – торопливо проговорил Шарыгин, заглянув в потемневшие глаза, – ты не подумай, я не в этом смысле! То есть, и в этом тоже. Среди друзей что, не бывает что ли? Физиология, желания тела давят на мозг. И это со всеми, со всеми! Не ханжи же мы! Но я в том смысле, что вот я, и ты теперь можешь рассказать мне все, Шарыгин могила, Шарыгин никому…
– А зачем? – спросила Галка.
– Как? – опешил Гриша. В его глазах плеснулась натуральная растерянность. Крошка упала с губы, и он ее автоматически подобрал.
Вот это было здорово сыграно!
Галка подумала, что для пущего эффекта крошку надо бы прилепить обратно.
– Галочка, это же терапия. Это по-настоящему освобождает, душа становится легкой, как воздушный шарик. Твои проблемы как бы становятся не совсем твоими. Через, грубо говоря, реципиента они отлетают в ноосферу, в разумную матрицу. Они как бы делятся на весь мир и тебе остается малая толика.
– А реципиенту?
– Ну-у… Знаешь, что? – оживился Гриша. – А давай-ка мы с тобой порепетируем! Это тоже своего рода терапия. Ходят слухи, что Неземович согласился поставить у нас "Бесприданницу". Знаешь Неземовича? Что ты! – он махнул на Галку рукой. – Талантлив, как бес! В Малом драматическом ставил "Вия". С успехом! Во мне, представляешь, не в Пескове, видит Паратова, которого еще усатый Никита… – он изобразил подвижными пальцами то ли пчелу, то ли бабочку. – Мохнатый шмель, на душистый хмель…
Пародировать у него получалось замечательно.
Может потому, что это было натуральное лицедейство, ничего своего?
– А Ларису Дмитриевну кто? – спросила Галка.
– Здесь вопрос. Но по некоторым данным, – Шарыгин почесал грудь, луково глянул искоса, – скажем так, по самым приблизительным, твоя мадам Сердюк из "Страстей" ему приглянулась. Как у тебя с текстом? Неземович любит, чтоб от зубов…
– Я все помню, – быстро произнесла Галка.
– Эх, светлая твоя голова! Будет небольшой просмотр… – Шарыгин поднялся. – Там и решат: ты, Конкина или Шумиловская.
Он тряхнул гривой и важно пронес себя в большую комнату.
– Галочка, – раздался его голос оттуда, – я уже вхожу в образ. Подтягивайся, Ларисочка, подтягивайся. Кхм, кхм… Нет, со мной, господа, так нельзя: я ужасно строг на этот счет… Для усиления "ужасно", да. Чтобы больше… Ме-му-ми… Ну, а теперь она выходит замуж, значит… э-э-э… да, старые счеты покончены.
Галка наскоро вымыла руки.
В голове закрутилось: мне так хочется бежать отсюда, в деревню… я не за себя боюсь, за вас… Бедная, глупая Лариска, подумалось ей. Чего хочет-то? Поматросили, бросили. Год прошел. Зола в сердце, а под золой – угольки, тлеют, тлеют, ждут.
Как пыхнут, как обжгут всех вокруг!
Галка подышала, настраиваясь, слыша, как меряет вальяжными шагами комнату Шарыгин-Паратов, как бубнит что-то под нос: "Я стыдлив… Нескромный вопрос не спрашивайте…"
Сковородка, стол чистый, брызги подтерты.
Щеки, казалось, пылают. Кто я? Что я? Без приданного. Ославленная. Сумасшедшая с сумасшедшей надеждой.
К чему здесь халат? Платье бы, юбку…
– Явление восьмое второго действия, – прогнусавил Шарыгин из комнаты, исполняя суфлера. – Входит Лариса. Лариса-а-а…
Иногда Галке казалось, что у нее чересчур живое воображение. Невозможно иначе объяснить, что на сцене, в роли той же мадам Сердюк она чувствовала не свой, чужой возраст, чужое, стесненное дыхание и, ощущала чужую, в большей мере уже прожитую жизнь, а актриска Галка с этой непонятной возрастной высоты виделась небесталанной пигалицей, но молодой, пугающе-молодой, и пальцы болели в суставах…
Вот и сейчас.
Ф-фух. Зажмуриться на мгновение. Войти.
Что сказать?
– Здравствуйте.
Сергей Сергеевич Паратов скривился.
– Не надо отсебятины. Не ожидали?
– Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать.
Она смотрела на львиную гриву, на растянутые в улыбке губы, на глаза – ласковые и холодные, оказывается, и такое бывает, чтобы жар и холод одновременно.
Хоть бы намек!
– Отчего же перестали ждать?
Паратов склонился, спросил интимно на ушко. Его пальцы двинулись и остановились в сантиметрах от завитого локона – ах, как бы им хотелось намотать его!
Жарко в груди.
– Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно…
Они гарцевали друг против друга, тесно, жадно, переступали, будто в испанском танце, Паратов щурился, смеялся глазами, поводил плечами – тесный сюртюк, она же жила его лицом, улавливала движение морщинок, хищный прогиб крыльев носа.
– Так вы не забыли меня, вы еще… меня любите? Ну, скажите!
Пауза. Длинная-длинная пауза.
– Конечно, да, нечего и спрашивать.
– Ох, сядемьте, – Шарыгин, неожиданно вспотевший, взмокший, опустился на диван. – Тяжело с тобой, Галочка, так соки и тянешь. Я вот, понимаешь, настоящим судовладельцем себя почувствовал. Сколько-то корабликов за мной? А уж каким мерзавцем!
Он рассмеялся. Обернулся.
– Ну, что же ты?
– Стою, – сказала Галка. – Вам только и нужно было: вы – человек гордый.
– Нет-нет, – мотнул гривой Шарыгин, – пас. Пас пока. Отдыхаем. Пятиминутка отдыха. Фу-фу-фу, – он подышал, обмахнулся рукой, как от жары на солнечном южном пляже. – Вот чего тебе не занимать, Галчонок, так это энергетики. Казалось бы, откуда в тебе? А вот.
Какое-то время Галка недоумевала, что за странный, полноватый мужчина сидит перед ней. Так и тянуло спросить: "А где Сергей Сергеевич?". Но затем что-то переключилось, щелкнуло за ушами, и плечи сами пошли вверх:
– Такая уж уродилась.
Телевизор, ковер, сервант. Я дома, дома. Я – Галка.
– Вот знаешь, – Григорий как-то странно, очень осторожно посмотрел на нее, – я все думаю, может, ты уникум какой?
– Какой? – замерла, уже двинувшись, Галка.
– Театральный. Гений сцены.
Он рассмеялся, словно сам испугался этих слов.
– Мне бы хотелось, – произнесла Галка. – Я много чего наизусть знаю. Только какой я гений? Я труп играю, с ногами.
– Э-э, я в бытность свою дуб играл, – заявил Шарыгин. – И на мне висела якорная цепь, прошу заметить, не золотая. Настоящая якорная. А сверху еще русалка… С этим, с хвостом… Кстати, за пятьдесят килограмм живого веса.
– Хвост?
– Русалка. Маленькая была такая женщина, то ли Маргарита Станиславовна, то ли Стася…
– Маргаритовна.
Шарыгин вяло отмахнулся.
– Ну тебя. Я же серьезно. В тебе что-то есть. Будет шанс с "Бесприданницей", предъяви это что-то Неземовичу. Он ухватится.
– Да нет, я понимаю, – кивнула Галка, тиская концы пояса. – Только, Гриш, это как прилив, как волна. Хлоп – и с головой. Я уже не я. Мадам Сердюк, труп, сейчас вот Лариса Дмитриевна. А когда нарочно…
Она развела руками.
– А сейчас – нарочно? – спросил Шарыгин.
– Сейчас как раз нет. Это же вникуда, это тихонько. Мне, может, кажется. Это все во мне…
– Ага, и мне кажется. Вдруг.
– Да?
Шарыгин посмотрел на Галку, запустил пятерню в волосы, расчесал темечко, затем решительно встал.
– Ну-ка, – он усадил девушку на свое место, – давай концовочку пробежим. Действие четвертое, явление седьмое. Берег реки, решетка, скамейка…
– Погоди, – Галка повернулась вполоборота. – Это когда они уже?
– Именно.
– Погоди, дай мне…
Галка почувствовала внезапную горечь. Какое-то глухое отчаяние, предощущение беды задергало изнутри.
Ахххх.
– Нет, нет, Сергей Сергеич, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я – жена ваша или нет?
– А, мы с этого места? – сказал Паратов-Шарыгин. – Извольте. Как там… Прежде всего, Лариса Дмитриевна, вам нужно домой. Мы завтра, завтра поговорим.
Глаза его сыто и сонно моргали.
Дальше она не слушала. Погибла, глухо отбило сердце. Погибла!
Она еще говорила что-то ("Нет-нет, не все равно. Вы меня увезли от жениха…"), увещевал и объяснялся в ответ Паратов ("Какая экзальтация! Вам можно жить и э-э… должно…"), и дальше, и опять, какие-то слова, какие-то тени, кто-то шагах в трех смотрит через плечо. Но зачем это? К чему? Ведь все кончено, кончено.
Непонимание копилось, набухало, как тучи грозовым дождем, наконец прорвалось:
– Подите от меня! Довольно!
Наотмашь.
Паратов открыл и закрыл рот. И все, нет его. Ушел в кофейную. Или остался? Чей это гривастый силуэт?
Нет, что-то со зрением.
Вот она, низкая решетка. А внизу Волга, темная, ночная, и далекие огоньки.
– А если упасть, – задумчиво произнесла она, – так говорят… верная смерть. Вот хорошо бы броситься! Или нет – стоять у решетки, смотреть вниз, закружится голова и упадешь… Да, это лучше… В беспамятстве…
Шарыгин ощутил, как мягко содрогнулась под домом земля, и не обнаружил вдруг стен вокруг, а увидел почему-то серое здание, площадку перед ним с двумя столами, чугунную оградку в глубине, скамейку перед ней, а дальше – широкую, посеребренную луной реку, текущую к горизонту, и темные пространства полей.
– Га…
Ему не хватило воздуха.
Он заскреб пятерней по горлу и неожиданно нащупал щетину на в общем-то гладком с утра подбородке. Странно. И усы.
В ноздри потекли медвяные, летние запахи.
И чужая досада обволокла его, досада человека вольного, к которому пристают и навязываются. Была, была страсть, воспоминания, женское тело, сгорающее от воображенной в прошлом любви, но он-то здесь, господи, каким боком?
Мимолетное помрачение, не более.
– Галочка!
Одновременно с воплем приключился новый толчок.
Шарыгин поймал косяк, протаявший сквозь пустоту июльской ночи, и вцепился в него, наблюдая, как возвращаются стены, как затуманивается кофейная и площадка со столами, как обретают вещественность комод и сервант с книгами, а между ними – светло-зеленый обойный рубчик.
Лариса Дмитриевна отвернулась от решетки, и та пропала, пропал вид на реку, тяжелое платье скукожилось в халатик с квадратами, высокая прическа сменилась подсушенными, едва расчесанными темно-льняными волосами.
Руки с побелевшими пальцами тискали поясок.
Поворот головы – и в глаза Григорию Шарыгину заглянула смертная тоска пополам с обидой, он почувствовал себя гнусно, словно был виноват, словно к этой тоске, исказившей красивое, тонкое лицо был причастен.
Но ведь нет, нет! Это – Паратов!
– Галочка!
Шарыгин сделал два шага и кулем упал на свободный край дивана. То ли пол сделался шаткий, то ли ноги размякли от слабости.
– Все, все, что-то дурно мне, – он сполз с валика ниже, на подушку сиденья, провернулся, задрал голову. – Полный атас.
Несуществующие усы кололи углы рта.
Галку от его телодвижений качнуло, она смотрела, сначала не понимая, затем взгляд ее посветлел.
– Се… Гриша, ты что?
– Ничего.
– Тебе плохо?
Шарыгин отвлекся от созерцания потолка, скосил глаз. Пожевал губами, но все-таки решился спросить:
– Ты видела?
– Что?
– Волгу, решетку, – он обрисовал рукой. – Как в пьесе. Вернее, как в жизни. Еще кофейня, натурально, деревянные досточки, резьба, наличники…
– Где, здесь?
– Странно, да?
– Может, это сардельки порченые?
Шарыгин захохотал.
– Ох, Галчонок, ну какие сардельки? – отсмеявшись, произнес он. Осторожно, словно боясь что-то там обнаружить, потрогал кожу под носом. – Тут другое. Тут действительно…
Он замолчал.
– Я же вроде все по тексту, – сказала Галка.
– Это-то да.
Тихий, задумчивый Шарыгин был странен. Сидел, гипнотизировал точку чуть левее настенных часов. Морщился от непослушных мыслей. Галке даже не по себе стало. Она тихонько вышла в кухню, подожгла конфорку, поставила чайник. Выглянула в окно.
Темно совсем.
Усталость от роли навалилась только сейчас. Руки, плечи, казалось, стиснула колкая шелуха второй кожи. Какая Волга? О чем он?
Пустота в груди.
Там, куда Карандышев еще выстрелит, не выстрелил, но обязательно выстрелит. Только такое ощущение, что пулю уже изъяли. Остался лишь раневой канал. Он и дергает.
Галка вздрогнула от немелодично звякнувшего в прихожей звонка.
Кто бы это? Ей вдруг представилось, что там, за дверью, мнется весь не в себе Мягков из "Жестокого романса", в очечках, с усиками, с рукой за отворотом сюртука. Она откроет и – пыф-ф! Выстрел. "Так не доставайся ж ты никому!"
Вроде и смешно, а все ж ознобно.
– Кто там? – спросил Шарыгин из комнаты.
– Не знаю.
В дверной "глазок" подошедшей Галке был виден лишь силуэт на фоне уходящего вверх лестничного пролета. Лампочка над электрощитками, похоже, опять перегорела. Или нарочно выкрутили?
Ах, Мягков, Мягков…
– Кто? – спросила Галка, прижимаясь лбом к мягкой дверной обивке.
– Сосед ваш, – ответили с площадки.
– И что?
Очень интересно, подумалось. Нахал?
– У меня сакраментальная просьба – не дадите соли?
– Вы серьезно?
Силуэт в "глазке" шевельнул плечами.
– Я здесь не одна, – зачем-то сказала Галка.
– А соль?
– Соль со мной. – Вот же дурацкий диалог, подумала Галка. – Вам вообще много надо?
– Хотя бы половину солонки.
Килограмм этак пять или шесть, больше ему не съесть. Он у нас еще маленький, этот Прынцик. Одарить что ли?
Галка включила свет и щелкнула замком.
– Солонка с собой?
Новоиспеченный сосед сначала вошел, улыбнувшись, потом кивнул. Он был в джинсах и футболке с разлетающимися нарисованными фруктами.
В ореховых глазах – искорки.
– Здравствуйте еще раз.
– Угу. Давайте, – протянула ладонь Галка.
– Вот. Извините… – Прынцик свернул стеклянной солонке дырчатую жестяную голову. – Вот теперь все.
– Ждите, – сказала Галка.
Соль у нее была крупная и мелкая, "экстра". Правда, мелкой сделалось жалко, ее оставалось совсем немного, тут самой бы жадине-говядине хватило. А крупную надо было поколоть ножом. В общем, не так все просто.
– А вы что-то готовите? – спросила Галка, выглядывая из кухни.
– Да нет, – снова улыбнулся Прынцик. – У меня с поезда остались помидоры, а без соли их как-то, знаете… Удовольствие не то.
– Я вам крупной насыплю, хорошо?
– Сыпьте.
Вежливый. Непритязательный. Мечта просто.
Кроша ножом сероватый слежавшийся ком, Галка подумала, что если бы не Шарыгин… Вот интересно, что, если бы не Шарыгин? Расхожий сюжет – соседка пришла за солью. А здесь сосед, что, собственно, ничего в сюжете не меняет. Эмансипация. Феминизация. Обмен архетипами поведения. Нонеча, значит, мужики бегают.
А давайте солить вместе!
Галка фыркнула, представив, как безумно блестя глазами, вбегает в прихожую с этим предложением. По пути распахивая халат.
Эх, Галина батьковна, что-то вы сегодня в ударе. Точно ни обо что не прикладывались? А то ведь приложились и забыли. А последствия вон, в голове так и скачут. Прынцик, кстати, того самого роста, о котором еще ослик Иа говорил: "Мой любимый размер". На полголовы выше – чтобы и в лицо можно было смотреть без насилия над шеей и на цыпочках до губ губами дотянуться. Наверное, сла-адкие…
Все, хватит циклиться.
Галка сердито ссыпала наколотое в пластиковую плошку, зачерпнула солонкой, набивая ее до верха.
– Вот, – она вручила солонку молодому человеку, ладони соприкоснулись – ни отклика, ни статического электричества. – Может еще что-нибудь?
Улыбка номер три.
– Если можно, хлеба.
А потом мяса, а потом переночевать. С другой стороны, кто ее за язык тянул?
– С отдачей, – наставила палец Галка.
Вот и думай: шутю или не шутю.
– Постараюсь.
– А-а, – выглянул, выступил из гостиной узящий глаза Шарыгин, – наш молодой друг из квартиры спра… сле… нет, справа. У вас там список длинный?
– Какой? – удивился Прынцик.
– Продуктовый.
– Н-нет.
– Это, знаете, хорошо, – покивал Шарыгин. – Объедать здесь Галочку могу только я. Только я.
Конечно же, это был Степлтон из "Собаки Баскервилей".
Его интонации, его мягкая улыбка. И вышло, несмотря на совершенное несходство Шарыгина с Янковским, очень похоже.
"Кофе в этом доме варю только я…"
Только в конце фразы Григорий совсем уж по-свински притянул Галку, вышедшую из кухни с четвертинкой ржаного, за пояс халата к себе. И руку под грудью собственнически пропустил. Тоже что ли из "Баскервилей"?
Да не было там такого!
– Возьмите.
Галка протянула хлеб, незаметно и больно пихнув Шарыгина локтем. Театральный лев, получив свое, хрюкнул.
– Спасибо, – произнес Прынцик. – Я обязательно, завтра вечером…
– Не торопитесь, – просипел, напутствуя его Шарыгин.
Щелкнул замок.
– Это вообще что? – повернулась Галка через мгновение.
– Как что? – Григорий отступил в комнату, успокаивающе выставив ладони. – Галчонок, это были благие намерения. Исключительно! Я же видел, на что он рассчитывает!
– На что?
– На все! – Шарыгин попытался объять руками квартиру. – На это все! На тебя! Глазами так… Ох, – он скривился, схватился за правый бок, – как ты мне меж ребер-то заехала! А я тебя, между прочим, считай, что спас.
– Да? Спокойной ночи!
Разозленно пфыкнув (ничего не загорелось? жалко! казалось, есть способности), Галка влетела в свою комнатку.
Шпингалет в паз. Свет – долой. Абрис ночного окна осторожно прикоснулся к глазам.
В сумраке забелела кровать. Шум дождя пробился, рассыпался успокаивающими шипящими. Ш-ш-ш… Чего ты? Чего ты злиш-ш-ш…
Ничего, сказала дождю Галка, размазывая слезы.
Обидно, когда кто-то решает за тебя. Шарыгину вообще стоит проломить голову.
Кровош-ш-шадная, прошипел дождь.
Галка поджала губы. Может быть. Только почему у меня такое чувство, будто он сейчас сломал мне жизнь? Словно что-то не произошло, не случилось, рассыпалось из-за его слов. Это было настолько рядом…
– Галочка? – произнес из-за двери Шарыгин. – Галочка, прости. Спокойной ночи.
Она не ответила.
Разделась. Легла. Обида комкала губы и щипала глаза. Ее почему-то было нельзя как халат, как блузку с юбкой сложить и повесить на спинку стула.
Ш-ш-ш, шептал дождь.
А если это мой Прынцик? – спросила его Галка.
Дождь смутился и не ответил.
…В раскрытое окно затекало лето, вяло передвигались по нагретому подоконнику мухи, покачивались ситцевые, в крупных подсолнухах занавески. Солнце пятнало комнату. От медвяных ароматов щипало в носу.
– Галинка, ну где ты? – Голос мамы был устал. – Книжку-то несешь?
– Несу! – сказала Галка, но не двинулась с места.
Дверь в дедову спальню была приоткрыта, и был виден край кровати, подушка и спящая дедова голова. Тяжелая рука наполовину голову прикрывала, и Галкино любопытство довольствовалось закрытым глазом, носом и смятой лежанием губой, через которую прорывались грозные раскатистые звуки: "Хр-р-р… Хр-р-р…"
Деда, наверное, где-то проглотил тигра.
Деда был большой, он мог даже не заметить. Но тигр не переварился, а затаился и ждал удобного момента, чтобы выбраться. Как Красная Шапочка.
Присев на корточки, затаилась и Галка.
Тигру, наверное, было очень страшно в чужой глотке, и он рыкнул особенно громко, подбадривая сам себя.
– Ш-ш-ш, – сказала ему Галка, прижимая пальчик к губам. – Пока нельзя.
Мутный с полуденного сна дедов глаз вдруг уставился на нее.
– Чего нельзя, внучка?
– Ты спи, деда, спи, – сказала деду Галка. – Я вовсе даже не тебе…
Принц приснился Галке в самом конце сна.
Он выступил из вязкой мглы, печально ведя белого, в серых яблоках, коня в поводу, почесался, посмотрел куда-то в сторону ветвистого дуба и туда же и пошел, словно его позвали.
"Куда ты?" – спросила его Галка.
"Репетиция у нас", – глухо ответил тот, скрываясь в клубах тумана, похожих на театральные декорации.
"Репетируете спасение принцессы?"
"Вот дура", – кажется, огорчился принц.
А конь его несколько раз стукнул копытом.
Тук-тук, тук-тук. Какой вежливый конь! Деликатный. Негромкий.
– Галочка.
Еще и разговаривает, и имя знает.
В со страшными, нечеловеческими усилиями приоткрытые глаза протиснулось утро, рассыпало по комнатке вещи, блямкнулось красной солнечной полосой в белую дверь и дерзко закачалось в узком пространстве, стиснутом светлыми обоями.
Тук-тук.
– Галочка, ты спишь?
А-а, сообразила Галка, так это не конь тук-тукает, это лев тук-тукает. Живу как в зоопарке. Львы, кони… принцы.
Она с трудом приподняла голову.
– Да. Нет. Уже не сплю.
Иногда, без всякой на то причины, Галка вставала легкая, будто перышко, бодрая, полная сил и бурлящей в теле энергии. Казалось, эх, раззудись плечо, размахнись рука, посторонитесь люди! Меня Бог подзавел.
Впрочем, было и состояние номер два.
Тогда Галку можно было поднять с постели только пинками. Но лучше, конечно, сразу расстрелять и оставить в покое. Все равно никакого толку не будет.
В череде прочих промежуточных вариаций нынешнее пробуждение стремилось как раз к пинкам и расстрелу. В теле бродили сонные апатия и вялость, ломило шею, и никак не получалось сфокусировать зрение на висящих на стене мишках, год за годом обживавших сосновый, в темной рамке лес.
– Галочка, нам скоро на репетепи…
Шарыгин был в своем репертуаре.
Война, мор, глад, чугунная голова – а нам на репетепи… Сколько, интересно, времени? Есть ли оно, это время?
– Я в курсе, – сказала Галка, заворачивая край одеяла.
– Тогда я скоренько в душ, – из-за двери бархатно зашелестел Шарыгин, – а ты, будь душенька, приготовь чего-нибудь перекусить. Чайничек, бутербродики.
– М-м-м, – глубокомысленно выдавила Галка.
– Вот и ладно.
Ладно? Галка кое-как привела себя в горизонтальное положение. Раскомандовался. Ему за вчерашнее вообще…
Она подавила зевок и встала.
Из старенького зеркала, закрепленного на обороте дверцы купленного еще родителями платяного шкафа, на нее уставилось покачивающееся лохматое чучело в голубеньких трусиках, с царапинами на плече и с одним, оказывается, открытым глазом.
Гы, лихо одноглазое. А второй что?
Ага, второй тоже открылся, но подозрительно сузился. Да уж, бывало, встаешь и сама себе нравишься, свежая, румяная, никакой дополнительной красоты не надо. А тут?
Можно, кстати, Шарыгина испугать. Но ведь запрется тогда в душе, не выковыряешь.
Галка вздохнула, намотала прядь волос на палец. Нет, до носа не достает. И принц во сне дурой обозвал.
За окном топорщила листья умытая осень. По детской площадке бродили голуби. И ей что ли побродить? Гули-гули.
Галка слегка расчесала волосы, построила зеркалу рожицы и, накинув халат, вышла из комнатки в гостиную. Ком одеяла поверх смятой простыни. Пасть чемодана. Чужие вещи уютно расположились на диванной спинке и подвинутом к окну стуле. Рубашка, носки, пиджак на плечиках. Одеколон за стеклом серванта.
Да, подумалось, это основательно. Фиг теперь побродишь ню по квартире.
В ванной шумела вода, раздавался плеск мокрых ладоней и немузыкальный вой:
– Я… для тебя… ф-рыф… не богат, не знаменит и… ф-рыф… престижен…
В общем, Шарыгин пел.
Галка прошаркала в кухню, но и прикрытая дверь не спасла ее от Шарыгинского "Я то, что надо!".
Остатки сна сняло как рукой.