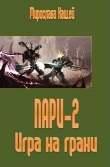Текст книги "Прынцик (СИ)"
Автор книги: Андрей Кокоулин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Андрей Кокоулин
Прынцик
Принц на белом коне снился Галке с неполных шести лет.
Началось все с книжки. Называлась она "Сказки", и на обложке у нее вверху были нарисованы яблоневые ветви с красными и желтыми яблоками, а внизу переплеталась трава и росли грибы; слева, кажется, были мухоморы, а справа – боровики.
Тот июль вообще намертво отпечатался в Галкиной памяти.
Он был солнечным и насквозь синим. Детали, удивительные для разума пятилетнего ребенка, всплывали в нем вдруг и вставали на предназначенные для них места. Галка помнила, как качалась во дворе на низких, скрипучих качелях. Дома расходились, солнце било в глаза. Качели шли вперед и вверх, и тонкие Галкины ножки в белых с голубой полоской носочках взлетали к слепяще-желтому небу. Словно птицы-чайки. Сандалики, соскочившие с ног в траву, будто усики вытягивали красные ремешки. Соседский мальчик, большеголовый, коротко стриженный, вроде бы из второго подъезда, закусив губу, наблюдал за Галкой из песочницы, щурился, ладонью в песке прорывал какие-то ходы. Наконец прокричал: "Девочка, ты, когда накачаешься, ты скажи!"…
Потом она разбила коленку, и кожа на ней еще долгое-долгое время была твердой, шершавой и чесалась. Ей даже сделали ужасно неудобную противочесательную повязку.
Потом была прихожая. В прихожей на крючках висел велосипед дяди Коли. Поблескивали спицы и цепь. Сам дядя Коля стучал на кухне кастрюлями и тарелками. Он был брат мамы и турист. Мама говорила, что он женился на своем велосипеде. И – заодно – на рюкзаке. А Галка стояла в углу, темном из-за распахнутой до упора двери в гостиную, сцарапывала с мелких обойных цветиков белесые лепестки и ревела в голос.
За что ее тогда наказали – выветрилось напрочь. Во всяком случае, за дело. Но это же было обиднее всего. И когда в замке весело заплясал ключ, она в десятый, наверное, раз, глотая слезы, тянула: "Уй-ду-ууу от ва-ас!". Возникший будто бы из ниоткуда папа Галку, конечно, спас, из темницы вызволил и, осушая мокрые щечки ладонью, поинтересовался, хочет ли она в отпуск. Галка, всхлипывая, утвердительно тряхнула косичками. "Тогда, – щекотно зашептал в ухо папа, – поедем в деревню. Я тут выгрыз у начальника две недели…".
Разумеется, маленькой радостной ракетой умчавшись в родительскую спальню, Галка под прерывистый стрекот швейной машинки сообщила маме свою версию. Версия получилась кровожадная и этим вошла в семейные анналы. Господи, не дай соврать, звучала она, кажется, так: "Папа загрыз начальника, мы срочно уезжаем к дедушке!".
Думайте что хотите. Папа-убийца, дочка-сообщница…
Мама даже не переспросила, она упала руками и головой на ушиваемое платье (темные, с рыжинкой волосы на бледно-голубом), и плечи у нее заходили, завздрагивали, легонько затряслись от беззвучного смеха.
Нет, не с книжки. С этого все и началось.
А затем продолжилось.
Как кусочки смальты формировали мозаику, так складывалось одно к другому: сборы. Галка в одних трусиках носилась с игрушечным набором посуды и пыталась куда-то его пристроить. Все остальное смутно, смазано, беготня и беззлобный голос дяди Коли: "Брысь, шмакодявка, из рюкзака!".
Автобус же назывался ПАЗ…
…Приехали…
Двор был незнакомый. То есть, даже не соседний. Бетонная площадка, бетонная же плита, положенная набок и изображающая стенку, громоздкий мусорный контейнер. Через дорожку кренилась детская горка. Жестяной язык ее краем вонзался в дерн. Чахлая трава вокруг была усыпана фантиками и окурками. Фальшивыми монетками блестели бутылочные пробки. Автомобильное стадо грудилось у молоденьких тополей.
Галка растерянно крутнулась на каблучках.
Десятиэтажка. Правое крыло. Левое крыло. Узкая, разделяющая щель арки.
Похоже, обратно выбираться как раз через нее. А время… Галка бросила взгляд на часы. Четыре сорок две. Что ж, с паспортным столом на сегодня все. Прощай, прощай, паспортный стол. Девушка, видишь ли, заблудилась. Вывернув шею, она еще раз, с прищуром, пристально оглядела двор. Нет, решительно непонятно. Никаких ассоциаций. С горки не каталась. Под тополями не сидела. В контейнере, если уж на то пошло, не рылась. Получается…
Обиженно квакнул клаксон.
Галка отступила, и четырехколесный монстр, угловатый, серебристо-черный, с рассекающей капот фиолетовой молнией, фыркнув, вывернул к арке. Галка пошла следом.
А получается какой-то топографический кретинизм.
Шла себе на Комсомольцев, а очнулась… Галка хихикнула. Интересно, а город-то вообще мой? Вдруг, Пицунда какая-нибудь… Хотя Пицунда это хорошо, море… Никогда не была в Пицунде.
У самой арки на колесе от "Камаза", приспособленном под клумбу, расслаблялась молодежь.
Стаканчики. Сигаретки. Сухарики. Полуторалитровая бутыль пива стояла в обрамлении рюкзаков и учебников. Уже ополовиненная.
– Не, бля, она точно дура, – услышала Галка, приближаясь, – или сука…
На первом были широкие серые брюки с нашлепанными по всей длине карманами и черная футболка, простроченная мелким английским текстом. "Why, even in that was heaven ordinant. I had my fathers…". Надо же, "Гамлет". Принц Датский. Как начнешь вспоминать принцев, так они просто косяками, косяками, один за другим…
Ого, у нас усики, прыщи и нам не больше четырнадцати.
Тогда нет, не Гамлет, в лучшем случае – Ромео. С челкой. А Джульетта, соответственно, дура.
Соскользнувшая с колеса нога в "вареной" джинсе – это был второй.
Целиком Галке его видно не было. Нога и все. Плюс словно сам по себе воспарял из-за спины носителя шекспировских строчек разворот глянцевого журнала. Разворот был замечательный. Две трети его занимало изображение голой бабищи в завитом парике. Мощный афедрон светил в мир. Свисали какие-то ленты. Лаково блестел столик. А оставшуюся треть чернили ненормально крупные буквы. "О любвеобильности Екатерины Второй еще при жизни складывали…"
Ну да, складывали. При жизни.
Третий, упираясь разношенными кроссовками в близкую стену, посылал в небо колечки сигаретного дыма. Острое лицо, сосульки волос.
– Извините, – сказала Галка.
В ответ сбили пепел, перелистнули страницу на ту, где афедрон царствовал уже в гордом одиночестве, и пробормотали вовсе к Галке не относящееся: "…или не знаю, бля, кто…".
Собственно, можно было поворачиваться и уходить.
Девушке дали понять, что общаться с ней не желают, и мягко указали на… скажем, на ту же арку и указали. Конечно, в каком-нибудь дамском романе голубых кровей героиня посчитала бы ниже собственного достоинства переспрашивать. Ах-ах, как можно! "Леди Элизабет уничтожающе посмотрела на молчащего графа и, вскинув голову, вышла вон. Голая спина ее выражала презрение. Служка-арапчонок, показав язык, выбежал следом. Граф скорчился и зарыдал".
Галка вздохнула. Нет, честное слово, злости не хватает. Сидят тут… "I`m dead, Horatio"… А она – не героиня. И бежать вокруг дома в поисках таблички с адресом сил никаких нет.
– Извините, улицу не подскажете…
На этот раз на нее все же взглянули. Наискосок и навылет. По маршруту: правое бедро – живот – левая грудь – окна второго этажа. К своему удивлению, Галка так и не уловила, кто. Слишком быстро взгляд отвели в сторону.
Что ж, понятно. Ваш выход мадам Сердюк! Ваш выход!
В облачную прореху словно одобрением этому решению прыгнуло солнце. Молодежь на свету зашевелилась. Сползлась, щурясь, в кружок. Переговариваясь басками: "А ты бы с Екатериной переспал?" – "С какой это?" – "С царицей" – "Да ну, нахрен!" – "А за деньги?" – "А мне похрен!" – "А я бы переспал!" – "Ну-ну, маньячино", разделила пиво по стаканчикам.
Захрустели на зубах сухарики. Заходили кадыки.
Галка заученным жестом воткнула руку в бок.
Ах, какая сейчас будет премьера! Только один раз и только у вашей клумбы!
Мадам Сердюк она играла в спектакле "Коммунальные страсти". Театр-студия "Пилигрим". Грузинский переулок, 22. Добро пожаловать каждые второй четверг и третью среду месяца. Роль была изумительно большая, многословная, "вкусная".
По сравнению с тем, что ей приходилось играть раньше, просто чудо, а не роль.
Смешно сказать, один раз она даже изображала труп. Или, скорее, две задранных на спинку дивана ноги. В глубине, на заднем плане.
Ай, да что вспоминать!
Галка свела носки туфель вместе и сгорбилась. В театре ей для правдоподобия подвязывали накладной поролоновый живот и цепляли безразмерный лифчик с двумя наполненными водой презервативами. Когда ее в первый раз так обрядили, режиссер, вихрастый молодой человек с косящим вовнутрь правым глазом и победительной фамилией Суворов, даже вскрикнул: "Вот! Вот! Теперь верю! Сердюк! Вылитая! – а потом, хватаясь за повязанный на шее шарф, попросил: – А теперь головку, Галочка, чуть вбок. Чуть вбок. Словно у тебя ее скрутило. Замечательно. И губки… губки вниз. Недовольно. Во-от"…
Сейчас, конечно, реквизит тоже пригодился бы, но, вообще-то, реквизит это внешнее, бесполезное без внутренней актерской работы. Надо почувствовать. Вжиться. Как, например, Гришка в "Эфиопе". Или Алла Львовна в "Гомериаде". Это же с ума надо сойти, чтобы так.
Что ж, сказала себе, собираясь, Галка, по пунктам. Я – Сердюк. Елена Павловна. Мне шестьдесят три. У меня артрит и колющие боли в левом плече. Я живу одна в комнатке в коммуналке. Соседи – сволочи. Из кастрюли как будто отпивают. Денег – кот наплакал. Плечо болит. Родственники ждут не дождутся смерти. Туалет все время занят. Так и расстреляла бы сортирных сидельцев всяких. Ну а молодежь на улицах… Вот она, молодежь. Никакого уважения.
– Что ж вы, стервецы, делаете! – даже голос приобрел какое-то противное, старческое, одышливое дребезжание. – Русским же языком спрашивают, что за дом… что за улица…
Видимо, Галка поймала какую-то верную струнку, потому что все трое словно по команде повернули к ней головы. И замерли. Остекленели. С затаенным торжеством она наблюдала, как у них округляются глаза и выпадают челюсти. Даже пиво потекло куда-то мимо.
На мгновение ей представилось, будто это – местный филиал музея мадам Тюссо, и возник он не сам по себе, а от ее метаморфозы в Сердюк. Именно от метаморфозы. Не от голоса. А что? Очень может быть. Может она тоже, как Алла Львовна…
Додумать Галка не успела.
Мгновение было коротко. Филиал на солнце, не выдержав, потек. Сначала неуверенно моргнул один, потом – другой, а третий, тот самый Ромео, слизнув прилипший к губе сухарик, выдавил:
– А мы это… не местные.
В последовавшей затем паузе уместилось многое. Уместились Галкина досада и легкий, едва заметный шажок в сторону арки. Уместились недоуменные взгляды, бросаемые парнями друг на друга – хоть подписывай под каждым: "А что это было-то?". Уместилась даже плеснувшая из какого-то высокого окна и тут же умолкшая музыка.
А потом злой, но с нотками облегчения гогот ударил Галке в лицо.
Она была к этому готова. Чего ж еще от дураков ждать-то? Повернулась и зашаркала, не выпрямляясь. Сердюк и Сердюк. Не Галка. Жуткие двадцать метров проплыли перед глазами трещинами в асфальте. И только в арке уже ее отпустило. Прислонившись к шершавой бетонной стене, она, дрожа, медленно разогнулась и прижала ладони к лицу. Подышала. Слезинки брызнули было из-под век, но Галка их поймала, растерла, смазала к вискам. Не слезы – смех один.
Нет, сказала себе, не могу я как Алла Львовна.
Левое плечо побаливало. Фантомная боль. Или наведенная. В общем, ненастоящая, от Сердюк. Галка покрутила рукой будто пропеллером.
А ведь смотрели, подумалось вдруг. Смотрели…
Арка вывела ее на кривую тесную улочку. Торчали опиленные чуть ли не до голого ствола липы. За липами желтел дом. Старинный. Позапрошлого, наверное, века. С эркерами, с крохотными балкончиками и фигурками купидонов поверху.
Галке пришлось задрать голову, чтобы их рассмотреть. Действительно, купидоны. Пузатенькие, кудрявые, оббитые кое-где. Дом любви, видимо. Мемориальную доску бы сюда. "Сей приют наслаждения в 1867 году почтил своим присутствием генерал-лейтенант от инфантерии такой-то". Почтил и, собственно, остался доволен. И в дальний путь благословил.
Указателя с адресом на фасаде ожидаемо не было. Ну, это понятно: улица – безымянная, дом – неизвестный, спросить не у кого. Стандартный набор. Топай, Галка, в никуда.
Справа – за забором с надписью "Строительный тре…" – брызгала сварочными огнями новостройка. Новостройка была из модных нынче уплотнительных. Щерясь арматурой, она бессовестно врастала в глухую торцевую стену соседнего здания. Затем улица, мрачнея, сворачивала. Скорее всего, там намечался тупик. Или же еще один неясно куда ведущий загиб. Густо-сиреневые тени выглядели пугающе. Во всяком случае, проверять, есть ли в той стороне выход хотя бы на проспект Победителей, не хотелось совершенно.
Поэтому Галка взяла влево.
Участок улицы здесь был прямой, с просветами и с перекрестком через два дома. Боль в плече прошла. Шагалось на удивление легко. В окнах первого этажа мелькали шторы и потолки разной степени белизны. Галка миновала магазинчик "Автозапчасти", за пыльными витринами которого уныло слонялась фигура одинокого покупателя. Пробежала по мосткам через какой-то ремонтный раскоп. Фыркнула на затейливую гирлянду над полуподвальным кафе – красиво, но кафешку вряд ли спасет.
У самого перекрестка завибрировал и запел "Фигаро" мобильник. Галка вытащила его на свет из узкого кармана плаща, чертыхаясь и борясь с разросшейся связкой ключей. Фигаро здесь, Фигаро там. И откуда же столько ключей-то?
– Да.
– Привет, Галинка, – задышала трубка.
– Ой, Гриш, привет!
– Я могу к тебе заехать. Через полчасика. Можно?
Ух, какой голосище вкрадчивый! Галка даже зажмурилась от бархатистых переливов.
Совсем сдурел Гришка. Опять охмурять собрался. Наверняка ведь думает, будто она сейчас от радости только что из штанов не выпрыгивает. А как же! Шарыгин снизошел. Лев. Звезда театра. Бессменный, лет десять уже, "эфиоп". Иные не только из штанов, из нижнего белья выпрыгивают… Она чуть не прыснула в микрофон, представив себе технологию прыжка: трусики в одну сторону, готовое тело – с глухим стуком – в другую.
Самомнение у него все же.
– Алло, живые есть? – деловито поинтересовалась трубка.
– Ой, извини, Гриш, – спохватилась Галка. – Есть живые, есть.
– Ну так как?
– А тебе зачем, Гриш?
– Ну-у…
В трубке, не найдясь, замолчали.
Несколько секунд Галкино ухо ловило непонятные звуки. Казалось, будто с той стороны причмокивает, посасывая бутылочку с молоком, младенец. Младенчик. Воображение тут же живописало Шарыгина, склоненного над свертком. Сверток перевязан голубой ленточкой и вяло шевелится. Гриша еще в гриме. Сеанс дневной детский, стало быть, Гриша – волк. Недобитый охотниками и оттого подобревший волк. С пастью из папье-маше и густыми художественными разводами над и под глазами. С хвостом, само собой. Поскольку детей Шарыгин при себе ни в каком виде терпеть не может (это всеобщий театральный секрет), то и бутылочка с молоком находит адресат скорее всего по случаю. По наитию она повернута нужным концом и на вытянутой руке приопущена внутрь свертка.
Нет, дурацкая какая-то картина. Неправдоподобная. Будет Гриша возиться, как же. Подбросит в соседнюю гримерку и думать забудет.
– Гриш, – озадаченно произнесла Галка, – а кто у тебя там чмокает?
– Шмокает? – удивился Гриша. – Никто не шмокает. Это я еденеш шошу. От горла.
– А-а…
– Не отключайся.
– Хорошо.
Ожидая, Галка прошла чуть вперед.
В трубке что-то шуршало, падало, слышались приглушенные шаги, затем прорезался мягкий скрип двери. "Казимирчик", – кажется, произнес Гриша. Галку передернуло. Казимирчик. Совершенно противный тип. Вроде бы и вид у Алексея Яновича был совсем не злодейский, и к Галке он относился с участием и без всяких амурных намеков, а вот что-то шептало внутри: "Будь начеку, Галка". Подмечалось: по коридору по стеночке ходит, жмется. Улыбка – жалкая какая-то, словно бы виноватая. Зато начнет говорить и все у него "прелестно", "восхитительно" и "ошеломительно". В том числе и Галкина игра в две ноги. Там главное-то было не шевелиться. Тяжело, конечно, но уж никак не "Фантастика!" вам и не "Фурор!".
А вообще Галке казалось, это у нее – генетическая непереносимость. Может быть, прапрадедушка Казимирчика поцапался когда-то с ее прапрабабушкой. И вот – отозвалось.
Голоса отдалились. Ничего разобрать было невозможно. Как лягушки на болоте поквакивали. Ква-ква, ква-ква. Один раз, правда, Гриша взорвался: "Тьфу на вас, Алексей Янович!". Видимо, Казимирчик и тут переборщил с эпитетами. "Превосходный вы волк, Григорий Валентинович! Мощнейший! Настоящему фору дадите, натурально!"
А я все жду, жду, подумала Галка.
Глаза как-то сами уцепились за висящую на углу крайнего дома табличку. Мелким шрифтом белыми буквами на синем фоне там было написано: "Ул. Ломаная". Вот, подумалось, хоть здесь ясность наконец какая-то. "Ул. Ломаная", а не пойми вам что. Теперь определиться бы с местонахождением этой Ломаной… Интересно, а в Пицунде есть Ломаная?
Впрочем, это я разбежалась, оборвала себя Галка. Если из метро да сразу в Пицунду, это же просто прорыв в физике пространства. Галина Ивановна – нобелевский лауреат. Звучит? Нобелевский лауреат Галина Ивановна, собравшись на вручение премии, пропала в пути…
Что-то смутно знакомое в перпендикуляре к Ломаной все же было. Вроде бы и проспект Победителей, а вроде бы и нет. И шпилек у здания на противоположной стороне примечательный. И зеленую предохранительную сетку Галка уже видела. И рекламный щит, предлагающий купить квартиру у залива по бешеной цене, давно уже намозолил глаза.
Но нет, не складывалось. Помнилось как-то по другому.
– Але! И я у ваших ног!
В трубке стукнуло, словно Гриша и впрямь брякнулся там, у себя, на колени. С него, впрочем, станется.
– Ну что вы, сэр! – решила подыграть Галка. – Падение – напрасно.
Она, скажем, какая-нибудь Дульсинея… Нет, лучше Констанция. Или Марта. В общем, дама сердца. А перед ней – Шарыгин. В железе. С плюмажом. Только что из крестового похода.
– Вы бросили меня. Одну! Без утешенья!
– Класс! – восхитился Гриша. – Дальше. Я, значит… – он кашлянул и продолжил изменившимся голосом: – Не вымолив прощенья, я не сдвинусь…
– Приду через неделю – посмотрю.
– Коварная!
– Итак, я жду ответа. Вы просите приюта или нет?
– Просю.
– Сю-сю. Причина?
– Пала лошадь.
– Гриш, ну какая лошадь?
– Каурой масти жеребец-трехлетка.
– Что ржал еще над вами?
– Все, доржался. Издох негодный. Был ему конец.
– А если серьезно, Гриш?
– Серьезно?
Шарыгин невесело хмыкнул. Затем стало тихо.
Галке вдруг подумалось, что такую тишину, наверное, космонавты слушают. Когда связь с Землей обрывается. Висит себе в невесомости, скажем, космонавт Мухина, а ЦУП молчит. То есть, даже вездесущего треска помех нет. Будто в отсек ваты натолкали. Или как там – в рубку… В трубку…
Бррр! Галка поежилась.
Что ж это у нее за фантазии-то такие?
– Гриш…
– Ох, Галюшка!
Тишина треснула. Надрыв больно резанул по сердцу.
Рыдал Гриша громко, глотая слова обиды, хлюпая носом и подвывая. Даже на вынужденной – для вдоха – паузе у него, как нарочно, получалось тянуть воздух с пронзительными, трагедийными вибрациями. Словно он был профессиональный плакальщик, всей душой отдающийся любимому делу. В последний путь, в последний путь!
Господи, подумала Галка, сорок два года человеку. Сорок два.
Прижимая мобильник к уху, какое-то время она только и могла беззвучно шептать: "Ну, пожалуйста… все будет хорошо… ну, пожалуйста…"
Увы, Шарыгин и Мироздание не уживались. Как-то так. При этом страдающей стороной (естественно) выступал Гриша, а Мироздание всячески его гнобило и, как ему и положено, действовало цинично и подло, через людей. О, пособников и наймитов было множество. Целый театр! Плюнуть некуда – одни пособники и наймиты. Казимирчик. Главреж. Кассир Нахруллин. Абаева. Жмуркова. Хабаров. Песков. О, Песков! Иуда! И примкнувший к нему светотехник Полуянов.
И ведь жалко же их, уродов! Понимали бы, в чем участвуют! В травле участвуют. Не зная, что они сами – явления того же порядка, что и падающий с крыши кирпич. Винтики. Вин-ти-ки! Только чтобы Шарыгин не горел. Не светил. И никого не радовал.
Стругацкие какие-то. "За миллиард лет до конца света". Гомеостазис.
Наверное, это смешно, грустно улыбнулась Галка, когда сквозь всхлипы донеслось на удивление четкое: "Уйду. Эстрада, я твой сын!". Затем Гриша завыл пуще прежнего.
Кажется, он все-таки перебирал. Может быть, неосознанно.
Галка, впрочем, отнесла это на счет своего обостренного восприятия. После того, как случились первые репетиции "Коммунальных страстей", она обнаружила вдруг, что часто смотрит на разворачивающиеся вокруг нее события как на грандиозную постановку. Город виделся сложной, многоуровневой декорацией. Солнце сияло юпитером. Люди в меру сил и таланта играли свои маленькие и не очень роли. В общем, спектакль "Жизнь", автор неизвестен.
Один раз в троллейбусе накатило так, что она чуть не сорвалась. Салон был набит битком. В бедро упиралась какая-то стальная трубка, обозначающая спинку сиденья. Чье-то плечо удобно разместилось между лопаток. По колену, в такт троллейбусным рывкам, колотил твердым пластиковым углом чей-то кейс. Слева цеплялся за поручень мятый синий пиджак. Справа тяжело дышала женщина в вязаной кофте, обмахивала красное, запаленное лицо панамкой. На локте у нее висела корзинка, накрытая газетой. Из-под газеты выглядывали веточки укропа.
Все было так, как и должно было быть. Куцая весенняя зелень мелькала в окне на фоне серых фасадов. И тут бездумно пялившийся в пыльное стекло мужчина вдруг встал со своего места и как-то аккуратно – "Садитесь, пожалуйста!" – усадил женщину в кофте вместо себя.
У него были редкие, растущие какими-то кустиками, жирные волосы. Повернутую к Галке щеку пятнали оспины. Небритость сползала по шее в грязный ворот рубашки. От него несло каким-то жутким одеколоном и – слабо, снизу, от брюк – мочой.
Он стоял, пьяно покачиваясь, стекляным взглядом упираясь в пустоту между плафонами, и недопитая бутылка пива в его руке покачивалась вместе с ним. Что-то побулькивало у него в горле.
Господи, господи, как же Галке хотелось, дернув его за засаленный рукав, сказать: "Так не бывает! Вы фальшивите! Зачем? Вы не должны были уступать! Ваша роль – другая!"
Вот такой ляпсус.
А в другой раз встретился какой-то необыкновенно серьезный, совершенно по-взрослому рассуждающий ребенок лет пяти. А в третий дошло до того, что под подозрение попала мама. Раньше, рассказывая о папе, она страшно нервничала. Закуривала, заламывала руки. Тискала в пальцах то салфетку какую-нибудь, то край скатерти, то сигаретную пачку. Голос у нее вибрировал, словно через голосовые связки пропускали электрический ток. Кожа на скулах натягивалась, и лицо приобретало хищное, исступленное выражение.
Тем более разительной была перемена в последний воскресный Галкин приезд на дачу.
История папиного предательства и обмана уложилась в нарезку овощей для салата. В три минуты. И никакого электричества. Никакого табака. Никаких поз. Только усталый взмах руки: "Дальше, дочка, ты и сама знаешь". Это настолько не вязалось с маминым характером, что пришлось в смятении убежать полоть крыжовник.
Галка и сама не понимала, откуда берется это дурацкое чувство неправильности. Видимо, с головой у нее было что-то не то. Перемыкало где-то. Весь мир, конечно, театр. Спасибо англицкому драматургу, открыл глаза. Но чтобы еще и людей повсюду делить на профессиональных актеров и на любителей… Это уже тю-тю… Галка вздохнула. Теперь вот и Гриша убивается совсем не так, как она себе напредставляла… Хотя уж он-то…
Рука затекла. Галка переложила телефон в другую руку.
Шарыгин выдыхался. Рыдания становились тише. Фырк-фырк. Сейчас и всплывет истинная причина. Какое там Мироздание! Все намного прозаичней. И прозрачней. Вот раз, два…
– Меня, знаешь, Светка выгнала… – выдавила трубка. И засопела.
Ну вот. Пожалуйста. Далее подразумевается ее реакция. Типа "Аххх!".
Собственно, на улицу Шарыгина изгоняли периодически. Сначала это была Юлечка, полная, волоокая особа с прелестными ямочками на щеках, с прической под Мирей Матье, с мягкими, пухлыми руками. Она выдержала едва полгода, к концу срока отлучая Гришу от себя чуть ли не через день. Разумеется, на этом ее проживание на Шарыгинской жилплощади и завершилось. Затем на горизонте взошла и со скандалом закатилась рыжеволосая Эмма. Или уж, скорее, выкатилась. Похоже, в том же направлении двигалась и Светлана.
Жалко. Галке Светлана нравилась.
В отличие от странноватой, медлительной Юлечки и порывистой истерички Эммы она была обычным, живым человеком. Да и с увлеченными выгрызанием ролей театральными у нее не было ничего общего.
На банкете по поводу открытия сезона Гриша представил их друг другу. Галка получила определение "светоча в царстве тьмы", Светлана оказалась "доброй самаритянкой". Они уселись рядышком и цапнули один и то же бутерброд с двумя кружками сырокопченой колбасы. Под смех бутерброд был разделен пополам, и Галка, вообще-то всегда трудно сходившаяся с людьми, через пять минут вдруг обнаружила, что пичкает соседку своими тайными детскими воспоминаниями (принцы, ах, принцы!), а через десять, что хихикает вместе с ней над заслуженным артистом Хабаровым, гоняющим вилкой по тарелке упрямую, никак не желающую накалываться маслину. Подвижное, многоопытное лицо актера выражало сначала меланхолию и тусклый интерес, но по мере того, как охота затягивалась, оно последовательно транслировало в окружающее пространство азарт, затем досаду, затем раздражение и, наконец, злость.
Куда там Джиму Кэрри! Здесь профессионально работали щеки, губы, нос, брови, глаза, лоб и даже мочки ушей. Русская драматическая школа, что вы хотите.
Маслина испытала все грани Хабаровского таланта, но тем не менее не сдалась. Тогда, отложив вилку, ее попросту схватили рукой. Вперили в нее близоруко прищуренный Хабаровский глаз и продекламировали из "Короля Лира":
– Восстал ты против нашего решенья, чего наш сан и нрав не допускают, – у власти я, по каре ты увидишь!
На "у власти я" и Галка, и Светлана синхронно повалились под стол. Галка, наверное, никогда так в жизни не смеялась. Оттого, что необходимо было соблюсти хоть какие-то приличия и не хохотать под столом в голос, приходилось зажимать рот ладонью. В результате звуки сквозь пальцы рвались не вполне человеческие, а в горле вулканически клокотало.
Светлана, бодая Галкино плечо, всхлипывала вторым номером, и вместе у них получалось что-то из аудиозаписей "Живой Природы". Экваториальные джунгли. Вопли макак-резус. Перекличка попугаев. Посвист сурков. Извержение Килиманджаро.
Нырнувшее к ним обмягшее, пьяное лицо Шарыгина – "Девочки, с вами все в порядке?" – вызвало только новый приступ.
Лицу было тут же, пантомимическим дуэтом, указано его место и оно, слегка обиженное, всплыло к застолью, а Галка вдруг подумала, что взаимное расположение у людей возникает порой из сущей ерунды, причудливого набора – общего бутерброда, маслины, актера Хабарова, стола. Все это, перемешиваясь, сплетается в невидимую симпатическую нить…
И вот – новое Шарыгинское изгнание. Ножницы для этой нити.
Галка, впрочем, никак не могла для себя понять, как это возможно: вместе с рукой и сердцем предлагать квартиру, чтобы затем, вкусив семейной жизни, не единожды удаляться из нее вон и в скором времени потребовать вон уже свою неудавшуюся половину – любовь вроде как прошла и апельсины окончательно завяли. Извращение какое-то.
И вообще, как это Мироздание в данном случае не сподвиглось еще и на женский заговор? Благодатная тема-то. Женщины против Шарыгина.
А еще Галка подумала, что ничего другого кроме "Аххх!" ей и не остается. Если уж мы (мы, Галина Ивановна Всея Руси), пусть и про себя, кого не попадя упрекаем в дурновкусии и плохой игре, то и сами выбиваться из театральной канвы просто-таки не имеем права. И не можем взять и брякнуть: "Выгнала – и слава Богу! Давно пора!". Не по чину нам.
Не-ет, мы свои закидоны знаем и чтим. Поэтому:
– А с чего вдруг выгнала-то?
Тоже "Аххх!" в какой-то мере.
– Позавчера, помнишь? – ответила, воодушевляясь, трубка. – Отмечали гонорар Кулебабы. Снялся в каком-то сериалишке.
– Не помню. То есть, Кулебабу-то помню…
– Погоди, а ты вообще позавчера-то была?
– Была. На дневной репетиции.
– Ну-у… А мы вечером собрались. После этой… дурной пьески… с чемоданом…
В спектакле "Адюльтер с незнакомцем" Шарыгин играл несчастного приезжего, который случайно ошибся адресом и попал в эпицентр семейного скандала. Герой его был персонаж комический. Дважды – в конце первого и второго актов – он пересекал сцену преувеличенно большими и вместе с тем крадущимися шагами, а все остальное время сидел в шкафу. В этом сидении, пусть и с уморительными монологами в дээспэшный задник, было все же что-то унизительное. Вроде Галкиного задирания мертвых ног. Тем более, на фоне искрометной, бенгальскими огнями брызжущей игры иуды Пескова в центральной роли мнительного супруга.
Кому, значит, чемодан, а кому – муж.
Понятно, что дурная пьеска. Даже так – "пиэска". Еще губу по-верблюжьи оттопырить…
– Ну, отбарабанили… – продолжал Гриша. – Аншлаг, успех… Игорь Борисович, кланяясь, ножкой шоркает… У кого-то из великих подсмотрел… Метит! Метит в Великие! А я голову поворачиваю – ба! Кулибаба! В окно у дальней расписной фанеры ряшку свою просунул… Вот, знаешь, Галюш, никогда не понимал, как с такой физиономией… впрочем… Просунул и просунул. И подмигивает. Натурально, как сказал бы Казимирчик, семафорит. Мол, проставляется. Ну, наши все быстренько-быстренько…
Слушая, как актерский состав во главе с, конечно же, никем иным, как страстным любителем халявы Песковым, приступом брал анонсированный Кулибабой буфет, Галка поймала себя на том, что может, оказывается, делать несколько посторонних вещей одновременно. Может разглядывать замысловатый узор тротуарной плитки – треугольники и круги с короткими волнистыми лучами. Может теребить в кармане ключи, наощупь определяя, какие свои, а какие соседские. Может мимоходом посетовать про себя, что чужой тонкий цилиндрический ключ с прицеившимся к нему мелкозубчатым карликом и выпирает неудобно, и тяжелит.
Между тем, в буфете уже были сдвинуты столы…
– Буквой "Пэ", – бубнил Гриша. – Про разносолы не скажу, но!.. Имелся оливье, имелась селедка. Имелось редкое в наших краях это… на палочках…
– Канапе, – подсказала Галка.
– Во-во. Сидим. Вкушаем. Дорогой наш Игорь Борисович чавкает так, что напрочь глушит Кулибабу. Я, конечно, утрирую, но если бы ты, Галюш, его видела… Хотя я против песковских манер в данном случае ничего не имею, потому как из двух зол Кулибаба – большее. Представляешь, каким соловьем пел! Его наконец-то заметили! Он снялся! Он создал образ отца мафии! Великий образ, который потом назовут классическим. Дон Корлеоне а-ля руссо! И все это мне буквально в ухо. То есть, в одно он, а в другое – Песков с его челюстями…