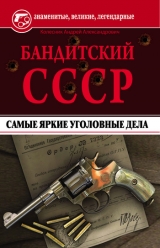
Текст книги "Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела"
Автор книги: Андрей Колесник
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Не прощенный. Последние годы он, значительно растерявший свою выдающуюся сноровку, позволявшую отжиматься сотни раз и отбиваться от нескольких нападающих, провел, тихо читая книги, в тюремной библиотеке. Вежливо улыбался и мило общался с конвоирами, характеризовавшими Червонца в качестве примерного заключенного. Рассказывал о раскаянии редко-редко появлявшимся у дверей его камеры журналистам, которым он в свою очередь казался удивительно приятным и порядочным человеком. Он продолжал верить в свою воровскую удачу. В то, что Бог хранит его для какой-то высшей цели.
Сергей Арбиевич Мадуев умер в колонии в 2000 году.
Глава 2 По следам великого комбинатора. «Заслуженные» авантюристы Советского Союза
Охота на медвежатника
Не одним лишь грубым разбоем жил криминальный Ленинград 1920-х годов. Небритые здоровяки в надвинутых на глаза картузах, поджидающие своего часа в подворотнях и у заполняющихся выручкой магазинов, хотя и были завсегдатаями газетных полос, но кое в чем уступали другой преступной масти, имеющей несколько больше инструментов, нежели только грубая сила да надежда на взаимность фортуны. Одним из наиболее почетных ремесел в данном случае была «профессия» взломщика сейфов. Проще говоря, медвежатника. Ее умудренные опытом адепты предпочитали работать, не привлекая к себе лишнего внимания и, в зависимости от квалификации, не создавая шума. Тем не менее распространенный жанровой литературой образ хитроумного вора, с хирургической чуткостью подбирающего ключи к сложнейшим сейфам, – в большинстве случаев только литературный образ. Это стиль специалистов наивысшей квалификации, которых во все времена были единицы. Чаще работа взломщика имела вид несколько более будничный, да и занимались ей вчерашние грабители, подсмотревшие кое-что у настоящих профессионалов, что, к сожалению сыщиков, не делало труд по поиску преступника легче.
…
Одним из наиболее почетных ремесел в данном случае была «профессия» взломщика сейфов.
В 1924 году с взломщиком примерно такого уровня пришлось иметь дело уже знакомому нам по первой главе сыщику Ивану Бодунову. На молодую грозу преступности возложили поимку ушлого медвежатника, 18 июня 1924 года ограбившего ювелирку местного нэпмана-миллионщика. Поскольку это было первое дело подобного размаха со своим особенным почерком, некоторое время у сотрудника УГРО ушло на отработку версии, связанной с деятельностью гастролера [7] . Аналогичным образом в то время действовали многие высококвалифицированные медвежатники. Среди мелькающих версий всплыло имя некоего Вильгельма Шульца, выдающегося мошенника польского происхождения, изредка тревожившего отечественных толстосумов с дореволюционных времен.
В июле был вскрыт сейф в редакции местной газеты и чуть позже, на той же неделе, какой-то шутник ограбил магазин, начав со взлома потолка. Определенно, это был один и тот же человек. Было похоже, что он только-только начинал входить во вкус. Сотрудники УГРО, рассматривая его «художества», лишь пожимали плечами: поди, разбери, медвежатник он или тот самый нахватавшийся по верхам шниффер [8] с фомкой наперевес.
Пока Бодунов собирал улики и выстраивал версии, взломщик не сидел сложа руки. Примерно через месяц после ограбления магазина кто-то проник в ленинградский судностроительный трест и, оглушив сторожа, вычистил сразу несколько сейфов, взяв оттуда более 140 ООО рублей. Дело провернули чисто и тихо, явно подготовившись загодя и, очевидно, зная, когда именно следует навестить трест. УГРО взялся за проверку неблагонадежных сотрудников Судностроя, разыскивая человека, который мог дать наводку. Среди гор пылящихся в архиве дел сыщики обнаружили несколько потенциальных кандидатов, среди которых наибольший интерес вызвала личная карточка некой Елены Дворощан. Фамилия женщины была очень хорошо знакома сотрудникам уголовного розыска. В Ленинградском криминальном «гетто», на Лиговке, жил скупщик краденого с точно такой же фамилией. Друзья и деловые партнеры звали его иначе – Илюхой Шпаренным. Вне всякого сомнения, этот человек мог быть посредником между своей сестрой и бандой воров. Разработка ближайшего окружения Лиговского хитрована вывела законников на долгое время скрывавшегося от правосудия вора-карманника из Москвы Гришку Краузе. Он был тертым калачом и, попавшись в ходе разыгранной провокации в руки сыщикам, теоретически мог очень долго тянуть время. Однако по ряду причин, не на последнем месте среди которых оказался тонкий дар убеждения ленинградского УГРО, предпочел этого не делать.
Именно он, сознавшись в своем участии при ограблении треста, выдал Бодунову остававшегося в тени медвежатника Георгия Александрова, или Жоржа Черненького, примерно за год до описываемых событий арестованного в 1923 году в Ростове за крупное ограбление Петроградских академических складов.
Жорж Черненький (снимок, сделанный при задержании в 1923 году)
Там-то крепко уважавший гремевшее в те годы имя Лёньки Пантелеева хитрый цыган решил на свой лад превзойти кумира – стать настоящим профессионалом в деле взлома сейфов и, сколотив приличное состояние, покинуть родину. На пути реализации честолюбивых планов Жоржика стояла только тюремная клетка, из которой он, прирожденный артист, сбежал, умело разыграв из себя психически больного. Примерно за год он сколотил небольшую банду и приступил к воплощению мечты: подобно незабвенному Остапу Бендеру, Жоржик твердо решил накопить миллион.
Краузе сообщил также место, где собиралась банда Черненького. В небольшое помещение на заполненной сегодня историческими и архитектурными памятками улице Стремянной тотчас отправилась группа для задержания опасных преступников. Однако медвежатника там не оказалось.
Цыган скрылся раньше, словно почувствовав нависшую над ним угрозу С той поры это ощущение стало для Черненького, словно стук собственного сердца. Он не бросил опасного ремесла, задавая шороху нэпманам и государственным конторам, доказывая хваленым несгораемым сейфам свое безусловное умственное превосходство. Но Жорж едва ли понимал, что уже утратил свой главный козырь – анонимность, и теперь игра в кошки-мышки с прирожденным тактиком Бодуновым рисковала обернуться для него трагическим провалом. Да, предугадать, куда в следующий раз нагрянет Черненький, было проблематично, но чувствующим охотничий азарт сыщикам и не требовалось этого делать. Подобно могучей анаконде, оплетающей жертву своими тяжелыми кольцами, уголовный розыск перекрыл взломщику все возможные каналы сбыта краденного. Все скупщики и посредники находились под ежедневным наблюдением дожидающихся опального вора органов.Один за другим попадались подельники Жоржика Черненького – с поличным, при попытке налаживать сбыт украденного сукна, финансовых облигаций и прочих ценностей, которыми набивали свой подпол ленинградские богачи. Единственной возможностью Георгия Александрова уцелеть во враждебно настроенном городе было бегство. Но он, очевидно, решил во чтобы то ни стало урвать куш. Собрать свой миллион золотом, а может быть, просто последовать примеру Пантелеева, грабившего богачей даже после побега из Крестов, с цепляющимися за пятки полицейскими ищейками….
Подобно могучей анаконде, уголовный розыск перекрыл взломщику все возможные каналы сбыта краденного.
Так он упустил свой последний шанс на спасение. Жоржика Черненького взяли вместе с двумя сотоварищами буквально перед самим ограблением. Той же ночью на конспиративной квартире медвежатника был найден тайник с вожделенным цыганским золотом. Георгию Александрову, выбравшему стезю Пантелеева, не оставалось ничего другого, кроме как повторить судьбу своего кумира. В 1925 году вор и три его ближайших помощника были расстреляны по приговору суда.
Гроссмейстер
Осенью 1946 года в первой половине рабочего дня в кабинет министра пищевой промышленности Советского Союза Василия Петровича Зотова, кратко стукнув в недавно выкрашенную дверь, вошел неизвестный.
…
«Вы кто такой?» – возмущенно поднял голову товарищ Зотов, на миг отвлекшись от проверки статистического отчета. Как любой крупный чиновник, он не любил незваных гостей. Первая его мысль – как вообще кто-то без предупреждения сумел пройти приемную? Секретарь, что ли, уснул? Однако возмущение растаяло без следа, уступив место удивлению, стоило только Василию Петровичу внимательно рассмотреть гостя.
В скромной поношенной форме фронтового офицера танковых войск взору оторопевшего министра предстал безногий инвалид с блестящими регалиями на груди, среди которых моментально привлекали к себе внимание две Звезды Героя Советского Союза. Две!
Дальше все происходило следующим образом. Министр любезно принял гостя, позабыв обо всех своих делах, и внимательно выслушал его историю. Этот прошедший войну человек на самом деле был героем. Как и Зотов, он был родом из маленького городка и в молодости усердно работал на благо социализма. Когда же Гитлер вероломно напал на Советский Союз, молодой офицер одним из первых оказался на передовой, спасая товарищей и животом защищая Отчизну. Скромно и без хвастовства он рассказывал с потяжелевшим от воспоминаний лицом о том, что довелось сделать. Взгляд министра то и дело натыкался на беспомощные культи ног этого замечательного человека. Рядом с ним Зотов чувствовал робость. Он тоже многое повидал на войне – но все больше в тылу, занимаясь эвакуациями и организацией продовольственных поставок. А этот человек…
И когда ветеран, стыдливо пряча глаза, признался, что к товарищу Зотову его привела крайняя нужда, Василий Петрович сделал все от него зависящее, чтобы помочь обиженному жизнью товарищу Кузнецову Партия дефицитных товаров и сумма в 9500 рублей [9] были лишь малой толикой благодарности этому человеку, в лице которого Зотову представился весь пострадавший от войны трудовой народ.
Спустя неделю информация об этой встрече уже лежала в письменном виде на столе начальника МУРа. Министр речного флота 3. А. Шашков, министр мясной и молочной промышленности И. А. Кузьминых, министр угольной промышленности Д. Г. Они-ка, министр тяжелого машиностроения Н. С. Казаков, министр финансов А. Г. Зверев…
Этот внушительный список удлинился на одну фамилию, а следователи МУРа прониклись к талантливому мошеннику невольным уважением.
Зосима Алексеевич Шашков – министр речного флота в 1 939-1 946 годах, первая жертва виртуозного мошенника
Разыграть такую комедию и суметь обмануть не одного, а больше 10 министров сталинского правительства! Людей, на чьи плечи сам Вождь народов возложил ответственность за целые отрасли и направления! Людей, в присутствии которых и дышать-то старались через раз, не то что обманывать! Сыщиков, читающих подробности визитов «дважды Героя Советского Союза» в министерства, поражала хитрость товарища Кузнецова. Одним он рассказывал, что вытаскивал раненных товарищей из горящего танка, с другими делился подробностями своей довоенной карьеры, проявляя неизменную изобретательность в подходах к министрам. Министру финансов он представился бывшим шофером Госбанка, министру сельхозмашиностроения – мотористом тракторного завода. Наибольшее впечатление на слушателей производила история о том, как молодой летчик едва не погиб в небе, зажатый фашистскими коршунами, но был спасен своим боевым товарищем. Самим Василием Сталиным. Имя родного сына Самого производило на любого чиновника гипнотическое воздействие, подавляя любую способность к критической оценке ситуации. В карман неуловимого калеки всего за два месяца отправились несколько десятков тысяч рублей! И это не считая услуг, оказываемых министерствами своему гостю: от предоставления казенного авто до выдачи рулонов дорогой ткани, еды, одежды и различных вещей.
…
«Одно слово – гений! – глубокомысленно заключали сотрудники Министерства внутренних дел, изучающие работу мошенника. – Куда там профессорам и доцентам до такого кадра!». И с невольным ребяческим любопытством прикидывали: «А смог бы он и нашего вот так крутануть?».
Смекалка мошенника была признана даже самим Иосифом Виссарионовичем, которому лично докладывали обо всех успехах поиска инвалида. Пока ни о чем не догадывавшиеся министры недоумевали о причинах интереса органов к «герою», сам Сталин, попыхивая трубкой, не знал, злиться ему на использовавшего силу знаменитой фамилии ловкача или смеяться.
Вскоре сыщики сумели установить подлинную личность «друга Сталина» – Вениамина Вайсмана, 33-летнего вора из Украины, имевшего за плечами семь судимостей и почти каждый раз сбегавшего из лагерей. Он действовал на всей территории Союза от Житомира (где родился) до Урала. Славился своим артистическим талантом. Был натурой творческой и в некотором смысле романтической: имея незаурядные спои честным трудом, но считал это чересчур скучным, лишенным риска занятием. Потому и воровством занимался весьма и весьма необычным. Любил, например, воровать товарные вагоны и целые составы. Сам того не ведая, доказывал несправедливость утверждения Теодора Рузвельта о том, что обычный вор может только из вагонов воровать, в то время как вор с высшим образованием способен украсть всю железную дорогу. Эта любовь, к слову, обернулась для Вайсмана настоящим подарком судьбы. Так, желая однажды совершить кражу из подмосковного депо, он познакомился с местной девушкой – чтобы, прогуливаясь с ней, было легче изучить маршрут преступления. Однако в ходе прогулок неожиданно для себя влюбился. Вместо товарняка Вайсман нашел жену Анну, подарившую ему двух замечательных сыновей. Тем не менее остепениться эта привыкшая к приключениям натура не могла. Обеспечив бедных родственников жены пристойным жильем, он сам заработал себе очередную судимость и тюремный покой в вологодских лагерях. Холодной зимой 1944 года Вениамин, не задерживаясь, бежал и оттуда. Домой попал потерявшим от обморожения обе ноги. На сей раз Веня послушал жену и немного подросших сыновей, умолявших бросить воровское ремесло. И бросил – устроился токарем на местный завод где-то в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, быстро войдя в число передовиков производства. Однако тихая жизнь мирного советского гражданина недолго удерживала в своем лоне активиста Вайсмана. Очень скоро случилось событие, давшее его мошенническому таланту индульгенцию на новое дело.
…
Он действовал на всей территории Союза от Житомира (где родился) до Урала.
Пока сотрудники МУРа проясняли биографию знаменитости, мотаясь по региону и беседуя с родственниками Вайсмана, тот сумел обставить еще нескольких крупных чиновников и председателя Академии наук Советского Союза Вавилова. Последний столь растрогался рассказами Вениамина, что даже распорядился снабдить его лучшими протезами ног из института при академии. Забрав дорогой подарок, Вайсман как сквозь землю провалился, оставив оперативников гадать о собственном местонахождении. Зима 1947 года прошла для МУРовцев в режиме бесплодных поисков мошенника. Его искали в ресторанах и пивных, в санаториях и домах инвалидов, в Москве и за ее пределами. В начале 1947 года, когда по всей стране катился гул и рельсовый грохот первой ударной пятилетки, протезированный и очень обеспеченный «капитан» отдыхал от трудов праведных, гуляя по столице.
В следующий раз Вениамин Вайсман появился в кабинете самого секретаря ЦК ВКП(б) Николая Семеновича Патоличева уже весной. Ловкий «капитан» решил, что ему пора обзавестись собственной квартирой. И рассказал секретарю такую трогательную историю, что товарищ Патоличев лично похлопотал за героя. Вайсман получил замечательную квартиру в Киеве, обставлять которую «повезло» министру лесной промышленности УССР.
Не имея даже среднего образования, этот парень демонстрировал просто чудеса находчивости и сообразительности во всем, что касалось манипуляции и обмана. Чрезвычайно ловко ему удавалось добиться соблюдения всех негласных правил успешного мошенничества. Зная, насколько важно производить нужное впечатление, он использовал самые мощные способы из возможных: вызывающую уважение форму фронтовика и медали, каждая из которых в отдельности пробуждала трепет и наделяла носителя правом на удовлетворение любой прихоти. Только вот настоящие обладатели таких наград, как правило, не могли продемонстрировать требующуюся в подобных делах наглость и хитрость, довольствуясь тихой скромной жизнью.
Любая манипуляция строится на формировании у жертвы чувства единственно возможного развития событий, навязывания ложного, безальтернативного способа выхода из ситуации, для чего манипулятор использует эмоции, вызывая у человека симпатию, страх, сострадание. Любая искусственная эмоция выдает манипулятора и его цели. Однако обычный человек никогда не сумеет разобраться в своих ощущениях, ведь опытный мошенник учитывает все особенности человеческой психики. Даже такой мощный стоп-кран, как критическое восприятие ситуации, можно обойти, если поставить человека в необычную ситуацию. Например, войти без стука и соблюдения протокола к тому, для кого официальные ритуалы важны, как воздух. Главное – вызвать эмоции и отключить рациональное мышление. Затем в игру вступает обаяние, очень быстро переводящее даже сильное возмущение в симпатию. Последним доводом мошенника чаще всего становится давление – негласное, но отчетливо ощущающееся жертвой. Давление страхом или стыдом.
Поскольку давить на всемогущих функционеров с помощью страха Вайсман не мог, он всегда выбирал сочувствие и играл на робости еще не лишившихся остатков самокритики номенклатурщиков, подсознательно ощущаемой ими перед ветеранами, отдавшими ради Победы намного больше, чем они сами.
Оттого-то любая разыгрываемая в считанные часы и потрясающая по своей наглости комбинация была беспроигрышной. Был, впрочем, еще один немаловажный элемент, обеспечивавший Вайсману преимущество, и речь о нем пойдет чуть ниже.
…В Киеве сотрудники Уголовного розыска «капитана Кузнецова» не застали. Его трудолюбивая душа жаждала покорения новых высот. Вениамин снова отправился в Москву, где, выждав некоторое время, явился к уже знакомому министру тяжелого машиностроения Николаю Казакову, в прошлый раз наградившему «фронтовика» суммой в 1500 рублей. Сейчас речь шла уже о 2000 рублей. Наглость Вайсмана вызывала уважение. Очевидно, он мог бы с тем же успехом и к самому Сталину зайти, поговорить о славных военных подвигах его сына. Беседа с несгибаемым, обладавшим феноменально тяжелым взглядом министром прошла в дружеских тонах, и по ее окончании чиновник недрогнувшей рукой выписал соответствующее распоряжение о выдаче денег. Однако стоило за посетителем закрыться двери, как предупрежденный Казаков уже набирал на своем смолисто-черном аппарате телефон МВД. У кассы к Вениамину Вайсману подошли сотрудники в штатском. Представление закончилось.
…
Его трудолюбивая душа жаждала покорения новых высот.
Вениамин вел себя спокойно и с достоинством, выдающим его высокий статус в лагерном мире. Не таясь, описывал подробности походов по министерствам, которых уже насчитывалось 26. На вопрос следователя, зачем ему все это было нужно, рассказал небольшую историю. Оказывается, причиной, побудившей заслуженного труженика воровской нивы вновь приняться за старое, стало негодование. По словам Вайсмана, во времена своей работы на заводе он как-то стал свидетелем безобразной сцены: торопящийся по своим делам чиновник с лоснящимся лицом сильно толкнул подошедшего к нему с просьбой нищего во фронтовом плаще. Калека упал, а управленец даже не повернул головы. Это и стало своеобразным ключиком, с помощью которого авантюристичная натура Вайсмана взяла верх над его семейными привязанностями – он решил проучить всю советскую систему.
С октября 1945 года Вайсман ездил по Советскому Союзу, изучая работу министерств, их структуру. Заучивал имена ответственных чиновников и директоров, подпаивал охочих до бесплатного угощения и разговорчивых сотрудников, на местах доставая бесценные факты и сведения. Он собирал информацию о своих будущих жертвах и одновременно готовил легенду для своей новой личности. Многоликий капитан Кузнецов, герой воздушных и танковых войск, работник практически всех сфер промышленности и хозяйства Советского Союза, появился, словно греческая богиня. Только не из морской пены, а из канцелярской. Вайсман покупал всевозможные подтверждающие его выдумки справки, доставал грамоты и подделывал благодарные письма. Эти данные вместе с известными министрам именами постоянно всплывали в его разговорах, создавая у жертв иллюзию достоверности. Пользуясь уважением воровского мира, где Вайсмана считали равным среди достойных, он достал офицерский китель и за огромные деньги (20 ООО рублей) поддельные награды вместе с сопроводительными документами.
На вопрос, куда делись деньги – 56 ООО рублей, экспроприированные из советской казны без единого выстрела или угрозы, Вайсман пояснил: частью потратил и прогулял, частью раздал нуждавшимся.
Какой была реакция Сталина после ознакомления с рапортами оперуполномоченных и рассказов начальства МВД, никто не знает.
Но о ней можно судить по иному обстоятельству. В те годы, когда чиновника могли сослать на 20 лет каторги за одну взятку, а какого-нибудь налетчика и вовсе расстрелять без суда и следствия, Вениамина Вайсмана осудили на 9 лет лишения свободы. Много ли это?
За обман советской власти и хищения в особо крупных масштабах, за использование в своих проделках имени самого Сталина, за многочисленные побеги… Думается, что это было довольно мягкое наказание, учитывая, что самого Вайсмана в его жизни осуждали и на большие сроки. В тот раз он отсидел свое наказание от начала до конца.
Портрет Вениамина Вайсмана на посвященном ему стенде в Московском музее МВД
…
…2 октября 195Б года на Курском вокзале Москвы произошел курьезный случай. В местный линейный отдел милиции попали двое подвыпивших рабочих и один инвалид. Работники ругались и просили милицию помочь им, так как калека украл у честных тружеников 450 рублей. В свою очередь инвалид кричал, что он ветеран труда и заслуженный работник, а его обижают и унижают обвинениями в воровстве. И хотя симпатия местного старшины изначально была на стороне инвалида, он проявил профессионализм и предложил обеим потерпевшим сторонам писать заявления. Сам же обратился за помощью к своему начальству. Заинтересовавшийся скандалом майор Макеев пришел посмотреть на героев драмы… и, неожиданно прищурившись, обратился к трудовому ветерану по имени-отчеству. «Я вас знаю, – сказал он, улыбнувшись, – Вы ведь Вениамин Вайсман?».
Инвалид вздрогнул, затравленно глянув на милиционера. И перестал ломать комедию, честно сознавшись, что это он и есть. Деньги были найдены в одном из его протезов, а сам Вайсман признал свою неправоту. Поведения своего он не объяснил, однако, вероятно, только таким образом знаменитый мошенник добывал себе деньги на пропитание, чтобы не становиться обузой давно покинутой семье. Вайсмана снова осудили и отправили в заключение на 3 года.
Тем не менее это не было концом истории. В апреле 1961 года изрядно постаревший Вениамин Борисович Вайсман самолично пришел в МУР. Встретившись там с некогда ловившими его сыщиками, живая легенда воровского мира пообещал сотрудникам розыска, что больше не станет заниматься мошенничеством и воровством, так как уже слишком стар для этого. Последний разговор сыщиков и гениального мошенника длился несколько часов. Обе стороны общались как старинные друзья, а молодые сотрудники уголовного розыска с любопытством заглядывали в кабинет, дивясь на эдакую знаменитость.
Свою жизнь Вениамин Вайсман закончил в одном из северо-кавказских домов инвалидов, куда его в качестве прощального дружеского жеста пристроили сыщики МУРа. Изредка навещаемый повзрослевшими детьми и членами своего многочисленного семейства, он не забыл данного обещания.
Вор, который очень любил детей
Этот человек, пускай и не совершавший преступлений всесоюзного масштаба, не грабивший и не убивавший десятков соотечественников, по праву может считаться одним из лучших воров Советского Союза. Воров, хотя и действовавших вне уголовных понятий, не связывавшихся с организованной преступностью, но заслуживших свое место в мире криминальных легенд находчивостью и необычной судьбой.
Впервые Борис попал в поле зрения органов правопорядка в далекие военные годы. Молодой человек приятной наружности «с черными волосами и миндалевидными глазами» [10] , инструктор-воспитатель по физкультуре, приехав в Москву из дальнего Иркутска, оказался в ближайшем окружении родственницы самого Феликса Дзержинского – племянницы Ядвиги. Ядвига, даром что была женщиной опытной, оставалась при этом особой пылкой и в большой степени инфантильной. Имея за плечами пяток неудачных браков (с большинством мужей, оказавшимися безработными и расточительными личностями, она не прожила и полугода), а также множество молодых любовников, Ядвига постоянно оставалась открыта новым отношениям. Очень быстро между ней и молодым, симпатичным Венгровером вспыхнули чувства, без преувеличения равные по своей силе пожару. На такое как раз способны только опытные, многое повидавшие женщины, чья молодость уже уступила место зрелости, но при этом не утратившие способности с детской непосредственностью бросаться в омут с головой. Омут оказался глубоким.
Феликс Дзержинский (1 877-1 926): даже после смерти его имя долгое время внушало почтение и робость
…
Бориса очень любили и бывшие воспитанники [один из которых и познакомил Венгровера с Ядвигой], и просто молодежь. В нем чувствовалось очарование и бескрайний, бьющий ключом оптимизм, а любовь к спорту только оттачивали природные качества, придавая Борису стойкость и волю. Все это было словно наградой за тяжелое детство и преследовавшие Венгровера неудачи.
Он никогда особенно не скрывал своей натуры, очень быстро дав понять, что кроме спорта и преподавания имеет еще одну страсть, которую Дзержинская безропотно стерпела, так и не научившись за годы жизни быть независимой от людей и обстоятельств. Венгровер был вором. Он пропадал днями и неделями (к 1938 году за Венгровером числилось 4 побега из мест лишения свободы и более 50 краж), оставляя Ядвигу в одиночестве нервно ходить из угла в угол, и снова возникал на пороге ее квартиры с цветами, когда возникала необходимость.
А необходимости были, ведь в те годы попавшему в руки розыска вору, даже несмотря на лояльное отношение Сталина к классово близкому элементу, могло прийтись несладко. Поэтому, когда в 1939 году Венгроверу потребовалось использовать положение Ядвиги, он, не задумываясь, сделал это, представившись в целях маскировки племянником Дзержинского. К слову, на тот момент он уже успел жениться на другой – девушке Клаве из городка Воскресенска. Тогда же, устроившись на работу в 309-ю московскую школу, Борис щедро тратил полученные в ходе своих комбинаций деньги на воспитанников. Венгровер любил детей. Именно на их развлечения и нужды тратились тысячи и тысячи рублей. Целых три месяца «воспитатель» проработал в школе, прежде чем работники сферы образования, наконец, спохватились о необходимых документах, подтверждающих личность «племянника Дзержинского».
Будучи принципиальным поборником воровской справедливости, Венгровер обворовывал только квартиры состоятельных людей и немало насолил военному начальству в далеком 1939 году, прежде чем им вплотную занялся МУР.
Когда его схватили и посадили, вызываемые на допросы сотрудники школы единогласно свидетельствовали о Венгровере как об отличном сотруднике и замечательном человеке, чьими стараниями школа вышла на городское спортивное первенство, а сами ученики начали проявлять небывалую инициативу в физкультурных мероприятиях. Во время допросов в 1939 году Венгровер активно использовал для своей защиты фамилию Ядвиги, водил следствие за нос шпионскими байками о своей деятельности и всячески путался в показаниях.
Между тем процесс, длившийся до лета 1940 года, стремительно набирал обороты. В него оказались втянуты и четверо друзей – подельников Венгровера, и сама Ядвига (до последнего не понимавшая, что является соучастницей и надеявшаяся на силу непробиваемой фамилии). К работе МУРа подключилось уже и НКВД, углядевшее в процессе политические перспективы, а это могло означать страшные последствия для всех вовлеченных. В те предвоенные годы с людьми, попавшими в жернова внутренней борьбы за государственную власть, никто не церемонился. Каторга могла считаться легким наказанием. Примерно так оно и вышло.
Ядвига Дзержинская оказалась на Лубянке, где после серии убедительных допросов женщину отправили в лагеря на 8 лет. Венгровера приговорили к 10 годам лишения свободы. На самом деле Борис Рувимович освободился лишь в 1953 году, попав под устроенную советским правительством амнистию. За десятилетие в стране успело поменяться очень многое – власть, порядок, в каком-то смысле и устои. Пришлось измениться и Борису Венгроверу: у него уже была маленькая дочь, видеться с которой ему, деклассированному, не позволяла семья жены. Вынужденный преодолевать безразличие, проявляемое советской системой к освободившимся, ошибочно принимая всех бывших осужденных за одно и то же, Венгровер устроился работать на железную дорогу.
…
За десятилетие в стране успело поменяться очень многое – власть, порядок, в каком-то смысле и устои.
День ото дня ему, полному честолюбия и в каком-то смысле таланта, приходилось терпеть тяжелый труд и с горечью ощущать, как бездарно утекает жизнь. Нет полноценной семьи. Нет возможности заняться любимым делом. Нет и права общаться с юными спортсменами, которых вор-педагог мог бы многому научить и которым он мог помогать только опосредованно, возводя за свой счет целый спортивный городок неподалеку от Селезневки.
Внешне непробиваемый, вечно веселый и заводной, пользующийся уважением своих коллег, он с трудом преодолевал растущий год за годом внутренний протест.
Он сорвался только однажды, в конце 1967 года. По мнению одних, Венгровер решил тряхнуть стариной и вспомнить выдающуюся молодость, когда они с друзьями-отличниками запугали пол-Москвы своими неуловимыми рейдами. Другие же считают, что им двигало все то же желание помогать лишенным, по мнению Бориса, достойного настоящего детям. Истина, скорее всего, где-то посередине. Не оставляя следов и ловко создавая в квартирах пострадавших иллюзию беспорядка, учиненного целой группой воров, Венгровер, как в прежние времена, уделял внимание людям, не чуждым состоятельности (пускай даже небольшой – ограничивающейся исключительно советскими мерками). Огромный жизненный опыт и обаяние позволяли авантюристу избегать наказания даже, казалось бы, в провальных ситуациях. Например, столкнувшись с жертвой на лестничной площадке, с вынесенным из ее квартиры саквояжем, вор мог выиграть бесценные, позволяющиеся скрыться мгновения обычным вежливым приветствием. Первое время милиция вообще не подозревала, что зарядовыми, в общем-то, кражами стоит один человек. Даже после того, как вор обчистил несколько квартир в одном из домов по Калининскому проспекту, в распоряжении 2-го отдела МУРа была лишь догадка о высокой квалификации преступника и никаких конкретных улик.








