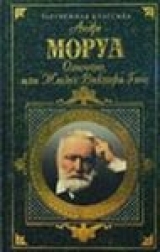
Текст книги "Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
А истина была в том, что Эжен сходил с ума от ревности и в поисках облегчения давал волю приступам бешенства. Он не мог перенести мысли, что в скором времени его брат женится на Адели, и доходил до того, что говорил Виктору ужасные вещи о его невесте.
Виктор Гюго – Адели Фуше, 30 ноября 1821 года:
"В отвратительном свете предстал передо мной характер человека, которому я еще вчера был глубоко предан, человека, ради будущности которого я отчасти пожертвовал своей будущностью, человека, которому я отдавал плоды своего труда и бессонных ночей, хотя должен был считать их твоим достоянием. До сей поры я все ему прощал, в его низкой зависти, в его злобных и подлых выходках я видел лишь неприятные странности желчной натуры... Боже мой! Если б я сказал тебе, какого имени он заслуживает! Нет, я этого не скажу тебе, я не хотел бы и самому себе это сказать... Ты не понимаешь меня, моя Адель, ты удивляешься, что твой Виктор охвачен таким бурным негодованием и так неумолим к проступку брата. Адель, ты не знаешь, что он мне сделал. Я все ему прощал и впредь прощал бы, – все, кроме этого. Лучше уж он зарезал бы меня во сне. На свете есть только одно существо, в отношении которого я не могу простить ни малейшего оскорбления и даже намерения оскорбить, – и конечно, я говорю не о себе! Как посмел этот негодяй коснуться самого дорогого, самого святого для меня? Зачем вздумал он отнять у меня мое достояние, мою жизнь, единственное мое сокровище? Ах, если бы это был чужой мне человек!.."
И все же он простил. Справедливость не позволила ему считать брата вполне ответственным за его выходки, – ведь порою казалось, что Эжен сам не сознает, что он говорит.
5. ХОТЕТЬ – ЭТО МОЧЬ
Пора мечтаний, и силы, и благодарения!..
Быть чистым, быть сильным, быть возвышенным
и верить в чистоту людей...
Виктор Гюго
Больше шести месяцев прошло со времени помолвки в Дре, и вокруг семейства Фуше опять пошли сплетни. Дядюшка невесты, господин Асселин, человек неблагожелательный, старший брат Фуше – Виктор, приятели и кумушки говорили, что Адель серьезно компрометирует себя, принимая ухаживания юноши, который ничего не делает, не умеет заработать на жизнь и даже не может добиться согласия своего отца. Невеста прониклась всякими сомнениями, стала настойчивой: "Я вижу, Виктор, когда рассуждаю не в шутку, что у нас очень мало оснований считать нашу женитьбу возможной. Пойми положение моих родителей: они не видят ничего определенного..." Жалобы Адели были кроткими и носили мещанский характер; Виктор по самому складу своей натуры вставал в таких случаях в позу гордого испанца: "Я пойду к твоим родителям и скажу им: "Прощайте, вы увидите меня, лишь когда я добьюсь независимого положения и согласия моего отца, или не увидите вовсе..." Затем он описывал с горечью, что должно за сим последовать. Он умрет, и "когда-нибудь, Адель, ты встанешь с постели женою другого; тогда ты возьмешь все мои письма и сожжешь их, чтобы не сохранилось никакого следа, оставленного моей душой на земле". И тотчас Адель с упорством практичной женщины возвращала его на землю: "Какие огромные препятствия стоят перед нашей любовью, особенно если ты намерен предоставить событиям идти своим чередом..." А в другом письме она говорит: "Да, друг мой, я довольна, что ты работал... Пожалуй, я еще более была бы довольна, если бы видела в твоей работе больше последовательности. Мне кажется, что, за исключением иных случаев, которые нельзя предвидеть, не следует начинать новую вещь, пока не окончена та, над которой ты уже трудишься. Вот я какая придира!.."
Все эти сомнения вызвали в нем вспышку гордости.
Виктор Гюго – Адели Фуше, 8 января 1822 года:
"Не спрашивай меня, дорогая Адель, отчего я так уверен, что создам себе независимое существование, – ведь тогда ты заставишь меня заговорить о некоем Викторе Гюго, которого ты не знаешь и с которым твой Виктор нисколько не стремился познакомить тебя. У этого Виктора Гюго есть и друзья и враги; военное звание отца дает ему право появляться всюду и быть на равной ноге со всеми; нескольким своим опытам, хоть и слабым еще, он обязан преимуществами и неудобствами ранней известности; во всех гостиных, где он появляется чрезвычайно редко, люди, судя по его печальному и холодному лицу, полагают, что он занят какими-то важными замыслами, меж тем как он поглощен мечтами о юной девушке, кроткой, очаровательной, добродетельной и, к счастью для нее, неизвестной в гостиных.
Мне очень часто говорили, да говорят еще и сейчас (чересчур смело, конечно), что я призван к какой-то блистательной славе (повторяю эту гиперболу в точности); а сам я полагаю, что создан я для семейного счастья. Однако, если нужно пройти через известность, чтобы достичь этого счастья, я видел бы в славе лишь средство, а не цель. Я жил бы вне этой славы, хотя и относился бы к ней с почтением, как должно всегда относиться к славе. Если она придет ко мне, как это предсказывают, скажу, что я не надеялся на нее и не желал ее, ибо все мои надежды и желания я отдал тебе одной..."
Но почему, спрашивается, их брак невозможен или еще очень далек? Субсидия ведь обещана министром. "Очень возможно, друг мой, что через несколько месяцев мне предоставят какое-то место с окладом в две-три тысячи франков, и тогда с теми деньгами, которые принесет мне еще и литература, разве мы не сможем жить тихо и мирно, в уверенности, что наши доходы будут возрастать по мере того, как будет увеличиваться наша семья?.." Согласие генерала Гюго? "Но скажи мне, почему отец, увидав, что я достиг независимости, отказался бы сделать меня счастливым?.. Отец мой челочек слабый, но, несомненно, добрый. Если сыновья выразят ему искреннюю привязанность, они могут оказать на него большое влияние... Я надеюсь, что, после того как отец сделал мою мать несчастной, он не захочет обречь и меня на несчастную жизнь. Придет день, Адель, когда мы с тобою будем жить под одной кровлей, в одной комнате, и ты будешь засыпать в моих объятиях... Радости супружества станут нашим долгом и нашим правом..."
Мечты, чаровавшие пылкого юношу, который читал и создавал любовные стихи, но жил в строжайшем целомудрии. Он хотел, чтобы это тоже стало достоинством в главах его невесты: "Я счел бы заурядной женщиной (то есть довольно ничтожным созданием) ту молодую девушку, которая вышла бы замуж за молодого человека, не будучи убежденной и по его принципам, известным ей, и по его характеру, что он не только человек благоразумный, но употреблю тут слово в полном его смысле – что он девственник, как девственна она сама..." Но реакция со стороны Адели была неожиданной: разве можно говорить о таких "необычайных вещах" с благовоспитанной девушкой? Разумеется, можно, отвечал пылкий жених: "Я тебе доказал, как велика твоя власть надо мной, ибо один лишь образ твой сильнее всех волнений чувств, свойственных моему возрасту; я тебе сказал, что человек, настолько бессовестный, что он, нечистый, испачканный, готов соединить свою жизнь с чистой, непорочной девушкой, достоин презрения и негодования... Будь я женщиной и если бы мой суженый сказал мне: "Ты была мне оплотом против всех других женщин, ты первая женщина, кого я сжимал в своих объятиях, единственная, кого я буду обнимать; я с наслаждением привлекаю тебя к своей груди, я с ужасом и отвращением оттолкнул бы всякую другую женщину", – мне кажется, Адель, что, будь я женщиной, подобные признания любимого отнюдь не были бы мне неприятны. Но, может быть, ты не любишь меня?.." Нет, она любила его – как истая дочь супругов Фуше, то есть гораздо проще.
8 марта 1822 года, подхлестываемый ею, Гюго решился наконец просить у своего отца согласия на брак. Письмо он показал невесте, и та нашла, что оно написано очень хорошо. За исключением ее портрета, ибо Виктор изобразил ее сущим ангелом: "Во мне же нет ничего ангельского, выкинь, пожалуйста, эту мысль из своей головы, я – земная". О, чудесный реализм женщин! Затем она попыталась объяснить ему, что для нее счастье дороже славы: "Как ты можешь говорить мне, что я должна считать мой брак с тобой лестным для себя только по тем соображениям, что твой отец имеет высокий ранг? Ужасное заблуждение с твоей стороны! Какое мне дело до всяких рангов и званий?.. Заявляю тебе, что это твое важнейшее соображение для меня самое последнее. Помни, мне все равно, стану ли я женой академика, лишь бы я была твоей женой, и пойми – имеет ли для меня значение, что я буду снохой генерала..."
Прошло несколько дней тревожного ожидания. Влюбленные говорили, что если отец не даст согласия, они убегут и поженятся в какой-нибудь чужой стране. На этот раз благовоспитанная девица с улицы Шерш-Миди поднялась до высоты страсти. Напрасные дерзновения: в ответе генерала Гюго, в общем благоразумном, дано было согласие с определенными оговорками. Он совсем не порицал привязанность сына к Адели Фуше: "общественный ранг" супругов Фуше, старых его друзей, он считал вполне достаточным; куда больше его беспокоило то, что ни у жениха, ни у невесты нет никакого состояния. Ах, если б у него были те миллионы реалов, которые обещал ему Жозеф Бонапарт! Но у него ничего не было. "Из сего следует, что прежде чем думать о женитьбе, тебе надо приобрести профессию или получить должность, а я не считаю таковыми литературное поприще, как бы ни были блестящи твои первые на нем шаги. Когда ты выполнишь то или другое условие, я охотно помогу тебе осуществить твое желание, коему я нисколько не противлюсь..." В этом послании было только одно темное облачко: генерал настойчиво говорил о "теперешней своей супруге". Чтобы сохранить его благоволение, необходимо было признать его второй брак, что Виктор Гюго и сделал с большим тактом и обычным своим достоинством.
Наступило лето, а в летнюю пору Фуше обычно уезжали из Парижа. Было решено, что они снимут дом в Жантильи и что Виктор Гюго, теперь уже признанный жених, будет туда приглашен, но для приличия его поместят на голубятне. Госпожа Фуше ждала тогда четвертого ребенка, "поздний плод супружеской любви", и беременность эту переносила тяжело.
Адель – Виктору:
"Если мама подарит нам братца, должна ли я уговаривать ее, чтобы она сама его кормила?.. Мама уже в таком возрасте, что не может одна ухаживать за малюткой, и мне придется пробыть в семье еще года два по меньшей мере. Если ты полагаешь, что я обязана остаться дома на это время, тогда я посоветую маме не отдавать его кормилице... Скажи откровенно, как ты думаешь. Нас всех кормили дома, и я хотела бы, чтобы так было и с этим крошкой... Это во многом зависит от меня. Я хочу, чтобы ты выразил свою волю..."
Что ответил Гюго на этот вопрос, нам неизвестно; вероятно, он не имел никаких возражений против того, чтобы его будущего шурина отдали кормилице.
Адель – Виктору:
"Так, значит, ты приедешь в Жантильи! Какое счастье!.. Буду видеть тебя каждый день, каждый день буду говорить с тобой. Если мы поспорим из-за чего-нибудь, то размолвка наша будет короткой. Когда я выйду утром в сад, а ты будешь у себя на голубятне, мы поздороваемся друг с другом. Но гулять нам вдвоем в саду без мамы нельзя. Так приказано... Придется уважить родителей, они наложили запрет, полагая, что так должно быть..."
Виктор Гюго выразил в ответном письме свою радость, затем вспомнил свою замечательную, мать: "Соединив нас, она-то уж не вздумала бы ставить между нами такие странные и почти что оскорбительные преграды. Уважая нас обоих, она считала бы унизительным для себя стеснять нашу свободу. Наоборот, она пожелала бы, чтобы в возвышенных задушевных беседах мы оба готовились к святой близости в браке... Как было бы мне сладостно наедине с тобой бродить в вечернем сумраке, вдали от всякого шума, под деревьями, среди лужаек. Ведь в такие минуты душе открываются чувства, неведомые большинству людей..."
Несмотря на то что вечера приходилось проводить и кругу семьи, "в постоянном стеснении", он с наслаждением "вкушает счастье в Жантильи", дни покоя, упоения и тайн, когда Адель украдкой навещала жениха на его башне и дозволяла ему сорвать поцелуй с ее уст, обнять ее. Ах, почему двое любящих не могут провести жизнь в объятиях друг друга? Но для того чтобы упрочить счастье Жантильи, надо было преуспеть. И вот Виктор Гюго торопил издание своих "Од" отдельным томом. Сборник был напечатан на средства щедрого Абеля и был доверен для продажи книжной лавке Пелисье, находившейся на площади Пале-Рояль, причем Абель сделал брату деликатный сюрприз, послав ему оттиски корректуры. Томик появился в июне, в зеленовато-серой обложке, тиражом в полторы тысячи экземпляров. Автору причиталось по пятидесяти сантимов с экземпляра, то есть семьсот пятьдесят франков за все издание. Первый экземпляр, как и подобало, он преподнес невесте: "Моей любимой Адели, ангелу, в котором вся моя слава и все мое счастье. – Виктор".
Эта первая книга поэта называлась: "Оды и другие стихотворения". В предисловии подчеркивалась политическая направленность автора. Убедившись, что французскую оду справедливо обвиняют в холодности и однообразии, он поставил своей задачей "привлечь к ней интерес не столько формой, сколько вложенными в нее идеалами... История человечества исполнена поэзии лишь в свете монархических идей и религиозных верований...". Большинство стихотворений, включенных в сборник, были написаны в благонамеренном тоне и посвящены историческим темам. Эти "изящные упражнения старательного и весьма одаренного школьника..." воспевали "Восстановление статуи Генриха IV", "Рождение герцога Бордоского", оплакивали "Смерть герцога Беррийского", и все эти "заказные" стихи недостойны были юноши, который следовал в Италии и в Испании за победоносными орлами Наполеона, видел возвышение и падение императора и еще подростком был свидетелем опал и смертей. Читателей либеральных взглядов возмущали апострофы, прозопопеи и другие риторические фигуры в произведениях юного ультрароялиста, и они не склонны были признавать поэтические достоинства его од.
Роялистская пресса, на которую он рассчитывал, не откликнулась на сборник. Статей было очень мало. Литературная критика занимала тогда весьма скромное место, а Гюго почитал "недостойным всякого уважающего себя человека обыкновение нынешних литераторов выпрашивать у журналистов похвальные отзывы. Я пошлю свою книгу в газеты; они скажут о ней, если сочтут это уместным, но я не буду клянчить у них похвал в виде милостыни...". Ламенне одобрил его: "Мне нравятся ваша прямота, ваша откровенность и ваши высокие чувства – нравятся еще больше, чем ваш талант, хотя и он мне очень нравится... Да Бог мой! Что такое эта суетная шумиха, именуемая славой, известностью, так быстро угасающая в тишине могилы..." Однако ж книга расходилась неплохо, и это ободряло автора, ибо приближало день его свадьбы. Теперь уж Адель сама дерзала навещать одна, без провожатых, своего заболевшего жениха в его парижской мансарде. "Пусть говорят что хотят, мне все равно... В иных случаях я без угрызений совести способна пойти против родительской воли..." Но чтобы принадлежать друг Кругу, они ждали свадьбы.
Адель – Виктору:
"Еще три месяца, и я всегда буду возле тебя... И стоит нам подумать тогда, что мы не сделали ничего недостойного, что мы могли бы раньше быть вместе, но предпочли такому блаженству уважение к самим себе, – мы, конечно, будем от этого сознания еще счастливее..."
Три месяца... Адель осмелилась назначить срок, ведь теперь уже ждали только назначения ежегодного пособия. На это дано было твердое обещание, но чиновники в министерстве все тянули: "Они ведут дело о моем пособии именно как "дело", не подозревая, что речь идет о человеческом счастье..." Очаровательная фраза. Наконец вмешался аббат герцог де Роган, добился поддержки герцогини Беррийской, и 18 июля 1822 года Виктор Гюго мог написать отцу, что все наконец благополучно завершилось: пособие назначено в сумме тысяча двести франков в год из королевской казны. Такую же субсидию обещало ему и министерство внутренних дел. Добавив к гарантированным пособиям ту сумму, которую дадут поэту литературные гонорары, молодые супруги могли просуществовать, тем более что добрые родители предлагали дочери и зятю жить вместе с ними. Генерал Гюго тотчас написал официальное письмо: "Виктор поручил мне просить у вас для него руки той молодой особы, счастье которой он надеется составить и от которой сам ждет счастья..." Господин Фуше ответил любезным письмом. Он хвалил любовь к порядку и серьезность Виктора, радовался, что возобновятся давнишние узы дружбы с генералом Гюго, и выражал сожаление, что не сможет дать за дочерью большого приданого. Она получит "две тысячи франков мебелью, одеждой и деньгами", и молодые супруги будут жить в Тулузском подворье до тех пор, пока не смогут зажить своим домом.
Теперь не хватало только свидетельства о крещении жениха. Увы! Его не было. Генерал плохо помнил те далекие дни, но полагал, что его сына не крестили, если только жена не окрестила младенца без ведома отца, что казалось невероятным при ее вольтерьянстве, которое она всегда выказывала. "У Виктора была религия, но не какая-нибудь определенная религия". Генерал Гюго подсказал выход: "Меня уверяют, что если сделать викарию Сен-Сюльпис заявление, что ты был крещен в чужой стране заботами матери и в отсутствие отца, но тебе неизвестно, где это произошло, то священник вторично окрестит тебя в присутствии крестного отца и крестной матери по твоему выбору... После этого ты немедленно пойдешь к первому причастию, и больше уже не будет никаких препятствий к тому, чтобы тебя обвенчали в церкви..." Неприятное мошенничество. Однако казалось невозможным признаться благочестивым супругам Фуше, что Софи Гюго воздержалась "совершить над сыном таинство, которое делает человека христианином". По совету своего "знаменитого друга", господина де Ламенне, Виктор попросил отца удостоверить, что его сын был крещен в Италии. Генерал удостоверил все, что требовалось, а Ламенне выдал свидетельство об исповеди. 12 октября 1822 года в соборе Сен-Сюльпис было совершено бракосочетание – венчал аббат герцог де Роган. Свидетелями со стороны жениха были Альфред де Виньи и Феликс Бискара, возвратившийся из Нанта и ликовавший, что он вновь встретится с двумя своими любимыми учениками; со стороны невесты свидетелями были ее дядя Жан-Батист Асселин и маркиз Дювидаль де Монферье. Генерал Гюго на свадьбу не приехал.
Свадебный обед устроили в доме Фуше, потом состоялся бал в большом зале военного совета, том самом, где генерал Лагори, крестный отец Виктора, был приговорен к смертной казни. На балу Феликс Бискара, молодой классный наставник с рябоватым лицом, заметил необычайное нервное возбуждение Эжена – он как будто был вне себя и говорил что-то странное. Не привлекая внимания гостей, Бискара предупредил Абеля, и они вдвоем увели несчастного; ночью с ним случился настоящий припадок буйного помешательства. Эжен, юноша угрюмого нрава, считавший себя жертвой преследований, был влюблен в Адель, страдал от давней и жестокой ревности и не мог перенести картину торжества своего брата.
К счастью для молодых супругов, им ничего не сказали в тот вечер о случившейся трагедии. Наконец-то свершилось то, чего они ждали столько лет: они провели ночь под одной кровлей и в объятиях друг друга. Для новобрачного, столь целомудренного в своих поступках и наделенного столь пылким воображением, было упоительным счастьем обладать этой девушкой, которая была в его глазах само олицетворение красоты, и стать одним из сыновей в семье Фуше, жить в этом Тулузском подворье, где год тому назад он видел в окно, как его невеста, с цветами в волосах, танцевала в объятиях другого. Покойная мать, обладавшая сильной волей, учила его, что можно подчинять себе события. Какой путь он прошел за истекший год? В двадцать лет он уже был на пороге славы; его читали и старик король, и молодые люди, министерство назначило ему пособие; поэты уважали его. Упорной борьбой он завоевал свою избранницу, он вновь обрел привязанность отца, всех заставил признать, что его выбор жизненного поприща был верен. После стольких несчастий все это казалось счастливым сном, полным блаженного сумрака и любви, счастливым сном, в котором неким волшебством исполнились мечты ребенка. Но волшебство творил он сам. Ego Hugo [я Гюго (лат.)].
Он заслужил эту ночь счастья. Несомненно, в нем жила могучая сила страсти, но он испытывал также потребность сочетать плотские наслаждения с самыми возвышенными человеческими радостями. "Где истинный брак, – сказал он однажды, – там свет идеала. Над брачным ложем во тьме брезжит заря... Это истинное блаженство. Нет других радостей, кроме этих. Любить, испытать любовь – этого достаточно. Не требуйте больше ничего. Вы не найдете иной жемчужины в темных тайниках жизни..." В те времена, когда он писал эти строки, молодая и столь любимая супруга стала грустной, разочарованной женщиной и хотела быть его женой только по имени. Однако даже в этом обманчивом будущем, когда Адель станет Евой, которую запретный плод не соблазнит, Гюго никогда не забудет, что однажды, давным-давно, они изведали вместе почти сверхчеловеческое счастье. Адель Фуше мало чем отличалась от многих и многих девушек, но именно такая, какой она была наивная, немного упрямая, с художественной жилкой (это доказывают ее рисунки), совсем не глупая, но равнодушная к поэзии, – она помогла рождению поэта. И у него нашлись слова, чтобы сказать, чем он обязан был этим годам тоски и страсти:
О, будь вы молоды, стары, бедны, богаты,
Но коль по вечерам, тревогою объяты,
Не вслушивались вы в легчайший шум шагов,
Коль белый силуэт, мелькнув в аллее спящей,
Вам сердце не пронзал, как метеор слепящий
Пронзает на лету угрюмый тьмы покров;
Коль вам пришлось узнать лишь по стихам влюбленных,
Страданьем, радостью и страстью опаленных,
Блаженство высшее, без меры и границ,
Незримо властвовать над чьим-то сердцем милым
И видеть пред собой, подобные светилам,
Любимые глаза в тени густых ресниц;
Коль и случалось вам под окнами устало
Ждать окончания блистательного бала
И выхода толпы разряженных гостей,
Чтоб в свете фонаря увидеть на мгновенье
Прелестного лица весеннее цветенье
И голубой огонь единственных очей;
Коль не терзались вы ни ревностью, ни мукой,
Узрев в чужих руках вам дорогую руку,
Уста соперника у розовой щеки,
Коль не следили вы с угрюмым напряженьем
За вальса медленным и чувственным круженьем,
Срывающим с цветов душистых лепестки...
Коль вам не довелось тогда в тиши дремотной,
Пока вдали от вас, свежа и беззаботна,
Она вкушает сон – метаться и стонать,
И горько слезы лить, и звать ее часами
В надежде, что она появится пред вами,
И горький свой удел бессильно проклинать.
Коль взоры женщины, вам душу обновляя,
Не открывали врат неведомого рая;
Коль ради той, чьи дни спокойны и легки,
Кто в ваших горестях лишь ищет развлечений,
Не приняли бы вы и смерти и мучений,
Любви не знали вы, не знали вы тоски!
[Виктор Гюго, "О, будь вы молоды..." ("Осенние листья")]
Бросим последний взгляд на молодого человека с высоким лбом, на юношу, исполненного "опасной девственности", с которым мы расстаемся на пороге спальни новобрачных. Этот прекрасный рыцарь, вступающий в жизнь, верит в свои силы. Он ждет славы и нисколько не сомневается, что слава придет к нему, хотя ему только еще двадцать лет и он уже не раз испытывал чувство отчаяния. "Как это называется, – говорит один из персонажей Жана Жироду, когда день встает такой вот, как сегодня, и когда все испорчено, все разграблено, а ты все-таки дышишь воздухом, и когда все потеряно, когда город горит, невиновные убивают друг друга, но и преступные агонизируют при свете занимающегося дня?" И нищий отвечает: "Этому дано прекрасное имя, жена Нарсеса. Это называется зарей..."
Как же называется то время, когда чувства пылают, а сердце исполнено чистотой; когда гений вот-вот вырвется наружу, но никто еще не постиг его; когда человек чувствует себя сильнее всего мира, но еще не может доказать ему свою силу, когда в едва начавшейся жизни уже столько трагических воспоминаний, а сердце поет в груди; когда человек так нетерпелив и то впадает в отчаяние, то преисполнен надежды? У всего этого прекрасное имя, жена Виктора Гюго, – это называется молодостью.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧАС ТОРЖЕСТВА
1. ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
Надо только жить; видеть все как
оно есть, а то и совсем наоборот.
Сент-Бев
"Утром после свадьбы новобрачных не тревожат, оберегая покой упоенных друг другом счастливцев и отчасти их поздний сон..." [Виктор Гюго, "Отверженные"]
У Адели и Виктора Гюго не было этого спокойного пробуждения. Рано утром взволнованный Бискара постучался в дверь их спальни: состояние Эжена было ужасным. Виктор поспешно собрался, последовал за своим другом и "застал своего бедного товарища детских лет в горячечном бреду". Эжен зажег у себя в комнате все свечи, как на свадьбе, и рубил мебель саблей. Целый месяц Адель и Виктор Гюго, Поль Фуше и кузен Требюше, сменяя друг друга, ухаживали за ним. Пришлось уведомить отца, и генерал тотчас совершил путешествие из Блуа в Париж. "Он не приехал порадоваться счастью, он хотел быть участником горя". Виктор и Адель приветливо встретили "дорогого папу", которому они были обязаны своим браком. "Как иней на солнце, исчезла у сына горькая обида в лучах доброты этого превосходного человека..."
Отцу было тяжело слышать безумный бред красавца сына, которого он видел в Корсике и в Италии пухленьким и веселым малышом, потом в Мадриде многообещающим учеником коллежа. Он решил – и это делает ему честь увезти его с собой в Блуа; там к Эжену как будто вернулся на некоторое время рассудок, и он даже написал Виктору, поздравил молодую чету и пожелал ей счастья. Он говорил в этом письме, что отец и "мачеха, госпожа Гюго" очень добры к нему. Увы! Случился новый припадок буйного помешательства, такой серьезный, что больного пришлось отвезти обратно в Париж и поместить в лечебницу доктора Эскироля. Туда нужно было платить по четыреста франков в месяц, такой возможности у семьи не было. Виктор выхлопотал, чтобы его брата поместили за казенный счет в Сен-Морис, к доктору Руайе-Коллару. Врачи находили, что больной неизлечим. Несчастный Эжен стал чем-то вроде живого трупа. Братья редко навещали его.
Эжен Гюго – Виктору, 12 декабря 1823 года:
"Вот я здесь уже семь месяцев, а ты был у меня только один раз, а брат Абель – два раза... Но ведь должно же быть у тебя некоторое желание увидеться со мною, и тебе не трудно было бы удовлетворить его..."
Эти слова – такой трагический упрек.
Ужасная судьба брата была для Виктора Гюго постоянной причиной печали и смутных укоров совести. Уж не он ли, восторжествовав над Эженом и в поэзии, и в любви, довел его до отчаяния? Он не совершил ни преступления, ни греха против несчастного, и все же тема – братья-враги – стала неотвязно преследовать его. Она возникала во всех формах – в драматургии, в поэзии, в романе. Иногда Каин назывался Сатаной, иногда Клодом Фролло в "Соборе Парижской Богоматери", Иовом в "Бургграфах"; иногда он появлялся под своим настоящим именем, как, например, в "Совести" или в "Конце Сатаны". А то, что второй брат носил имя Абель (Авель), быть может, укрепляло эту навязчивую мысль. А ведь сам Виктор не сделал ничего дурного, уж скорее Эжен, мучимый ревностью, играл в отношении его роль Каина. Но всегда Виктор видел в своих кошмарах заживо погребенного, темницу Железной Маски, могилу узников Торквемады. Всегда воображение рисовало ему несчастного, скорчившегося в темноте, под низким сводом. "О, гений! О, безумие! Ужасное соседство".
Он знает о таком соседстве. Всякий мечтатель (а Виктор Гюго любит называть себя Мечтателем) носит в себе воображаемый мир: у одних это грезы, у других – безумие. "Этот сомнамбулизм – свойствен человеку. Некоторое предрасположение ума к безумию, недолгое или частичное, совсем не редкое явление... Это вторжение в царство мрака не лишено опасности. У мечтательности есть жертвы – сумасшедшие. В глубинах души случаются катастрофы. Взрывы рудничного газа... Не забывайте правила: надо, чтобы Мечтатель был сильнее мечты. Иначе ему грозит опасность. Всякая мечта это борьба. Возможное всегда подходит к реальному с каким-то таинственным гневом. Химера может подточить человеческий мозг..." В Викторе Гюго Мечтатель всегда был сильнее мечты. Его спасло то, что он сублимировал в стихах свою тоску и галлюцинации; он прочными корнями врос в реальность; но в Эжене он узнавал того, кем он и сам мог бы стать.
От мрачного огня, горевшего в его душе, ни одна вспышка не вырывается наружу. Все, кто знал Виктора Гюго в первые месяцы его брака, замечали его торжествующий вид, словно у "кавалерийского офицера, захватившего вражеский пост". Это объяснялось сознанием своей силы, порожденным его победами, упоительной радостью обладания своей избранницей, и вдобавок после сближения с отцом у него появилась гордость отцовскими военными подвигами, к которым он, как это ни странно, считал себя причастным. Почитателей, видевших его в первый раз, поражало серьезное выражение его лица и удивляло, с каким достоинством, несколько суровым, принимал их на своей "вышке" этот юноша, проникнутый наивным благородством и одетый в черное сукно.
"Очень любопытно смотреть на эту молодую чету, – говорит Сен-Вальри в письме к Рессегье. – Это любовь двух ангелов, и куда более поэтичная, чем в стихах Томаса Мура..." У молодой госпожи Гюго были темные блестящие волосы, очень красивые, "андалусские" глаза и вдобавок странное сочетание спокойствия и страсти в облике, некий "подавленный порыв чувства, готового вырваться". На первый взгляд в ней не было обаяния; надо было всмотреться в нее, и тогда выступала ее прелесть. Вскоре Адель забеременела, и Виктор Гюго был счастлив своим ранним отцовством. Такой молодой, он уже испытывал желание жить семейной жизнью, быть супругом и отцом. "Как-то сама собой вокруг него возникала патриархальная атмосфера, идиллическая и вместе с тем возвышенная". Теперь ему нужно было зарабатывать на троих – Леопольд Гюго II родился ровно через девять месяцев после свадьбы – 16 июля 1823 года.
Работа, работа, работа – в мансарде над кронами развесистых каштанов на улице Шерш-Миди. Создавались новые оды. Закончен был роман "Ган Исландец" и вручен Персану. Маркиз, ставший издателем, обязался в контракте, заключенном с Гюго, переиздать "Оды" и выпустить роман "Ган Исландец" в количестве тысячи экземпляров. Но из причитающегося ему гонорара Гюго получил только пятьсот франков, так как Персан обанкротился и, не имея возможности уплатить автору, оклеветал его – это дело обычное. Для Гюго началось время познания гнусных сторон литературных нравов. Пришлось еще раз прибегнуть к помощи отца. По счастью, министр внутренних дел назначил ему второе пособие – в две тысячи франков в год, а добряк Фуше пригласил на лето молодое семейство в Жантильи. Но на этот раз Виктора Гюго поместили уже не на готической голубятне, а в комнате Адели.








