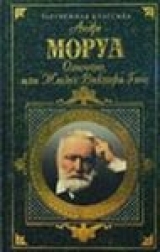
Текст книги "Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
И выдан головой я солнцу, пыли, зною.
Как жду я вечера! И вот уж к трем часам,
Чуть-чуть придя в себя, я отправляюсь к вам.
Супруга вашего нет дома; на лужайке
Резвится детвора, – и я иду к хозяйке.
Прекрасны, как всегда, вы в кресле, и кивком
Вы мне велите сесть; мы наконец вдвоем.
И льется разговор привольный и неспешный.
С вниманьем слушая рассказ мой безутешный
О горькой юности, прошедшей как во сне,
Доверьем платите вы за доверье мне...
Мы говорим о вас и о блаженной доле,
Что вам назначена была по высшей воле:
О малышах, чей смех ваш оглашает дом,
О муже, славою венчанном, обо всем,
Что счастьем вашу жизнь наполнило до края;
Однако же, дары судьбы перечисляя,
Вы завершаете с уныньем свой рассказ,
И скорбь туманит взор прекрасных черных глаз:
"Увы! Сколь взыскана я счастьем! Но не скрою,
Не знаю почему, является порою
Внезапная тоска! И чем вокруг меня
Щедрей сияние безоблачного дня,
Чем беззаботнее живется мне на свете,
Чем ласковее муж, чем веселее дети,
Чем ветерок нежней, чем слаще запах роз,
Тем горше рвется грудь от подступивших слез!"
[Сент-Бев, "Утешения"]
Почему же она плакала? Потому что все женщины любят поплакать; потому что приятно бывает, когда тебя жалеют; потому что брак с гениальным человеком иногда был для нее тягостным; потому что ее знаменитый супруг был могучим и ненасытным любовником; потому что она уже родила четверых детей, и она боялась иметь еще новых детей; потому что она чувствовала себя угнетенной. Сент-Бев не позволял себе ни одного неосторожного слова, всячески восхвалял Гюго и вместе с тем говорил о своем единении с прекрасной собеседницей, ибо их сближает "братство скорбящих душ", и предоставлял ей право потихоньку "привести его к Господу Богу".
Позднее он писал Гортензии Алар: "В свое время я немножко интересовался христианской мифологией; все это улетучилось. Она была для меня чем-то вроде лебедя Леды – способом приблизиться к красавице и предаться с нею нежной любви..."
В 1829 году Сент-Бев был еще далек от такого цинизма. Какие-то нити еще связывали его с верованиями детских лет, и ему нравилось, что его "вновь обращает к Господу" женщина, красота которой его волновала. Они говорили о Боге, о бессмертии, Сент-Бев цитировал святого Августина и Жозефа Делорма: "Я очень хотел бы верить, Господи, я хочу; почему же я не могу?" Адель Гюго гордилась тем, что с ней так серьезно говорит человек, которого в Сенакле считали очень умным. У нее были свои дарования: она талантливо рисовала, недурно писала, а в жизни с властным эгоистом порой бывала несправедливо унижена. Сент-Бев успокаивал ее уязвленную гордость. Время от времени эта добродетельная мать семейства почти бессознательно прибегала к легкому кокетству. Зимой, когда уже нельзя было посидеть в саду, она, случалось, принимала своего друга у себя в спальне. "Равнодушная к материальному миру", она забывала переодеться и оставалась в утреннем пеньюаре. Случалось также, что и по вечерам, когда Гюго не бывало дома, двое покинутых и одиноких сидели допоздна у погасшего камина. "О, эти минуты были самыми прекрасными, самыми светлыми в тогдашней моей жизни. По крайней мере за эти воспоминания мне не приходится краснеть..." [Сент-Бев, "Сладострастие"]
А когда Сент-Бев путешествовал, он писал письма Виктору Гюго и наслаждался тогда счастьем, хорошо известным каждому влюбленному, удовольствием послать через мужа весточку о себе его жене; "Все это относится к вам, дорогой Виктор, и к вашей супруге, которая неотделима от вас в моих мыслях; пожалуйста, передайте, что я о ней очень скучаю и что я напишу ей из Безансона..."
Сент-Бев – Адели Гюго, 16 октября 1829 года.
"Какая, право, сумасбродная мысль пришла мне расстаться без всякой цели с вашим гостеприимным домом, лишиться живительных, бодрящих бесед с Виктором и права посещать вашу семью два раза в день, причем один раз визит предназначался вам. Мне по-прежнему тоскливо, потому что в душе у меня пусто, у меня нет цели в жизни, нет стойкости, нет дела; жизнь моя открыта всем ветрам, и я, как ребенок, ищу вовне то, что может исходить лишь от меня самого; на свете есть только одно устойчивое, прочное – то, к чему я всегда стремлюсь в часы безумной тоски и неотвязных бредовых мыслей: это вы, это Виктор, ваша семья и ваш дом..."
Адель взялась написать ответ, так как у Гюго болели глаза, но он помог ей составить письмо. Он нисколько и не думал ревновать. Сент-Бев был его собственным другом и совсем не соблазнительным мужчиной. Сам Сент-Бев и Адель считали свои отношения вполне целомудренными, но, верно, уж все запутал дьявол в тот день, когда Адель постаралась, чтобы ее друг, придя в дом в три часа дня, увидел, как она причесывается:
Ты встала, волосы рассыпались волной.
"Останьтесь!" – молвил мне негромкий голос твой.
Под нежною рукой блаженно и лениво
Струились волосы, как под дождями нива,
Булатный гребня блеск, тяжелый черный шлем
Младой богинею из эллинских поэм
Ты предо мной была иль нежной Дездемоной,
Иль амазонкою... Тобою ослепленный,
Навек я был пленен...
[Сент-Бев, "Книга любви"]
Опасная игра, даже для порядочной женщины, и, пожалуй, особенно для порядочной. "Волнение передается, смятение чувств заразительно. Каждый ее жест, каждое слово кажется милостью. Приходит мысль, что ее волосы, небрежно уложенные на голове, сегодня-завтра разовьются при малейшем вздохе и волной упадут тебе на лицо; сладострастный аромат исходит от нее, как от цветущего деревца, источающего благоухание..." [Сент-Бев, "Сладострастие"]
Первого января 1830 года Сент-Бев пришел на улицу Нотр-Дам-де-Шан, принес игрушек в подарок детям и прочитал своим друзьям предисловие к сборнику "Утешения". Оно было адресовано Виктору Гюго и посвящено дружбе, являющейся союзом душ пред лицом Бога, ибо всякая иная дружба легковесна, обманчива и скоро иссякает. В этом послании к мужу многие фразы о чистых и благочестивых чувствах обращены были к жене. Два стихотворения, очень интимных по тону и довольно хороших, были посвящены Адели Гюго. Доверчивый человек не увидел в этом ничего опасного, а Сент-Бев искренне думал: "Утешения" были временем моральной чистоты в моей жизни, шесть месяцев я вкушал небесное мимолетное блаженство..." Да, полгода длился этот красивый роман, который Сент-Бев считал столь невинным, что сам над собой умилялся. Ах, если бы рядом с ним с самой юности, как рядом с его другом, была белоснежная красавица, никто не видел бы, как он "без цели и без мысли, не оборачиваясь и головой поникнув, из дома утром выходил" и брел у самых стен, "влача постыдно свой погубленный талант". И никто б не видел, как вечерами он вместе с Мюссе шел в злачные места, в тщетных поисках забвения, пытаясь, и зачастую неудачно, показать себя развратником (он не был в этом большим докой). Нет, никакой ценой он не мог избавиться от чувства горечи и грусти.
Первый день нового, 1830 года – увы! – ознаменовал конец небесного и мимолетного блаженства. В январе чета Гюго жила очень бурно. В Комеди-Франсез уже репетировали "Эрнани", и эти репетиции были долгой борьбой между автором и актерами. Конечно, исполнители ролей знали, что пьесу ждут как событие в литературной жизни; конечно, молодой и красивый драматург казался им необычайно пленительным, "блистающим гениальностью и лучами славы". Но всех актеров пугали непринужденность тона в его драме, буйство страстей и большое количество смертей на сцене. Всемогущая мадемуазель Марс, выказывая на репетициях добросовестность, каждый день старалась, однако, как-нибудь унизить поэта. Гюго, холодный, спокойный, вежливый, суровый, наблюдал за раздраженными выходками богини. Он сдерживал нараставший в душе гнев. Однажды чаша переполнилась, и он попросил мадемуазель Марс возвратить роль доньи Соль. "Сударыня, – сказал он, – вы женщина большого таланта, но есть обстоятельство, о котором вы, по-видимому, не подозреваете, и я считаю необходимым о нем уведомить вас: дело в том, что я тоже человек большого таланта, помните это и соответствующим образом держите себя со мной". В достоинстве молодого писателя было нечто воинственное и внушительное. Мадемуазель Марс покорилась.
Виктор Гюго, поглощенный театральными репетициями, совсем не бывал дома. Он писал друзьям: "Вы знаете, что я обременен, подавлен, перегружен, задыхаюсь. Комеди-Франсез, "Эрнани", репетиции, закулисное соперничество, актеры, актрисы, подвохи газет и полиции, а тут еще мои личные дела, по-прежнему весьма запутанные: вопрос с отцовским наследством все еще не улажен... наших песков в Солони уже полтора года никак не могут продать; дома в Блуа мачеха оспаривает у нас... словом, ничего или почти что ничего нельзя собрать из остатков большого состояния, одни только судебные процессы и огорчения. Вот какова моя жизнь. Где уж тут всецело принадлежать своим друзьям, когда и себе-то самому не принадлежишь..."
Действительно, Гюго, который с гордостью выставлял себя образцовым мужем и отцом, больше не принадлежал своей семье. Нужно было, чтоб драма "Эрнани" любой ценой имела успех, так как судебные тяжбы и хлопоты поглотили все сбережения супругов. Адель, у которой кошелек опустел, всей душой предалась этой спасительной битве, сражаясь рядом с мужем. Провал "Эми Робсар" показал им всю опасность театральных козней, и Гюго твердо решил захватить собственными своими войсками зрительный зал Комеди-Франсез в вечер первого представления. А войск у него было достаточно. Каждый начинающий художник питал честолюбивое стремление выступить на защиту самого крупного поэта Франции от рутинеров, проповедников классицизма. "Разве не было естественным противопоставить дряхлости – молодость, лысым черепам – пышные гривы волос, косности – энтузиазм, прошлому – будущее?" У Жерара де Нерваля, на которого возложили вербовку легионов, карманы полны были квадратиками красной бумаги, на которых стоял таинственный гриф: "Hierro". Это был клич альмогаваров: "Hierro despertata!" ("Шпага, пробудись!")
И теперь уж Сент-Бев, являясь ежедневно в три часа дня с визитом к госпоже Гюго, неизменно находил ее в окружении растрепанных юношей, склонявшихся вместе с ней над планом зрительного зала. Женщины чтут полководцев, и Адель увлеклась сражением, тем более что от исхода битвы зависела слава ее супруга и материальное положение семьи. Ей было только двадцать пять лет; понукаемая молодыми энтузиастами, она словно очнулась внезапно от обычной своей задумчивости. Разумеется, молодое воинство приветливо встречало "верного Ахата", соратника и учителя. "А-а, это вы, Сент-Бев, – говорила Адель. – Здравствуйте, садитесь. А мы, видите, в какой горячке..." Сент-Бева приводило в отчаяние, что ему больше не удается побыть с нею наедине, он ревновал ее к этим красивым юношам, у него зарождалось смутное раздражение против Гюго, который так доверчиво рассчитывал, что Сент-Бев расхвалит в газетах его драму, меж тем как в глубине души критик терпеть не мог ее напыщенности. Вместе с тем он чувствовал, что сам-то он не способен создать такой неистовый поток страстей, как в "Эрнани", и считал это унизительным для себя, да, впрочем, ему и не хотелось быть на это способным, и он вообще был против всей этой затеи. Неудивительно, что он ходил унылый, подавленный, видя, как гнездо, в котором он нашел себе приют, стало "таким шумным и полным всякого мусора. Да что ж это такое! Нельзя больше уединиться тут с любимыми людьми! Ах, как это печально, как печально!..".
Раздражение, которое не могло рассеяться в излияниях души, все усиливалось, и наконец терпение Сент-Бева лопнуло. За несколько дней до премьеры он прислал Виктору Гюго невероятно жесткое письмо, в котором извинялся, что не может написать статью об "Эрнани":
"Сказать по правде, тяжело видеть, что у вас творится с некоторых пор, – жизнь ваша навсегда предоставлена во всеобщее распоряжение, ваш досуг утрачен, ненавистников у вас стало вдвое больше, старые и благородные друзья отходят от вас, их заменяют теперь глупцы или безумцы; чело ваше прорезали морщины, его омрачает тень забот, порожденная не только трудами и высокими думами; видя все это, я могу лишь огорчаться, жалеть о прошлом, поклониться вам на прощание и пойти поискать какой-нибудь уголок, где я мог бы спрятаться. Консул Бонапарт мне был гораздо симпатичнее императора Наполеона.
Теперь я не могу и пяти минут отдать мыслям об "Эрнани" – тотчас всякие унылые думы начинают тесниться в моем мозгу. Да и как не думать, что вы вступаете на путь вечной борьбы, что вы утратите в ней целомудрие своей лирики, что всеми вашими поступками станут руководить соображения тактики, что вы должны будете встречаться с грязными людьми, что вам придется пожимать им руку, я говорю все это не для того, чтобы вы сошли с избранного вами пути, – такие умы, как ваш, непоколебимы, да и должны быть непоколебимыми, ибо ясно сознают свое призвание. Я говорю это ради себя самого – хочу объяснить свое молчание, пока его никто еще не истолковал превратно, хочу сказать о своей беспомощности...
Порвите, предайте все забвению. Пусть это письмо не будет для вас еще одной неприятностью среди вполне понятных неприятностей. Мне нужно было написать вам, так как теперь уж невозможно поговорить с вами наедине, в доме вашем как будто был разгром.
Ваш неизменный и грустный, Сент-Бев.
А как же ваша супруга? Та женщина, чье имя должно было бы звучать под звуки лиры лишь в те минуты, когда ваши песни люди слушали бы, преклонив колени; та самая, на которую теперь ежедневно устремлены чужие кощунственные взгляды; та, которая раздает билеты восьми и даже более десяткам молодых людей, вчера еще едва знакомых ей? Чистая, пленительная близость, бесценный дар дружбы, навсегда осквернена в этой толкучке; понятие "преданность" попрано, превыше всего ценится у вас теперь полезность, и нет ничего для вас важнее материальных расчетов!!!"
Эта приписка сделана поперек письма, на полях, и почерк свидетельствует, что писавший был в ярости. Этот взрыв бешенства по поводу "супруги" походил на сцену ревности со стороны оскорбленного любовника, и как не удивиться, что Виктор Гюго вытерпел ее. Он уже не мог сомневаться, какой характер носит чувство Сент-Бева к Адели. Но он всецело отдался борьбе, и всякая ссора со своей группой ослабила бы его силы. Два былых соратника продолжали работать бок о бок. Сент-Бев рассылал от имени "своего страшно занятого друга" билеты его поклонникам в партер. В день премьеры (15 февраля 1830) он пришел вместе с Гюго за восемь часов до начала спектакля, чтобы наблюдать за тем, как будут впускать в еще не освещенный зал верных людей. Молодой Теофиль Готье, командир целого отряда краснобилетников, явился в своем знаменитом розовом камзоле, в светло-зеленых (цвета морской волны) панталонах и во фраке с черными бархатными отворотами. Он хотел эксцентричностью костюма привести в содрогание "филистимлян". В ложах зрители с ужасом указывали друг другу на удивительные гривы романтиков, а молодые художники, глядя на лысые головы классицистов, торчащие на балконе, кричали: "Лысых долой! На гильотину!" Эти писатели, эти художники, эти скульпторы, образовавшие железный эскадрон, отнюдь не были "гнусным сборищем подонков". Они проникали во все уголки, где мог притаиться зловредный "свистун", они хотели защищать свободное искусство. Их горячность была признаком силы. То было прекрасное время, бурное и полное энтузиазма, время, когда роялисты и либералы, романтики и классицисты еще не дрались друг с другом на баррикадах, а сражались в театре.
Наконец занавес поднялся. Столкновение началось с первых же строф: "За дверью потайной он ждет. Скорей открыть". Тут все коробило одних, а других все восхищало. Если б не страх, который нагоняли "банды Гюго", ропот недовольных превратился бы в шумный протест. Две армии напряженно следили друг за другом. "Из свиты я твоей? Ты прав, властитель мой". Слова эти "стали для огромного племени безволосых предлогом для невыносимого шиканья". Но рыцари, защищавшие "Эрнани", никому не позволяли ни одного жеста, ни одного движения, ни одного звука, не продиктованных восхищением и энтузиазмом. На площади перед Комеди-Франсез, во время антракта, книгоиздатель Мам предложил Гюго пять тысяч франков за право напечатать пьесу. "Да вы же кота в мешке покупаете. Успех может уменьшиться". – "Но он может возрасти. Во втором акте я решил было предложить вам две тысячи франков, в третьем – четыре тысячи; теперь вот предлагаю пять тысяч... Боюсь, что после пятого акта предложу десять тысяч". Виктор Гюго колебался. Мам протянул ему пять банковских билетов по тысяче франков. В тот день дома, на улице Нотр-Дам-де-Шан, было только пятьдесят франков. Гюго взял банкноты.
Когда разразилась буря оваций после финала, "вся публика повернулась и устремила взгляд на восхитительное лицо женщины, еще бледное от тревоги, пережитой утром, и волнений этого вечера; триумф автора отражался на облике его дражайшей половины".
После спектакля сотрудники "Глобуса" собрались в типографии журнала. Среди них были Сент-Бев и Шарль Маньен, которому поручили написать статью. Спорили, восторгались, делали оговорки; к радости триумфа примешивалось некоторое удивление и боязливая мысль: "А в какой мере "Глобус" примет участие в компании? Подтвердит ли он успех пьесы? Ведь с воззрениями, выраженными в ней, он в конечном счете мог согласиться лишь наполовину. Тут были колебания. Я тревожился. И вдруг через весь зал один из самых умных сотрудников журнала, который впоследствии стал министром финансов, то есть не кто иной, как господин Дюшатель, крикнул: "Валяй, Маньен! Кричи: "Восхитительно!" И вот "Глобус" опубликовал бюллетень о победе. Зато "Насьоналъ" выступила враждебно и жаловалась на приятелей автора, "которые не имеют чувства меры, не знают приличий". Пришлось порекомендовать преданным защитникам больше не аплодировать по щекам соседей. Следующие представления были организованы Гюго так же заботливо. Оппозиция проявлялась всегда при одних и тех же стихах. Эмиль Дешан советовал убрать слова: "Старик глупец, ее он любит".
Из дневника Жоанни (исполнителя роли Руи Гомеса): "Неистовые интриги. Вмешиваются в них даже дамы высшего общества... В зале яблоку упасть негде и всегда одинаково шумно. Это радует только кассу..." 5 марта 1830 года: "Зала полна свист раздается все громче; в этом какое-то противоречие. Если пьеса так уж плоха, почему же ходят смотреть ее? А если идут с такой охотой, почему свистят?.."
Из дневника академика Вьенне: "Сплетение невероятностей, глупостей и нелепостей... Вот чем литературная группировка намеревается заменить "Аталию" и "Меропу"... выступая под таинственным покровительством барона Тейлора, которого когда-то назначил ведать этим кавардаком министр Корбьер, со специальной миссией погубить французскую сцену..."
Сборы превысили все ожидания. Пьеса вызволила супругов Гюго из нужды. В ящике Адели скопилось немало тысячефранковых билетов, которые до сих пор редко появлялись в доме. Триумфатор Гюго уже привыкал к поклонению. "Из-за дурного отзыва в статье он приходит в бешенство, – сказал Тюркети. – Себя он как будто считает облеченным высокими полномочиями. Представьте, он так разъярился из-за нескольких неприятных для него слов в статье, напечатанной в "Ла Котидьен", что грозился избить критика палкой. Сент" Бев разразился проклятьями, потрясая каким-то ключом..."
Сент-Бев – Адольфо де Сен-Вальри, 8 марта 1830 года:
"Дорогой Сен-Вальри, нынче вечером уже седьмое представление "Эрнани", и дело становится ясным, раньше тут ясности не было. Три первых представления при поддержке друзей и публики прошли очень хорошо; четвертое представление было бурным, хотя победа осталась за храбрецами; пятое – полухорошо, полуплохо; интриганы вели себя сдержанно, публика была равнодушна, немного насмешничала, но под конец ее захватило. Сборы превосходные, и при маленькой поддержке друзей опасный путь будет благополучно пройден, – вот вам бюллетень. Среди всех этих треволнений Виктор спокоен, устремляет взор в будущее, ищет в настоящем хоть один свободный день, чтобы написать другую драму, – истинный Цезарь или Наполеон, nil actum reputans [не раскаивающийся ни в чем содеянном (лат.)], и так далее. Завтра пьеса будет напечатана; Виктор заключил выгодный договор с книгоиздателем – пятнадцать тысяч франков; три издания по две тысячи экземпляров каждое, и на определенный срок. Мы все изнемогаем, на каждое новое сражение свежих войск не найти, а ведь нужно все время давать бой, как в кампании 1814 года..."
Сент-Бев был честным соратником, а между тем в сердце у него бушевала буря. Он узнал, что супруги Гюго в мае съедут с квартиры и поселятся в единственном доме, построенном на новой улице Жана Гужона. На улице Нотр-Дам-де-Шан хозяин им отказал, испугавшись нашествия косматых, небрежно одетых мазилок-художников, защитников "Эрнани", но граф де Мортемар сдал супругам Гюго третий этаж своего недавно построенного особняка. Средства теперь позволяли ям жить в районе Елисейских Полей. Адель ждала пятого ребенка, и Гюго не прочь был перебраться с нею подальше от Сент-Бева. Пришел конец приятным ежедневным встречам. А впрочем, были ли они по-прежнему возможны? Жозеф Делорм задыхался от смешанного чувства ненависти и восхищения, которые вызывал у него Гюго. Он знал теперь, что любит Адель не как друг, а любит по-настоящему. Некоторые полагают, что он тогда покаялся перед Гюго, и тот предупредил жену; другие считают, что сцена признания произошла позднее. Но, по-видимому, она несомненно произошла: Сент-Бев использовал ее в романе "Сладострастие". Что у Гюго с мая 1830 года появились серьезные основания для горьких чувств, видно из тех стихов, какие он создавал в то время. Однако Сент-Беву, который жил тогда в Руане у своего друга Гуттенгера, он писал не менее ласково, чем прежде: "Если б вы знали, как нам недоставало вас в последнее время, как стало пусто и печально даже в семейном нашем кругу, которым мы обычно ограничиваемся; грустно нам даже среди наших детей, грустно переезжать без вас в этот пустынный город Франциска I. На каждом шагу, каждую минуту нам недостает ваших советов, вашей помощи, ваших забот, а вечерами разговоров с вами, и всегда недостает вашей дружбы! Кончено! Но не вырвать из сердца милой привычки. Надеюсь, у вас впредь не будет дурного желания бросать нас и коварно дезертировать..." Однако в том же месяце мае Гюго писал стихи, полные разочарования, такие непохожие на торжествующие "Восточные мотивы". Перечитывая свои "Письма к невесте", он с печалью вспоминал то время, когда "звезда светила мне, надежда золотая ткала мне дивный сон".
О письма юности, любви живой волненье!
Вновь сердце обожгло былое опьяненье,
Я к вам в слезах приник...
Отрадно мне, забыв о прочном, тихом счастье,
Стать юношею вновь, тревожным, полным страсти,
Поплакать с ним хоть миг...
Когда нам молодость улыбкою отрадной
Блеснет на миг один, о, как мы ловим жадно
Край золотых одежд...
Миг ослепительный! Он молнии короче!
Очнувшись, слезы льем, – в руках одни лишь клочья
Блеснувших нам надежд!
[Виктор Гюго, "О, письма юности..." ("Осенние листья")]
Адель часто плакала, и муж с горечью обращался к ней:
Ты плакала тайком... Ты в грусти безнадежной?
Следит за кем твой взор? Кто он – сей дух мятежный?
Какая тень на сердце вдруг легла?
Ты черной ждешь беды, предчувствием томима?
Иль ожила мечта и пролетела мимо?
Иль это слабость женская была?
[Виктор Гюго. XVII ("Осенние листья")]
А Сент-Бев жил в это время в Руане, у романтического Ульрика Гуттенгера, среди гортензий и рододендронов, и с горделивой нескромностью откровенно рассказывал ему о своей любви к Адели. Исповедник исповедовался, а Гуттенгер, прослывший в лагере романтиков большим знатоком в делах любви, поощрял его преступные замыслы, хотя и называл себя другом Гюго. Пребывание у Гуттенгера было вредным для Сент-Бева; донжуанство заразительно. Возвратившись в Париж, он снова увиделся с четой Гюго, но чувствовал себя у них неловко.
Сент-Бев – Виктору Гюго, 31 мая 1830 года:
"Хочу написать вам, потому что вчера вы были так грустны, таи холодны, так плохо простились, что мне было очень больно; возвратившись домой, я страдал весь вечер, да и ночью тоже; я говорил себе, что, поскольку я не могу видеться с вами постоянно, как прежде, нельзя нам встречаться часто и платить за эти встречи такой ценой. В самом деле, что мы можем теперь сказать друг другу, о чем можем беседовать? Ни о чем, потому что не можем сделать так, чтобы во всем мы были вместе, как прежде... Поверьте, если я не прихожу к вам, то любить вас буду не меньше прежнего – и вас, и вашу супругу..."
Сент-Бев – Виктору Гюго, 5 июля 1830 года:
"Ах, не браните меня, мой дорогой великий друг; сохраните обо мне хотя бы одно воспоминание, живое, как прежде, неизменное, неизгладимое, – я так рассчитываю на это в горьком моем одиночестве. У меня ужасные, дурные мысли, подсказанные ненавистью, завистью, мизантропией; я больше не могу плакать, я все анализирую с тайным коварством и язвительностью. Когда бываешь в таком состоянии, спрячься, постарайся успокоиться; пусть осядет желчь на дно сосуда, – не надо очень его шевелить; не надо делать то, что я сейчас делаю, – каяться перед самим собой и перед таким другом, как вы. Не отвечайте мне, друг мой; не приглашайте прийти к вам – я не могу. Скажите госпоже Гюго, чтобы она пожалела меня и помолилась за меня..."
Что это – искренность или стратегия? Вероятно, и то и другое. Сент-Бев слишком любил и восхищался Гюго, видел, как поэт великодушен по отношению к нему, и не мог так скоро позабыть свою привязанность. Но правда и то, что минутами он ненавидел Гюго, а тогда искал оснований для своей ненависти, и тем больше стремился их найти, чем больше любил. Чтобы утешиться в том, что у него нет могучих сил Гюго, он называл их в своих тайных записных книжках силами "ребяческими и вместе с тем титаническими". Он упрекал Гюго в том, что среди всех греческих стилей в архитектуре тот понимает только стиль "циклопический", и называл его Полифемом, бросающим наугад чудовищные обломки скал. Он заносил в свои заметки, что в "Последнем дне приговоренного к смерти" Гюго "проповедовал милосердие вызывающим тоном". Словом, он считал его тяжеловесным, гнетущим, неким грубым готом, вернувшимся из Испании. "Гюго был молодым царьком варваров. Во времена "Утешений" я попробовал было цивилизовать его, но мало в этом преуспел". В заключение он восклицает: "Фу, Циклоп!" Затем, пытаясь провести параллель между своим соперником и собой, он говорит: "Гюго свойственно величие, а также грубость; Сент-Беву – тонкость, а также смелость". Он мог бы добавить: Гюго – гений, а Сент-Бев – только талант.
4. ОДЫ СЛЕДУЮТ ОДНА ЗА ДРУГОЙ
В конце концов монархия пала,
падут и многие другие монархии.
Шатобриан
Двадцать первого июля 1830 года молодой швейцарец Жюст Оливье, страстный любитель литературы, заручившись рекомендацией Альфреда де Виньи и Сент-Бева, пришел в дом N_9 по улице Жана Гужона и позвонил в дверь на третьем этаже. Служанка сказала ему: "Проходите, пожалуйста, в кабинет барина..." Он увидел там медальоны работы Давида д'Анже, литографии Буланже, изображающие колдунов, призраков, вампиров, и картины резни. Окно кабинета выходило в сад с тенистыми деревьями; вдали виднелся купол Дома Инвалидов. Наконец появился Виктор Гюго. Оливье объяснил, что он тот самый молодой человек, которого направил к нему Сент-Бев. Сперва Гюго как будто ничего об этом и не слышал, но потом сказал: "Совсем из головы вылетело". Они поговорили о Шильонском замке, о Женеве, о старинных домах. Вошла высокая и красивая дама, весьма заметно было, что она беременна, с нею двое детишек, мальчик и девочка, которую поэт назвал "мой котеночек", очаровательная крошка с загорелым и выразительным личиком. То была Леопольдина, она же Дидина, она же Кукла. Посетитель нашел, что Гюго не похож на своем портрете. Волосы у него темные (действительно, волосы стали у него каштановыми) и "как будто влажные", лежат странной волной. Лоб высокий, белый и чистый, но не громадный. Карие живые глаза, выражение лица приветливое и естественное. Сюртук и галстук черные; рубашка и носки – белые. Таким описывает его Оливье.
Вечером Оливье рассказывал у Альфреда де Виньи о своем посещении поэта. Он сказал, что, по его мнению, Гюго тоньше, чем на портрете. "О что вы! язвительным тоном возразил Сент-Бев. – Он растолстел". Потом заговорили об "Эрнани", где актеры, предоставленные самим себе, все меняли по-своему. В монологе Карла V вместо слов: "Так Цезарь с папою – две части Божества" Мишеле говорил: "Народ и Цезарь – две части мира", хотя это ломало ритм стиха. "Что ж, – наивно замечала публика, – так по крайней мере мысль менее нелепа". И все собратья захохотали. Сент-Бев рассказал, как Фирмен ловко исказил реплику Эрнани: "Из свиты я твоей? Ты прав, властитель мой". Вместо этого он говорил: "Из вашей свиты", и как сумасшедший бегал по сцене, потом возвращался на авансцену и свистящим шепотом добавлял: "Я к ней принадлежу". Некоторые строфы опять были освистаны, и Ваше, главарь клакеров, хозяйничавших в Комеди-Франсез, заявлял: "Добавили бы еще человек шесть из левых, и я бы мог спасти эту пьеску!" Словом, чисто парижские шуточки, в которых не щадят ни учителей, ни друзей, – играючи, раздирают их в клочья, как хищные звери, чтобы поточить свои когти.
Выйдя от Виньи вместе с Сент-Бевом, швейцарец захотел проводить его. Он нашел, что это болтливый и желчный человек. "Какое убийственное время! говорил Сент-Бев. – Чтобы забыть о нем, нужны уединение, богатство и развлечения. Покончить с собой не хочется, самоубийство – это нелепость. Но что за жизнь! Я думаю, лучше всего было бы уехать в деревню, ходить по воскресеньям к мессе, спокойно говеть великим постом и праздновать Пасху..." – "Господин Гюго верующий?" – "О, Виктора Гюго такие вопросы не мучают. У него столько больших и таких чистых, таких тонких наслаждений, которые ему доставляет его талант! Все, что он пишет, так прекрасно, так совершенно! И он так плодовит!.. Он доволен и своей семейной жизнью. Он весел, – может быть, чересчур весел! Вот уж счастливый человек..." Заметим, что этот "счастливый человек" только что написал стихи о счастье, полные мрачного смирения и разочарования [Виктор Гюго, "Где же счастье?" ("Осенние листья")]. Но Сент-Бев больше не бывал у четы Гюго; его стул в их доме оставался пустым и еще до конца месяца критик журнала "Глобус" вновь уехал в Руан.








