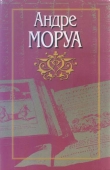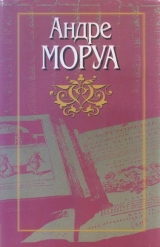
Текст книги "Бернар Кене"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
XVI
На следующее утро протелефонировали Паскалю, что префект хочет его видеть.
Префект Комон, хороший артист в административном деле, большой знаток людей, вот уже несколько дней как был готов предложить свое посредничество; как английские епископы выжидают падения барометра, прежде чем начать молитвы о дожде, так и он поджидал для своего выступления, чтобы гроза произвела свое благотворное действие.
Повышенное настроение поддерживается только переменами, потому-то так и трудна роль вождя. В военное время начальство имеет в своем распоряжении различные развлечения, которыми и пользуется время от времени: ими оно подогревает пыл населения, – выступление новых союзников, небольшие схватки, дипломатические ноты. Реноден тоже старался вовсю, чтобы поддержать свою рать. Сначала было достаточно шествий и пения. «Интернационал» нравился, но затем он наскучил. За неимением другого стали петь «Да здравствуют студенты!.. Мать моя…» и наконец даже «Мадлон». Несколько дней физического отдыха и крупных разговоров успокоили нервы. Пылкое красноречие ораторов, приехавших из Парижа, не понравилось спокойным массам Пон-де-Лера. Рабочие хотели уже опять приняться за свое привычное дело, а хозяева – засесть в свои конторы. Нужно было только соблюсти некоторую видимость.
И вот для этого-то господин префект Лера был действительно незаменим. Долгий опыт показал ему, как благотворны действия серьезного красноречия. Две враждующие группы, думающие, что ненавидят друг друга, становились этим неподражаемым оратором лицом к лицу с общечеловеческой сущностью и должны бывали признать, что и они люди и что нервы их были одинаково чувствительны к одним и тем же интонациям.
Усадив за одним столом подковой – с правой стороны хозяев, с левой рабочих, – он произнес короткую тронную речь. Простой администратор, без технической компетенции, он был далек от того, чтобы коснуться сущности вопроса. Если он и счел своим долгом вступиться, то это только из-за невинных жертв столкновения одинаково уважаемых интересов; матери и дети (живое одобрение со стороны рабочих)скоро подвергнутся ужасам голода… В тот момент, когда наша страна, уже перенесшая столь тяжелые потери (живое одобрение хозяев),нуждается во всех живых силах нации… нет сомнения, что уважение к священным обязанностям возьмет во всех умах без исключения верх над побуждениями к голому насилию (живое общее одобрение).
Однако главный вопрос, вопрос о кочегарах, оставался открытым. Реноден, говоривший раньше «пятнадцать процентов или ничего», очень хотел отступить, но не мог этого сделать. Паскаль Буше, произнесший «quod dixi – dixi», очень хотел согласится на семь или восемь процентов, но не знал, как это сделать, чтобы не быть смешным. Ни тот ни другой из этих вождей не имели привычки к парламентаризму, – для господина префекта Комона это было детской игрой. Эту заработную плату, которую одни хотели получить, а другие не могли на нее согласиться, – он ее дал не давая и отказал в ней не отказывая. Он отказал в ней как в заработной плате и дал ее как премию. Он отказал, не оскорбляя самолюбия рабочих, и дал ее, не подрывая авторитета хозяев. Отказывая, он хвалил пролетарскую умеренность, соглашаясь, он восхищался добрым желанием хозяев.
Правда, проект пропутешествовал несколько раз от хозяев к рабочим и от рабочих к хозяевам, совсем как бюджет, переходящий из палаты в сенат, когда с самого начала этой церемонии всем уже ясно, что после некоторых кривляний обиженной и целомудренной старухи высокое собрание примет «формулу мира».
В маленькой заключительной речи префект поздравил промышленников с их плодотворной великодушной инициативой, а рабочих – с их разумным пониманием своих корпоративных интересов.
И вокруг стола начались объятия, пожимания рук. Весь расплываясь в улыбку, Реноден пожал руку Паскалю и сказал ему:
– Ну, так, стало быть, на мировую?
– Будем друзьями, Цинна, – ответил Паскаль.
На другой день рабочие, счастливые тем, что могли вернуться к обычной своей жизни после этих романтических каникул, радостно приступили к работе.
Соглашение было подписано, они возвращались совершенно примиренные. Их простодушие обезоружило Бернара. Трудно было поверить, что это были те же самые люди, которые накануне вопили перед мертвой фабрикой. Он стал расспрашивать тех из них, кого считал до стачки своими истинными друзьями; они казались ему заслуживающими уважения, и он думал, что и они в свою очередь ему доверяют.
– Ну, скажите вы, Гертемат, зачем вы нас покинули на второй день? Вы ведь достаточно хорошо нас знаете и не могли поверить, чтобы мы принуждали детей работать или рисковали взорвать фабрику.
– Я-то, месье Бернар? Да я ничему этому не верил… Но, по правде, просто не хотелось отставать мне от товарищей.
XVII
В июне 1920 года Франсуаза с нежной настойчивостью попросила своего мужа нанять ей виллу в Довилле [19]19
Довилль(Deauville-sur-Mer – Довилль-сюр-Мер) – приморский климатический курорт во Франции, на берегу пролива Ла-Манш, к юго-западу от Гавра.
[Закрыть]. Ее сестра мадам де Тианж должна была проводить там лето; она ее почти не видела со времени войны; морской воздух будет полезен детям; ей самой была необходима эта перемена воздуха.
Антуан долго не соглашался. Он сможет ездить в Довилль только по воскресеньям; он ненавидел тамошнюю светскую жизнь, никогда еще никто из Кене не переносил свой дом так далеко от священной сени фабричных труб; Ахилл найдет этот проект просто скандальным. Но больше всего Антуан боялся того, чтобы Франсуаза в этой чуждой обстановке не получила бы полного отвращения к жизни в Пон-де-Лере.
– Но для чего в самом деле? – повторял он, очень огорченный. – Детям очень хорошо и в деревне, у них превосходный вид.
– Предположим, что мне этого хочется… Разве этого недостаточно?
Но он был слаб и в конце концов согласился, только так поздно и как-то так неумело, что она даже и не почувствовала, как он хотел ей доставить это удовольствие. Ахилл пожал плечами – на Франсуазу он давно уже махнул рукой. Она уехала в начале июля.
Со времени забастовки на фабрике был проведен режим английской недели, и Антуан обещал приезжать в Довилль каждую субботу в пять часов; у него была новая машина и он сделал в ней столько усовершенствований, что она едва двигалась. В первую субботу он приехал в семь часов, весь покрытый грязью. На яблони, окруженные белыми загородками, на розовую герань падал дождь, упорный и частый.
– Наконец-то ты, – встретила его жена. – Я уже начала беспокоиться. Ты как раз только успеешь переодеться: мы обедаем у Элен.
– Ах нет! – возразил Антуан. – Я совершенно разбит. Я не видал тебя целую неделю. Мне хотелось поиграть с детьми. Протелефонируй ей, что мы не придем.
– Это невозможно: мы испортим ей весь обед. Да ты сам увидишь, – продолжала она, мило его успокаивая и принимая тон матери, утешающей ребенка, – у нее соберется очень забавный народ: Ламбер Леклерк и его жена… он – помощник статс-секретаря по снабжению, она – это Сабина Леклерк, бывшая вместе со мной в пансионе. Меня очень забавляет эта встреча с Сабиной, она прелестна, только несколько зла. Затем там будет Фабер, драматург, написавший «Степь», и тоже со своей женой, и еще молодой музыкант Жан-Филипп Монтель, совершенно изумительный. Он мастер на музыкальные пародии; ты увидишь, это очень забавно.
– Какая гадость! – воскликнул Антуан в ужасе.
Но хорошее настроение Франсуазы было неистощимо; еще с утра она себе повторяла: «Нужно мне быть милой с Антуаном…» Она была счастлива, ей было весело, и за все это она была ему благодарна, и ей хотелось, чтобы он разделил ее удовольствия.
– Я покажу тебе в казино двух восхитительных маленьких испанок, они страшно накрашены, и прекрасную леди Диану Меннерс… сегодня утром в Потиньере были прелестные платья… моими тоже очень любуются, особенно белым с красным. У меня не очень уж вид «из Пон-де-Лера», тебе не придется за меня краснеть.
Антуан слушал ее совершенно сраженный. Самые тайные страхи его оправдывались: он предвидел, что она войдет во вкус этой жизни. Да это так и естественно, она была такая хорошенькая, она должна испытывать опьяняющее удовольствие – быть замеченной среди стольких женщин. Но он-то хотел бы скрыться куда-нибудь с этой ее красотой – в какое-нибудь тайное убежище. Он чувствовал себя недостойным ее сохранить, если нужно было для этого выдерживать сравнение с блестящими мужчинами. Может быть, лучше было бы сказать ей совсем просто обо всем этом, но он был застенчив, и застенчивость эта гнала его к гаражам и мастерским. Видя, что дело его проиграно, он вздохнул и пошел одеваться.
– Бедный мой Антуан! – сказала Франсуаза с некоторым раскаянием. – Я обещаю, что тебе не будет скучно.
Хотя вилла Тианжей была совсем близко, пришлось все-таки взять экипаж, так как Франсуаза была в серебряных туфлях. Антуан был мрачен и молчалив. Ему всегда казалось, что Тианж обращался с ним со снисходительностью, немного презрительной. Но он ошибался, у Мориса Тианжа был уж такой покровительственный голос и он так же не мог его изменить, как и форму своих бровей. Элен была менее красива, чем Франсуаза, но она очень нравилась своим умом, естественным, немного насмешливым, но без всякой злобы. У нее было много друзей в различных кругах; она собирала у себя знаменитостей. Антуан нашел Ламбер-Леклерка высокомерным, Фабера льстивым; молодой музыкант Монтель, которого все называли Жан-Филипп, ему особенно не понравился, и всего более за то, что он сделался (за такое короткое время) другом Франсуазы.
За столом Антуан оказался между мадам Ламбер-Леклерк и мадам Бремон; обе его испугали. Жена министра была молода, умна и довольно резка; другая же была просто толстой, приветливой женщиной, но ее занимало говорить об актерах, которых он вовсе не знал. Он не разжимал рта и только слушал. Быстрота разговора кружила ему голову. Эти люди, казалось, все читали, все видели и знали весь свет. По поводу каждого нового имени, которое случайно попадало в разговор, кто-нибудь из них тотчас же мог рассказать анекдот. Как только умолкал какой-нибудь мужской голос, возникал отчетливый голосок Элен де Тианж и, как челнок, нес по столу нить разговора туда, где надлежало его подхватить. Ламбер-Леклерк говорил об иностранных долгах и рассказывал занятные истории о Мирной конференции. Затем – Антуан не заметил, как это случилось, – на сцене очутился Жан-Филипп с парадоксами о негритянской музыке. Тианж подхватил это и высказался сам о негритянской скульптуре.
– Никто не имеет, – заявил он, – такого чувства трех измерений, как негры.
«Боже мой! – подумал Антуан. – Но почему же это так?» Но в то время, как внимание его отвлеклось этими мыслями, волна разговора приняла уже другое направление. Теперь говорили о художественном вдохновении.
– Сюжет «Степи»? – говорил Фабер. – Это анекдот, который я слышал, когда мне было шестнадцать лет, я медленно питал его всеми дальнейшими впечатлениями. Как общее правило, ничего хорошего не выходит из темы, которая не успела естественно вырасти внутри. Романист черпает из своего детства, из своей юности, редко из зрелого возраста. Роман старости никогда не был написан «изнутри»… Он не имел времени для того, чтобы созреть…
– А музыканты? – сказала Элен, бросая челнок Жану-Филиппу.
– О, тут совсем по-другому! Тема дается вам случаем, самой природой. Помните ли, – обратился он к Франсуазе, – тот мотив из моей оперетки, который я играл вам вчера вечером и он еще вам понравился, – я нашел его на бульваре, проходя перед «Наполитеном». Два блюдца упали и заколыхались на мраморе – тю-лю, тю-лю, тю-лю… А я уже схватил свою тему. Это очень странно.
– А помните, – отозвалась Франсуаза, – Вагнер рассказывает, как ему пришел в голову мотив для рога Тристана как-то вечером в Венеции, когда он услышал крик гондольера? – И она улыбнулась Антуану, как бы извиняясь перед ним.
«И она тоже!» – подумал он.
Она была совсем непохожа на Франсуазу из Пон-де-Лера или из Флёре. Казалось, она распустилась как цветок в благоприятной среде. Антуан хотел бы этому порадоваться, но он был в отчаянии от своего собственного молчания. Ведь это происходило не от недостатка культуры, он много читал, больше, может быть, чем кто-либо из присутствующих мужчин, но у него была привычка думать медленно, в одиночестве. И теперь, когда он стал размышлять о вдохновении, он тоже мог бы кое-что рассказать. Так, например, у Флобера появилась мысль о «Сентиментальном воспитании» во время каких-то похорон… Но разговор шел своим путем: романские соборы, английские поэты, китайские вазы. Когда Антуан снова стал прислушиваться, приготовив как следует и свои, наконец, замечания, было уже поздно – говорили о любви.
– Я думаю, что мы возвращаемся, – сказал Бремон, – к нравам гораздо более простым, более близким к древним. На пляжах мужчины и женщины опять привыкают быть нагими; это делает желание менее острым и менее опасным. Нужно думать, что необыкновенное соединение целомудрия и соблазна, инстинкта и чувства, которое мы называем романтической любовью, не очень-то новая комбинация – ей восемьсот лет и она, может быть, исчезнет очень скоро.
– Это будет жаль, – отозвалась Элен.
– Да нет же, – сказал Жан-Филипп, – это произойдет совсем незаметно. Наши потомки будут находить, что столь же естественно отделять желание от любви, как для нас естественно их соединять.
– Однако это очень приятно, – заметила Франсуаза.
Фабер нагнулся к Элен де Тианж и тихо что-то ей прошептал, она громко засмеялась.
– Вы заставляете меня краснеть, – сказала она.
Жан-Филипп разговаривал с Франсуазой. Антуан был так явно этим рассержен, что Элен взглянула на него с некоторым укором и тщетно попыталась втянуть его в общий разговор. Его молчание и дурное настроение смущали весь стол. Франсуаза это почувствовала, и ей стало за него стыдно.
«Право, – подумала она, – Антуан просто невыносим. Он не проявляет ни малейшего усилия, чтобы сделать мне что-нибудь приятное. Я была очень счастлива эти пять дней, вдали от Пон-де-Лера и от него».
Как только встали из-за стола, она присела вместе с Жаном-Филиппом за фортепиано. Антуан подошел и облокотился на инструмент, не вступая в разговор. Франсуаза встала. Фабер, заметивший эту сцену, пришел к ней на помощь и увлек ее к дивану.
– Мне нужно задать вам один вопрос, – сказал он. – Я очень хочу знать, есть ли такая героиня романа, с которой вы имели бы общие черты, общие склонности?
– Конечно, – отозвалась Франсуаза с оживлением, – Анна Каренина.
– Я так и думал, – сказал Фабер с некоторым состраданием.
Он поговорил с ней еще некоторое время. Как только он удалился, Антуан занял его место.
– Что он тебе говорил?
Она посмотрела на него сердито.
– Он сказал мне про меня саму что-то такое, что меня удивило и испугало.
– Идем отсюда! – сказал Антуан резко.
– Как? Мы только что вышли из-за стола и должны все идти в казино, смотреть пьесу «Времена».
– Я чувствую себя нехорошо; я не могу остаться. Ты слышишь, Франсуаза? Я не могу идти.
Она видела, что он очень взволнован, побоялась сцены на людях и уступила. Их уход очень удивил и огорчил и гостей и хозяев.
Немного спустя Жан-Филипп говорил о них с Элен де Тианж.
– Как муж вашей сестры мало похож на нее!
– Да, не правда ли? Сегодня вечером он был прямо невыносим! Мы никогда не могли понять, почему она захотела за него выйти. Конечно, тут были и семейные затруднения, но она была от него без ума. Правда, что физически он скорее хорош, и в то время он был офицером, а главное, наши семьи были в ссоре, Франсуаза находила такой брак романтическим.
– Увидим ли мы их завтра? – промолвил Жан-Филипп.
– Вы-то оставьте ее в покое, – отвечала Элен, смеясь.
XVIII
Антуан долго оставался в маленькой гостиной их виллы, не смея пройти к Франсаузе в их комнату. В углу была маленькая библиотечка, где он нашел «Происхождение современной Франции». Он прочитал несколько глав или, вернее, перевернул их страницы, чтобы немного успокоиться.
«Эти лестницы в Версале, такие широкие, что восемьдесят дам в платьях панье…»
«Это невозможно, – думал он, – я не могу ее оставить здесь одну: Бог весть кого еще будут принимать Тианжи в это лето! В этой парижской среде чересчур много вольности. Франсуаза благоразумна, она это поймет… Поймет ли? Она уже так изменилась. Ах, почему не хватило у меня достаточно воли, чтобы не пускать ее сюда?»
Наконец, около полуночи он решился пойти к ней и поговорить.
«Может быть, она спит?»
Он желал этого, но она не спала. Она лежала, но оставила свет, и ждала, даже не читая. Лицо ее было заплакано и очень серьезно.
– Ты не устала? – спросил он. – Я могу с тобой поговорить?
Она посмотрела на него прямо, ничего не отвечая. Он продолжал:
– Я много думал. И я полагаю, что ты будешь одного мнения со мной. Тебе неприлично оставаться одной в Довилле. Твоя сестра будет принимать массу народа, холостяков, артистов. Но с ней ее муж, и это хорошо, а ты… Независимо от себя ты все же будешь скомпрометирована… Я буду чересчур страдать. Мы можем легко пересдать нашу виллу на август.
– В уме ли ты? – сказала она холодно.
– Но почему же?
– Ты думаешь, что я вернусь в Пон-де-Лер в августе и лишу себя общества, где мне весело, да, весело… просто из-за того, что ты там не блистаешь и ревнуешь меня? Никогда, слышишь ли, никогда!.. Я тебе сделаю другое предложение, Антуан, я тоже думала целых два часа. С меня довольно, я не хочу больше проводить свою молодость похороненной в деревне и быть связанной с человеком, для которого я значу меньше, чем фабричные трубы и станки! У меня еще несколько лет молодости впереди, я хочу жить. Дай мне свободу; я буду воспитывать своих детей, а ты, ты будешь заниматься твоим сукном, твоей шерстью, раз ничего другого для тебя не существует.
Ссора стала ожесточенной. Франсуаза живописала Кене – ужасно, несправедливо, но верно. Целый поток мельчайших оскорблений вылился с неудержимой силой из этих двух замученных сердец.
«Что я говорю? – думал Антуан. – Что я говорю? И с чего это началось?»
Но он не мог удержать своих слов. Наконец правда ясно предстала перед ними: они ненавидели друг друга, у них ничего больше не было общего. Они замолчали.
Антуан болезненно провел рукою по лбу и сказал:
– У меня чересчур болит голова; я пойду немного пройдусь, мне необходим воздух.
Он вышел; дождя уже не было. Огромное звездное небо покрывало уснувшие виллы. Вероятно, было очень поздно. Одно только казино блестело тысячью огней. Антуан повернулся к нему спиной и пошел прямо к морю. Оно поднималось с медленным нежным волнением. Пляж был совершенно пустынен. Он лег на песок. Вдали, в сторону Гавра, вращался маяк. Он начал считать секунды: «Раз, два, три, четыре, пять – свет… Раз, два, три, четыре, пять – свет». Этот ритм немного его успокоил; затем, когда он растянулся навзничь, ему показалось, что он погружается в звезды. Он начал их перечислять. «Малая Медведица, Полярная… Эта… похожая на стул, я забыл ее название… Как мерцают Плеяды! Как все это прекрасно!» Тишина его успокаивала, также и необъятность неба и моря, их бесстрастие. Будто был перед ним гигантский товарищ, нежный и немой.
– Но посмотрим, – сказал он себе, – что же такое случилось? С чего это началось? Все это настоящее ребячество. Какой-то нелепый сон. Я нежно люблю Франсуазу.
Он вспомнил ее маленькие привычки, ее любовь к цветам и к старинным тканям, прелестное ее выражение, когда она смотрела на детей… «Все, – думал он, – я люблю в ней все, даже ее сторону Паскаль-Буше, как сказал бы Бернар. И больше всего, может быть, именно это. Я благодарен ей, что она другая, чем я… Но тогда сегодня вечером?.. Когда я приехал в семь часов, она была как всегда… Это потом… во время этого обеда».
Он закрыл глаза и стал вспоминать. Шум надвигающейся волны был как ласка.
«Нет, все это гораздо раньше; она отдаляется от меня вот уже два года – и по моей вине. Когда я женился на ней, она восхищалась мной; я являлся для нее силой – во-первых, эти мои рассказы про войну, затем оттого, что я шел наперекор своей семье, чтобы жениться на ней… Вот… Я дал ей надежду на очень большую героическую любовь. Но ничего этого не вышло – из-за Кене. Как только я среди них, на фабрике, сразу я сломлен, бессилен. Перед дедом мужества у меня нет, да и перед Бернаром, когда он говорит со мной известным образом. Некоторые женщины требуют, чтобы им приносили огромный дар; я же мог дать Франсуазе лишь чересчур малое… Я это почувствовал и не посмел с ней об этом говорить, я совсем ушел в чтение, механику… А, однако же, я готов умереть за нее… Да конечно… Нужно…»
Он поднялся и быстро зашагал по песку по направлению к вилле.
«Все это переменится… Но как я мог думать, что фабрика, Ахилл – что это более значительно для меня, нежели небо, море и особенно она?.. Ведь это правда, я был безумен».
Подходя к дому он пустился бегом. Одно освещенное окно было открыто; он увидел склоненную Франсуазу.
– Это ты? – спросила она.
Она была испугана.
Когда он ушел ночью, после этой сцены, ей стали приходить в голову нелепые мысли, возможность самоубийства, смерть, и она также нашла нежного товарища-гиганта, ставящего все по своим местам. Разве она была так уж права? Ведь она могла себя упрекнуть в некотором кокетстве! С этим Жаном-Филиппом всю неделю, до приезда Антуана, она была, конечно, чересчур уж интимна. Она хорошо знала, что еще несколько дней – и он сделался бы очень предприимчив. Да уже вчера, за фортепиано, его руки… В это время Антуан работал в Пон-де-Лере, он работал для нее, для детей. В сущности, она очень его любила. Он научил ее всему, что она теперь сколько-нибудь основательно и серьезно знала. Он был очень добрый, очень простой; если бы она могла только его оторвать от влияния деда, он был бы совсем замечательный. Бедный Антуан! Какое страдание она ему причинила!
Она снова легла; когда он вернулся, он молча стал на колени у ее кровати, взял ее руку и с жаром ее поцеловал. Тогда она немного приподнялась и левой рукой начала тихо ласкать его волосы. Он понял, что был прощен.
– Ты скажешь, чего бы тебе хотелось. Мы будем жить, как ты захочешь.
– Да нет же, – сказала она, – я ничего не хочу. Если это может доставить тебе удовольствие, я завтра же уеду из Довилля.
– Нет! Что за мысль! Наоборот, оставайся на все лето; я буду чаще приезжать. Дед будет на меня кричать… Ну и пускай!
Она улыбнулась.
– Я люблю, когда ты такой; я прошу у тебя только одного: попробуй быть больше моим, чем их.
– Попробую, – сказал Антуан и поцеловал ее. Под розовым шелком рубашки она была теплой и покорной.
Они проснулись на рассвете, так как окно осталось открытым. Погода была чудесная. На горизонте небо и море сливались в серебристом тумане. Ахилл собирался приехать сюда на воскресенье. Сладость негодования притягивала его в эти скандальные места. Антуан сказал Франсуазе: «Если тебе это скучно, я займусь с ним сам. Ты можешь оставаться с твоей сестрой». Она запротестовала: «Нет, нет, нисколько! Наоборот, будет очень забавно видеть Ахилла на Потиньере!»
Он приехал в одиннадцать часов в сопровождении Бернара. Море было серого, грифельно-голубиного цвета, на небе проходили розоватые облака; желтые, коралловые и ярко красные платья резко выделялись на бледном песке. Ахилл отказался сесть. Сзади него чей-то голос весело закричал:
– Месье Кене, к вашим услугам!
Обернувшись, он увидел молодого человека, с грациозно откинутыми назад волосами; рубашка его была очень глубоко открыта и виднелась гладкая грудь. Мысль, что это андрогенное существо пытается показать, что оно его знает, исполнило его сильного гнева. Он бросил в ответ мрачный и удивленный взгляд. Но декольтированное создание не смутилось, так как это был Жан Ванекем.
Он занимал здесь виллу, всю утопающую в герани, там обретался целый гарем машинисток. Оттуда он рассылал по всему свету распоряжения о своих победоносных закупках.
Он назвал себя, и Ахилл с неудовольствием протянул ему палец и ворчливо с ним поздоровался.
– А ну-ка, месье Кене, – очень вольно сказал атлет, – как вы думаете, поднимается ведь?
– Не очень-то на это рассчитывайте, – проворчал Ахилл, – баранья мать не умерла. Все это лопнет скорее, чем вы думаете.
– Вы шутите, – отозвался тот с сожалением. – Я приеду повидаться с вами на днях в Пон-де-Лер. Я хочу предложить вам одно великолепное дело… Бумажная фабрика в Ко-Ко-Ну… Предприятие в центре Африки… Рабочая сила задаром и материал из первобытных лесов… До скорого свидания и мой привет кузену Лекурбу.
Между двумя красивыми девушками, дополняющими одна другую – блондинка в лиловом свитере, брюнетка в желтоватом, – Ванекем удалился, эластично шагая по доскам.
– Что это? – спросила удивленная Франсуаза.
– Это? – отвечал Ахилл с презрением. – Это мой самый большой дебет, который уходит с выпяченной вперед грудью.
Он стоял в своей черной альпаговой куртке, блестевшей на солнце, и саркастически смотрел на играющих в теннис в их белых фланелевых костюмах, на купальщиц в трико, груди которых выделялись под упругой материей, и на все блестящее движение этой ненужной толпы. Франсуаза подумала, что он был похож на старого колдуна, которого все эти безумцы забыли пригласить и который одним жестом обратит их всех в жаб.