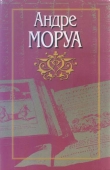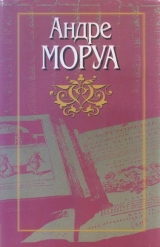
Текст книги "Бернар Кене"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
V
С тех пор как умерла жена, Ахилл обедал каждое воскресенье у внука своего Антуана. Он говорил мало – две или три шутки по адресу Франсуазы, – подсмеиваясь над ее вкусами Паскаль-Буше. После обеда он курил сигару, бросая неприязненные взгляды на те предметы, которые он ненавидел более других: паланкин, выкрашенный в зеленое, модель фрегата, старинный барометр. Нежно-лиловатые полотна Жуи на стенах, блекло-желтые занавески на окнах, казалось, разливали в гостиной какой-то особый, светлый покой.
Антуан читал «Консульство и империю» или поправлял звонки, вентиляторы; он был счастлив лишь с Тьером [6]6
ТьерАдольф (1797–1877) – французский государственный деятель, историк; в 1871–1873 гг. президент Франции. Его попытка разоружить французских рабочих вызвала революцию 18 марта 1871 г. После провозглашения Парижской Коммуны возглавил версальцев; с исключительной жестокостью подавил Коммуну. Как историк – один из создателей теории классовой борьбы (в буржуазном ее понимании), автор «Истории Французской революции».
[Закрыть], Тэном [7]7
ТэнИпполит (1828–1893) – французский литературовед, философ. Родоначальник культурно-исторической школы.
[Закрыть]или Токвилем [8]8
ТоквильАлексис (1805–1859) – французский историк, социолог и политический деятель; лидер консервативной Партии порядка, министр иностранных дел Франции (1849).
[Закрыть], а не то с молотком или отверткой в руках. На фабрике он жил в механической мастерской и придумывал разные остроумные усовершенствования для машин. В присутствии деда он чувствовал себя постоянно стесненным и был начеку. Он поглядывал на него от времени до времени и видел, что старик думал: «Какая гостиная у моего внука и какая жена!» – и молча он немного страдал.
Франсуаза рассеянно брала аккорды, она смотрела на мужчин с грустным недоумением, двухлетний опыт все еще его не рассеял. Угрюмая жизнь Кене ее подавляла. У ее отца, во Флёре, такие вечера проходили почти всегда весело и оживленно; бывали гости, играли, читали вслух, была и музыка. А эти Кене, когда они не на работе, были как разобранные машины. Они ждали момента возвращения на фабрику и оживлялись немного только тогда, когда кто-нибудь из них вдруг вспоминал какую-нибудь забытую подробность: недовольный клиент, больной рабочий, какая-нибудь порча.
«Антуан был совсем другим, когда был женихом, – думала Франсуаза. – Но тогда он был офицером и едва замечал своего деда; он равнодушно смотрел издалека на этот завод, который я ненавижу. У него было время думать обо мне. Он давал мне читать книги, объяснял мне их. Он был нежен и мил».
Она вспомнила их свидания на берегу реки, на полдороге между Пон-де-Лером и Лувье. В те времена она очень гордилась тем, что сближала между собою Монтекки и Капулетти. Антуан подарил ей прелестное издание «Ромео и Джульетты» в лиловом замшевом переплете с посвящением «То Juliet». Она всегда любила этот цвет «парм». Прошло два года и это чудесное время привело ее к таким вечерам как сегодня. Ее пальцы тихо скользили по клавишам, она наигрывала мотив из Шумана.
– «Розы, лилии, солнышко, голуби…» – напел Бернар и улыбнулся ей.
Он поднялся, сел рядом с Ахиллом и рассказал, как приходили к нему старухи чистильщицы.
– В сущности, – заключил он, – конечно, они правы.
– «Они правы», – проворчал Ахилл. – Это легко сказать… На свете все правы.
– Не о всех идет речь, – продолжал Бернар, несколько нервничая. – Если бы вы прибавили этим женщинам по двадцать сантимов в час, земля не перестала бы вращаться.
– Двадцать сантимов в час на каждого рабочего, – ответил Ахилл, – это будет целый миллион к концу года.
– Но я еще раз повторяю, – возразил Бернар, – дело идет ведь не обо всей фабрике.
– Ты не сможешь, однако, – вступил в разговор Антуан, отложив в сторону Тьера, – ты не сможешь прибавить одним и не прибавить другим. Иерархия в ремеслах священна. Штопальщица хочет больше зарабатывать, чем чистильщица, прядильщик больше, чем ткач.
– А почему? – не сдавался Бернар. – У них у всех одинаковые желудки, одинаковые нужды.
– Никаких «почему», – решительно заявил Ахилл, пожимая плечами, – это так.
Пробило девять часов. Старик поднялся. Он никогда ни с кем не прощался. Антуан проводил его до калитки. Бернар остался один со своею невесткой; она повертывалась на подвижном табурете с молодой непринужденностью и смотрела на него, улыбаясь дружески, почти как союзнику. Она мало знала его до войны, но часто виделась с ним с тех пор, как перемирие сделало отпуска более легкими. Она внушала ему довольно любопытное чувство – смесь восхищения, симпатии и боязни. Боязни чего? Он не мог бы этого сказать. Она, казалось, всегда готова была довериться ему; может быть, именно этого-то он и боялся. Он был тверд в своей братской лояльности. Да и что могла бы она доверить ему? Антуан обожал свою жену: это был примерный муж.
– Well, Bernard, how are you getting on? [9]9
Ну, Бернар, как же вы поживаете? ( англ.)
[Закрыть]– спросила она.
Ее воспитывала англичанка и она всегда говорила по-английски со своими сестрами. Этот язык был для нее языком тайным, интимным. Бернар проживший год в Лондоне, тоже охотно говорил по-английски, и это их сближало. Понимал его и Антуан, но уже хуже.
– Да что, – отвечал Бернар, – стараюсь опять привыкнуть к Пон-де-Леру. Не очень-то это весело.
– «Весело»? – воскликнула она с возмущением. – Ах нет, в Пон-де-Лере вовсе не весело! Хотя я отчасти и была к этому подготовлена. Лувье не так далеко и не очень-то от него отличается. Но если вы женитесь на парижанке, я ее пожалею.
– Вам некого будет жалеть, Франсуаза, успокойтесь, я наверное не женюсь.
– Почему вы это знаете?
– А могу ли я на вас положиться, что вы никому не выдадите моей тайны?
– Да никакой тайны и нет, бедный мой Бернар; все ведь здесь знают, что у вас есть какая-то связь. Вас видали в Париже, да и в других местах, с очень хорошенькой женщиной. Но ведь связь не может продолжаться вечно.
– Нет, конечно, ведь я и сам смертен, но это продолжится, пока она того хочет.
– Правда? – спросила Франсуаза, оживленная и счастливая. – Вы ее очень любите? Она красива?
– Что могу я ответить? Я ведь пристрастен. Но, говоря по чести, ни разу с тех пор, как я ее знаю, я не встречал еще женщины, которую можно бы было с нею сравнить, исключая, может быть, вас, Франсуаза… Нет, это вовсе не идиотский комплимент, у вас действительно есть нечто общее. Я даже часто думал о том, что оба брата Кене увлеклись женщинами одного типа. Только у Симоны есть еще что-то… смелое, чего у вас нет. Преобладающее выражение ваше – это покорная нежность.
«Неужели у меня выражение покорной нежности? – спросила сама себя Франсуаза с любопытством. – А я совсем не чувствую себя такой уж покорной! Мне бы хотелось…»
– Но, Бернар, – сказала она вслух, – почему вы не женитесь на ней?
– Прежде всего потому, что она уже замужем. Да и потом… я не верю в брак.
Франсуаза смотрела на него, наклонившись вперед; она уперлась локтем в колено, подбородок покоился на руке. Это было ее обычное положение, когда она задумывалась.
«Пишет ли он ей? Каждый ли день? Кто-нибудь из Кене может ли быть романтичным? Почему я себя сейчас ощутила точно обманутой? Антуан любит только меня. Вся беда в том, что я скучаю…»
– Но я в отчаянии, – продолжала она громко, – я рассчитывала на вас, чтобы получить подругу по гарему. Вы знаете, тут ведь целый заговор, хотят вас женить на вашей кузине Лекурб.
– Ивонне? Но ведь она совсем еще девочка, не правда ли? Уже целые годы я с нею не виделся. Она всегда бывала в пансионе, когда я приезжал в отпуск. Последнее, что я могу вспомнить о ней, это как я ее качал в саду у Лекурбов. Она была очень тяжелая.
– Она уже вовсе не девочка. Ей девятнадцать лет и она замечательная девушка. Она знает много трудных вещей, она бакалавр и готовится к следующей ученой степени. Сейчас она в Оксфорде… Любопытно, не правда ли? Дети Лекурб оба очень способные. Роже ведь тоже отлично занимается.
– Но, – сказал Бернар, – во всяком случае, ведь они наполовину Кене… А какова она? Хорошенькая? Некрасивая?
– Трудно сказать, у нее красивые черты, но она очень крупна. Она очень увлекается спортом и мне думается, что она уж чересчур развивает мускулатуру. Но она так умна, что это меня даже пугает.
– Вот так портрет! – воскликнул он, засмеявшись. – И ее предназначили мне?
Вошел Антуан, руки его были черны от машинного масла.
– Извините меня, – сказал он, – я был в гараже. Автомобиль сегодня очень скверно поднимался на изволок и мне захотелось осмотреть его вместе с Карлом.
– И что же оказалось? – поинтересовался Бернар.
– Да скверно, совсем не в порядке.
Они поговорили немного об этом, и Бернар распрощался.
Еще накануне было решено, что он будет жить у Ахилла.
– Совсем не изменился Бернар, – сказал Антуан, оставшись с женой наедине. – Когда ему было десять лет, он все спрашивал во время одной стачки: «Дедушка, а если я продам мой велосипед, вы сможете им дать то, что они просят?»
– Это очень мило, – ответила Франсуаза. – А что же дедушка?
– Он рассказывал об этом целых десять лет. Только я так и не узнал, гордился ли он Бернаром или презирал его.
– А я все спрашиваю себя, – задумчиво промолвила Франсуаза, начиная раздеваться, – все спрашиваю, понравится ли здесь Бернару после такого долгого отсутствия.
– Да придется таки привыкать, – отозвался Антуан, смотря на нее с некоторым беспокойством.
Прежде чем лечь, он долго поправлял кран для горячей воды в ванне. Франсуаза читала роман и изредка поглядывала на часы.
VI
Благодаря твердости Бернара чистильщицы получили прибавку; за ними последовали штопальщицы. Ткачи, получавшие более высокую заработную плату, что раздражало другие рабочие корпорации, тоже выставили свои требования: ведь важно было сохранить разницу в плате, не нарушать старинную иерархию ремесел.
Повышение заработной платы влекло за собой и повышение цен на ткани. Бернару Кене было поручено съездить в Париж и осведомить об этом клиентов торгового предприятия «Кене и Лекурб».
По старым воспоминаниям это поручение представлялось ему очень страшным. До войны клиенты были как бы какими-то высшими существами, о которых даже и говорили-то с почтительным ужасом; они с такой легкостью предписывали свои жестокие прихоти фабрикантам, разъединенным и всегда жаждущим работы. При малейшем упорстве Кене всегда угрожал Паскаль Буше. Тогда необходима была весьма сложная дипломатия, жертвы и просьбы, чтобы укротить этих свирепых господ.
– Времена теперь изменились, месье Бернар, – сказал ему старый Перрюель, представитель Кене в Париже.
Действительно, Рош из торгового дома «Рош и Лозерон», которого Бернар боялся более всех остальных (он покупал каждый год более трети всего производства Кене), принял его с необычной кротостью, совершенно несвойственной этому раздражительному человеку. Контора Роша была чем-то вроде простого куба из тонких досок: едва меблированная, она стыдливо пряталась за грудами кусков, доходящими до самого потолка. Эта кладовая была выстроена для склада материи, и сукно господствовало здесь над всем.
– Дорогой мой Бернар, – сказал Рош. – Я могу называть вас так, я достаточно был близок с вашим покойным отцом, – дорогой мой Бернар, я с вами не торгуюсь, я никогда не буду с вами торговаться. Но я не могу платить вам за ваши амазонки более пятнадцати франков.
– Наши рабочие требуют прибавки, месье Рош, мы должны всех их удовлетворить.
– Нет, дорогой Бернар, не всех… Никогда не жертвуйте старыми друзьями. Ах, если б ваш бедный отец был еще жив, я уверен, что я получил бы мою тысячу кусков по пятнадцать франков! Я как сейчас вижу вашего отца… В черном своем пальто, с которым он никогда не расставался, он сидел на том самом стуле, где сидите вы… Да, было у него чутье в делах, а это не всякому дано!.. Ну, я проеду повидаться с месье Ахиллом в Пон-де-Лер и мы сговоримся с ним, в этом я не сомневаюсь, так всегда бывало у меня с вашим дедом.
Рош очень удручал Бернара, он живо ощущал его непроницаемость и могущество. Выходя от него, всегда он вздыхал.
Деландр из торгового дома «Деландр и К°» описывал ему диктатуру фабрикантов.
– Я телефонирую к Ляпутр в три часа пополудни и спрашиваю цену на легкую диагональ – отвечают: пятнадцать франков тридцать два сантима. Я жду прихода моего компаньона и спрашиваю его: «Нужно ли ее брать?» – «Да». Я телефонирую опять… Уже пятнадцать франков сорок семь сантимов. Почему? И однако же это так!.. Но самый худший самодержец – это ваш друг Паскаль Буше. Он вас приглашает на двадцать пятое июля к девяти сорока пяти; вас вводят в маленькую контору; ровно в девять сорок пять месье Буше входит. Если вы опоздали, он вас не принимает, если вы аккуратны, он вам говорит: «Месье, я вам предназначил сорок восемь штук по двадцать девять франков. Вот вам связка: у вас четверть часа, чтобы выбрать рисунки». Через четверть часа он возвращается, нужно быть готовым. Вот теперешняя коммерция, вы видите, какой это абсурд!
Месье Перрюель потащил его затем к братьям Кавэ, вывозившим ткани в Алжир и Тунис.
– Цена нам безразлична, месье Кене, но нам нужно тяжелое просмоленное сукно, которое могло бы заменить то, что продавали там австрийцы до войны для арабских бурнусов.
– Мы смогли бы заготовить это, – сказал Бернар, – но сейчас у нас так много работы.
– Вот как! Вы все те же! – возмутился Кавэ. – Я часто говорил это вашему отцу… «У вас умеют только смотреть себе на пуп…»
– Боже мой, месье Кавэ, но, может быть, это действительно было бы самое лучшее… Говорят, мудрецы Индии испытывали при этом созерцании самые большие радости.
Перрюель подтолкнул локтем своего хозяина. Выходя, он его отчитал:
– Месье Бернар, нужно, однако, относиться серьезно к клиентам. Сейчас вы не нуждаетесь в них, но времена могут перемениться. Если мои годы дают мне право на то, чтобы дать вам совет, то я скажу, что не следует вообще много говорить с ними. Всегда ведь говоришь больше чем нужно в делах. Лучший продавец на Place de Paris – это англичанин. Он никогда ничего не говорит, кроме «good morning» и «good bye». Он приходит со своим ящиком – «good morning». Он медленно раскладывает свои образцы перед клиентом. Когда говорят «нет», он складывает их обратно. Когда заказывают, он записывает. Он не спорит, не отстаивает себя. В этом чувствуется сила. Но самое смешное, что он с Монмартра и не знает по-английски. И еще, вы всегда меня просите говорить правду клиентам. Месье Бернар, клиенты не любят правды!..
– Увы, месье Перрюель, никто не любит правды!..
– Клиенты думают, что они все прекрасно понимают и сами, нужно не мешать этой иллюзии.
Он потянул его за собой в самые благородные магазины. Площадь Победы, улица Этьен Марсель, улица Реомюр, улица Вивьен окаймляли старый город суконной аристократии.
Там властвовали благородные купцы и мощные их сыновья: на дубовых потолках Бернар хотел бы нарисовать Учтивость и Дружбу, исторгающие улыбку у Коммерции. Весь день он исследовал этот суконный городок и только к вечеру вспомнил, что обещал своему дяде Лекурбу повидаться с Жаном Ванекемом.
Конторы этого великого человека были отделаны в стиле Директории. Через приоткрытую дверь видны были другие отделения – белокурые машинистки, все очень хорошенькие, счетные машины, блестевшие красным и черным лаком.
Сам Ванекем, очень молодой человек, с зачесанными назад волосами, обладал чисто американской живостью; он принял этого провинциала Кене любезно, но с некоторой дозой высокомерия.
– Вы извините меня на одну минуту? – сказал он. – Это как раз час собрания моих заведующих.
Он быстро завертел ручку маленького внутреннего телефона и кратко отдал распоряжения.
– Месье Перрен, на собрание… Месье Дюран, на собрание… Месье Шикар, на собрание… Месье Мейер, на собрание…
Через все три двери в контору стекались люди в черных жакетах, они ни в чем не перечили и были великолепны.
– Статистика А, – продолжал Ванекем, – Венгрия?
– Две тысячи метров, месье.
– Англия?
– Пять тысяч метров, месье.
– Румыния?.. Видите ли, – сказал он Бернару, – я знаю каждый день точно, что у меня продано и что у меня остается в различных странах на рынке, а также итог моих обязательств перед фабрикантами. Все математически точно.
«Да, – подумал Бернар с восхищением, – вот настоящий человек дела. Может быть, и я полюбил бы все это, если бы не приходилось возиться в этой убогой конторе в Пон-де-Лере, где Демар и Кантэр ссорятся из-за английского ключа».
– Кто занимается Банатом? – спросил Ванекем.
Когда хор статистов покинул сцену, Бернар робко изложил просьбу Лекурба. Ванекем улыбнулся.
– Помочь вам найти капиталы, чтобы оборудовать красильный завод? Да это детские игрушки, милый мой!.. Сколько вам нужно? Два миллиона?… Вот это уже потруднее… Вы сами понимаете, что капитал в два миллиона не может интересовать банки… Попросите у меня десять, двадцать, тридцать миллионов, и они будут у вас завтра… Но два!.. Однако я все-таки посмотрю, как это устроить… Не хотите ли со мной пообедать, месье Кене? Мы тогда еще поговорим о вашем деле; у меня будет только мой друг, Лилиан Фонтэн, актриса еще малоизвестная, но с большим талантом.
– Да, я ее знаю! – сказал Бернар. – Она приезжала к нам и играла в «Эрнани». Я приду с удовольствием.
VII
Мадемуазель Лилиан Фонтэн зачесывала волосы совершенно гладко назад, у нее были прекрасные черные глаза, немного худая шея; лимонно-желтый платок узлом обвязывал ее правую кисть. Бернар сказал, что любовался ею, когда она играла донну Соль во время турне в Пон-де-Лере.
– Пон-де-Лер?… Помню отлично! Гостиница «Серебряного Козленка»? И как же там грязно!.. И эта публика – старые дамы в косынках из настоящего кружева, с медальонами, в лиловых платьях и в таких потешных шляпках!.. А в райке рабочие покатывались от хохота.
– Все это верно, – заметил Бернар, – публика в Пон-де-Лере малоромантична… Но вас она находила очаровательной… Это смеялись над вашим партнером.
– А кто ж это был? Ах да, Понруа… этот старик, что раньше был в «Одеоне». Правда, что он играет смешно и фальшиво… Он очень несносный… представляете себе, как это трудно сочетать: «Вы мой лев прекрасный и великодушный!» – и: «Как бы я хотел, чтобы ты не плевал мне в лицо!..» Этот Понруа из актеров прежнего типа, они так медленно играют и так отчаянно растягивают каждую фразу. Прямо ужасно! Я играла с ним в «Сиде», он был доном Диего, так он час оставлял меня у своих ног; я не знала, что мне и делать.
Бернар любил эту актерскую болтовню. Когда он слушал ее, ему казалось, что шум станков, гудевший еще в его голове, переходил в глухие звуки придушенных скрипок. Ахилл, молчаливый и грубый, Лекурб, торжественный и педантичный, Кантэр и Демар – одновременно враги и братья, – все эти лица, которые так ярко выступали в его меланхолических думах, стушевывались и становились отдаленными фигурами каких-нибудь сцен из провинциальной жизни.
– А, кого я вижу! – сказала мадемуазель Фонтэн. – Это Сорель… А там, в углу, испанская инфанта со своими двумя старыми дамами… И Сюзанна Карюель со своим греком.
Бернар осмотрелся кругом. За правым столом две пары говорили очень громко, стараясь поразить чем-то друг друга. За левым двое мужчин обделывали какое-то дельце: «Послушайте меня, дорогой мой, венгерская крона стоит три сантима. За десять миллионов крон я могу получить концессию на игорный дом у Плаггенского озера. Туда можно притянуть…»
– А наше дело? – обратился Ванекем к Бернару. – Я подумал о нем. В сущности, нет никакой причины ограничивать капитал только двумя миллионами.
– Дело в том, – отозвался Бернар, – что в нашем распоряжении и совсем нет денег… Шерсть так дорога…
– Как? – удивленно возразил Ванекем. – Вы собирались вложить ваши собственные деньги? Никогда не делайте этого, дорогой мой… Создайте небольшое общество с капиталом в шесть миллионов, из них на три миллиона акций вы поделите со мной; публика подпишется на остальное… Знаете ли, когда я создавал свое дело по ввозу кокосовых орехов, я устроил капитал в десять миллионов, а у меня не было ни кораблей, ни плантаций… И все очень хорошо прошло.
Бернар в задумчивости восхищался этим поэтическим гением Ванекема, из призрачных плантаций и химерических кокосовых рощ умевшего создавать ожерелья для прелестной шеи мадемуазель Фонтэн. Оркестр заиграл «Реликарио», между столами задвигались пары – щека к щеке. Очень красивая женщина в легком головокружении задела стеклярусной бахромой своего волнующегося платья хрустальный стакан; он издал слабый звон. В монотонном ритме скрипок Бернара преследовал шум отдаленных станков, и это было подобно какому-то грустному призыву. Музыка всегда печалила его, в ней он остро ощущал течение времени. Унылый цинизм существ его окружающих возмущал врожденный его пуританизм, свойственный всем Кене.
Ванекем был знаком с двумя мужчинами слева, он наклонился к ним, и у них завязался какой-то профессиональный разговор. Бернар повернулся – перед ним было снова прелестное личико мадемуазель Фонтэн.
– Не находите ли вы, – сказал он ей, – что музыка, даже и самая вульгарная, вдохновляет к одиночеству?… Как искусственна наша жизнь! Разве вам не хотелось бы жить на каком-нибудь далеком острове, Фиджи или Таити, где машины были бы неизвестны, деньги не имели бы своего могущества, но где счастливые нагие дикари танцевали бы в восхитительном тропическом климате?
– «Дитя мое, сестра моя, подумай о прелести жить так далеко вместе…» Так это тоже поется.
– Вы смеетесь надо мной? Всякий раз, как мне случается быть, как сейчас, среди элегантных женщин, среди граненого света, среди мужчин, чересчур хорошо откормленных, я тотчас же начинаю испытывать то горькое, что исходит от удовольствий… Я видел слишком много несчастных.
– Вы большевик? – спросила она.
– Ах нет! – энергично запротестовал Бернар. – Во мне лояльность класса ярко выражена; мой идеал – это римский сенат, когда он только что зарождался, или еще кое-кто из английских консерваторов, у которых очень сильно развито чувство долга… Но я становлюсь смешон и надоедаю вам.
– О нет, – возразила она, – но только одно действительно существует для меня – это театр. Остальное же все…
В это мгновение прекрасные черные глаза мадемуазель Фонтэн оживились.
– Посмотрите на этого молодого человека, что сейчас входит, – сказала она Бернару, – не правда ли, как он красив? Совсем херувим! Я хотела бы, чтобы он играл со мной в «Свадьбе» во время турне этим летом. Но он и слышать об этом не хочет. Его мечта – это «Полиэвкт». Можно лопнуть со смеху.
– Не хотите ли сигару? – предложил Ванекем. – Представьте себе, что я нашел на американских рынках…