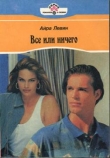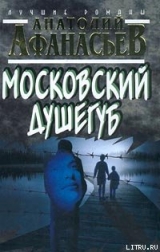
Текст книги "Московский душегуб"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
– Вот, к примеру, – сказал Фомкин, – старикан позвонит, вы кинете мне пистолетик, но второй-то останется у вас. Что он подумает? Не оробеет?
– Он привык. Я всегда его так встречаю.
– Ну да, это ясно, – глубокомысленно заметил Фомкин.
– Не умничай! Слышишь?
За дверью явственно зарокотал лифт. Фомкин понимал: жить ему оставалось минуты две. Это немного, но и немало. Не хватит, чтобы исправить ошибки грешной молодости, но вполне достаточно, чтобы собраться с духом.
– Вы мне нравитесь, Маша, – сказал он искренне. – У вас хватка железная.
– Ты тоже мне по душе, голубок. Гляди, не замешкайся.
Лифт поднялся, с тягучим скрипом разошлись створки. Маша шагнула к двери. Швырнула ему пистолет, как кость собаке, потянулась к ценочке, щелкнула замком, дернула дверь на себя. И тут же крутнулась вбок, перенося ствол парабеллума в сторону вешалки.
Фомкин тоже не зевал, как она и советовала. Пистолетик ловить не стал, вырвал из нагрудного кармана блестящий стержень авторучки с кнопочным спуском.
Гулкий хлопок парабеллума и сухой свист оперенной металлической стрелки прозвучали одновременно. Пуля царапнула ухо упавшего на колени Фомкина, зато стрелка вонзилась удивленной Маше в лоб. В обморочном забытьи она попыталась еще разок пульнуть в скрывшуюся вдруг из глаз мишень, но паркет уже катился ей навстречу и тяжесть сердца стала невыносимой. Густая челка прыгнула на щеку, и колени подогнулись к животу, точно она готовилась совершить акробатический кульбит.
– Сволочь, – прошептала синими губами. – Какая же ты сволочь, гинеколог! – и больше уже ничего не видела, не слышала и не понимала.
* * *
Когда первая из трех машин – эскорт Благовестова – только сунулась в переулок, из тупичка, как из леса, вышел капитан Треух в обнимку с Людмилой Васильевной. Парочка была на загляденье. Высокий, поджарый плейбой, наряженный, как павяин, и его изящная спутница в платье от Кардена, прильнувшая к мужчине, точно гибкая лоза к могучему дубу. За версту было видно, что невменяемая парочка выползла откуда-то с большого бодуна и скорее всего направляется к какому-то следующему бодуну. Благовестов, сидящий во второй машине, залюбовался живописной картинкой и даже немного позавидовал. "Ишь ты! – подумал с досадой. – Переплелись как, мерзавцы! Никакого стыда нет.
Поучить бы говнюков, чтобы не шатались, где не положено".
Но эта мысль была скучной, как и все предвечерние мысли. Ему хотелось поскорее лечь в постель, выпить стакан вина и попросить Машу, чтобы растерла поясницу. О Маше он думал с приятностью: пожалуй, со временем она в чем-то и заменит несравненную Ираидку.
Но, конечно, далеко не во всем.
Когда он скрылся за дверью подъезда, предупредительно распахнутой перед ним нукерами, гулящая парочка – капитан Треух и Людмила Васильевна – как раз приблизились к дому. Пока что резервная схема, разработанная Башлыковым, выполнялась с точностью до секунды. Расклад был такой. Пятеро охранников Благовестова сгруппировались у подъезда, остальные – восемь человек – сидели в машинах. Один из снайперов следил за улицей с крыши противоположного дома, и еще двое стояли в распахнутом окне квартиры на третьем этаже, держа наизготовку армейские карабины.
Сколько еще головорезов затаилось во дворике и прилегающих сквериках, определить было трудно, но по прикидке Башлыкова обычно не больше шести-семи человек. В общем, народу хватало на небольшую уличную бойню, которой так хотелось майору избежать, да вот, видно, не удастся.
Капитан Треух, еще раз споткнувшись и чуть не повалив на землю свою милую, тоже, судя по походке, в дупель пьяную подружку, был плотно взят в кольцо ухмыляющимися дозорными. Времени на ориентировку и выбор чуть-чуть более удобной позиции у него не оставалось. Впрочем, и эта была хороша.
– Заблудились, детки? – гоготнул один из окруживших. – Может, проводить?
К сожалению, это были последние слова, которые он произнес на белом свете. Из-под полы куртки Треух деловито извлек автомат "узи" и, оттолкнув Людмилу Васильевну, двумя плавными очередями, крутнувшись на каблуках, веером обвалил всех пятерых на землю. На секунду мертвая тишина установилась на улице.
Только один из боевиков, не доглотав смерти, попытался открыть ответную стрельбу из положения лежа, но Треух его опередил добавочным одиночным выстрелом, размозжившим ему челюсть. Умирая, он пытался выплюнуть залетевшего в глотку стального шмеля. Целую вечность Треух не мог почему-то оторваться от потухающего укоризненного мальчишеского взгляда, затем в два прыжка достиг подъезда, где ухватистая Людмила Васильевна придерживала открытую дверь. Ворвавшись внутрь и ослепнув со свету. Треух начал палить наугад, густо поливая свинцом пространство перед лифтом и прихватывая ведущую вверх лестницу; но Митек, который показался недавно Фомкину неуклюжим и чересчур осанистым, его перехитрил. Услышав шум на улице, он ринулся вниз и укрылся за каменной стойкой, отгораживающей спуск в подвал. Теперь он оказался сбоку и чуть сзади Треуха, намертво вцепившегося в изрыгающий погибель автомат. Спокойно подняв свой кольт, Митек два раза подряд выстрелил ему в голову. Первая пуля разворотила капитану затылок, произведя там необратимые разрушения, а вторая, по странной прихоти траектории полета, лишь спилила верхнюю губу и разнесла вдребезги мраморную скобу над почтовыми ящиками. Остаток жизни Треух истратил грамотно. Падая, ломаясь в коленях, он развернулся и опоясал обидчика свинцовой лентой. Потом автомат вырвался из его рук и зацокал по каменному полу в нервической чечетке. Митек опустился рядом, сначала на карачки, а после прижавшись к Треуху спиной, как к доброму товарищу. Их непритязательные души взмыли в небеса грустной парочкой, недоумевая оттого, что так быстро кончилась для них вся эта заваруха.
Башлыков, пристроив винтовку на угловой кирпич, аккуратно снял в открытом окне противоположного дома двух снайперов, которые так и не успели поймать в прицел расторопного Треуха. И сразу в переулок, как горох из прохудившегося мешка, посыпались бойцы Башлыкова. В мгновение ока мирный переулок превратился в поле боя, покрылся множеством раненых, стонущих, дерущихся, стреляющих людей. У нападающих было колоссальное преимущество – их здесь никто не ждал в таком количестве. Но все равно Елизарова команда защищалась вдохновенно. Никто не хотел умирать, не задав напоследок острастки врагу. Дюжий детина по кличке Вепрь с громкими проклятьями вымахнул из-за серой "вольво" на середину мостовой и с какой-то сверхъестественной сосредоточенностью скосил из ручного пулемета всю левую сторону улицы, не разбирая, кто ложится под его пули. Осатанев, с разбитой грудью, он вдруг саданул заглохший пулемет о стену дома и, не пригибаясь, не прячась, проревел:
– Выходи, суки, падлы! Выходи, кто не ссыт!
Его вызов принял молоденький сержант, ближайший дружок Коли Фомкина. Он поднялся из-за мусорного бака, за которым укрывался, и пошел навстречу громиле. Стрельба прекратилась, и вся улица онемела, наблюдая за странным поединком. Даже тот, кто умирал от ран и думал уже о чем-то постороннем, с любопытством навострил мутнеющий взгляд. Сержант был мал ростом, но ловок и чрезвычайно самолюбив. Самолюбие иногда делало его невменяемым, и как-то на тренировке, в коварном клинче он чуть не сломал руку Фомкину, хотя тот подал знак, что сдается. Вепрь был свиреп, огромен и неуправляем, а в последние полгода, после того как кто-то увел у него невесту, даже самая отпетая братва чуралась его компании. Сломать хребет собутыльнику, заподозрив его в коварстве, было для него то же самое, что для мирного обывателя сходить за уголок. Он возбужденно вглядывался в приближающегося маленького, верткого человечка, потому что догадывался, что это, возможно, последняя жертва, с которой он может посчитаться за все горькие обиды, нанесенные не праведной судьбой. У Вепря в груди застряли две пули, и обе обосновались близ сердца. Сержант заметил его плачевное состояние:
– Ты же и так подыхаешь, – заметил сочувственно. – Зачем безумствовать. Ляг, отдохни.
С хриплым стоном Вепрь кинулся на наглеца, норовя захватить клешнями и раздавить, как ракушку. Но тот отклонился, нырнул ему под руку и без всякого труда впихнул десантный тесак под ребро. Это было не совсем по правилам, Вепрь был безоружен, но Фомкин учил, что озверевшего бандита, когда он оказывает сопротивление, надобно давить без пощады, как волка, всеми возможными способами. Вепрь скорбно вздохнул, ощутив в кишках железо, и, убывая в неизвестность, успел вцепиться пальцами в запястье сержанта и переломил его, точно сухую палочку.
Башлыков воспользовался затишьем, чтобы добраться до подъезда и нырнуть в него невредимым.
Он уже прикинул в уме утраты, которые принес этот налет, и был слегка озадачен. В подъезде наткнулся на Людмилу Васильевну, которая сидела на корточках, прислонясь к батарее, возле поверженного капитана Треуха.
Она плакала, но лицо ее было безмятежно.
– И этот туда же, – огорчился Башлыков, – Уж на него-то я рассчитывал. Какая-то шайка дезертиров.
– Хочу домой, – сказала Людмила Васильевна. – Ты не предупредил, что это так страшно.
– На улицу не вылезай. Так и сиди здесь.
Башлыков нажал кнопку лифта, и когда тот загудел, осторожно начал подниматься по лестнице…
* * *
Дверь была наполовину распахнута, но никто в квартиру не входил. Фомкин ждал. Он слышал: снаружи кто-то сипло дышит. Нагнувшись, нашарил на полу дамский пистолетик. Беспорядочная пальба на улице его обнадежила. Он снял с вешалки овчинный тулуп и выставил за дверь. Раздалось чавканье, будто лягушки заквакали, тулуп задергался у него в руках и, как живой, опустился на пол. Таким беспомощным Коля себя никогда не чувствовал, сколько не жил. Что лучше: стоять истуканом или проскочить в комнаты? Задачка элементарная, но он не мог ее решить. Крохотная пукалка в руке – это кур смешить. До парабеллума не дотянуться.
Завороженный, он проследил, как из-за двери вкатилась круглая пехотная мина, покрутилась волчком и улеглась Маше под бочок, плоская, как блин. Вот оно и решение. Фомкин в два прыжка перемахнул коридор, но возле ванной его догнали взрыв и осколки.
* * *
Этот взрыв, отвлекший внимание, позволил Башлыкову с лестничного перехода спокойно, почти в упор расстрелять двоих рослых башибузуков, но лысый старичок проворно юркнул в дверь, прямо в дым и грохот, и Башлыков еле успел сунуть ногу в щель, не дав ей захлопнуться.
– Входи, – пригласил Елизар Суренович, более не прячась. Он неловко перешагнул дымящееся, скользко-багровое месиво, бывшее недавно голой Машей Копейщиковой, и направился в глубь квартиры. Башлыков потянулся следом, бросив мимолетный взгляд на Колю Фомкина, который был неподвижен, но как бы имитировал движение, загребая пол вытянутой левой рукой.
"Ладно!" – сказал себе Башлыков.
Елизар Суренович уже сидел в кресле в расслабленной позе.
– Чего-то притомился к вечеру, – пожаловался Башлыкову и вдруг встрепенулся, узнавая.
– Ах, да это ты, землячок? Ну что, больше не работаешь электриком?
– Нет, теперь я ассенизатор. Помои разгребаю.
– Самогонцу не прихватил?
Башлыков медлил с выстрелом, и это было зря. Каждая секунда сейчас работала против него. Но так дивно, счастливо светилось лицо могучего старца, что он не чувствовал охоты нажать курок.
– Назови цену, – сказал Благовестов. – Миллион?
Десять миллионов? Валюта в сейфе. Взамен только одно: кто тебя послал? Алешка? Грум?
– Отечество, – ответил Башлыков, – которое ты разорил.
– Эка вспомнил не к месту. Не спеши, подумай, земляк. Предлагаю хорошие деньги. Они тебе заменят отечество. Сплошной зеленый цвет, как весна.
Башлыков выстрелил. Пуля вошла Елизару Суреновичу в сердце. Он грустно склонил голову на грудь и закрыл глаза. Ему было хорошо. Сознание больше не цеплялось за бренную оболочку и качнуло его под розовые облака, на поляну цветущих магнолий. Там он уселся на поваленное дерево, и множество милых девушек и прелестных юношей с венками на головах расступились перед ним…
Башлыков поднял Колю Фомкина на руки и внес в лифт. Коля не подавал признаков жизни, но на мертвого был не похож. У него было такое выражение лица, будто он собирается что-то сказать. Может быть, объяснить каким-то лихим словцом все накладки операции.
Внизу Людмила Васильевна помогла Башлыкову нести озорника: полумертвый Фомкин был необыкновенно длинен и тяжел.
– По-моему, притворяется, – с сомнением сказал Башлыков. – Ему так выгоднее.
– Сегодня я наконец узнала, кто ты такой.
– Ну и кто же я?
– Безжалостный убийца, вот кто!
– Ошибаешься, Люда. Это война. Меня тоже на ней когда-нибудь убьют.
Он выглянул на улицу. Его люди одержали полную победу: догорающие иномарки, скорченные в утихшей боли трупы. К подъезду подкатил джип, и молчаливые пехотинцы загрузили туда Фомкина, который вдруг открыл один глаз и подмигнул Башлыкову.
– Все по машинам, уходим, – приказал майор.
Людмилу Васильевну он за руку отвел к "жигуленку", оставленному в тупичке. Когда свернули на кольцо, обратился к ней с командирским напутствием:
– С крещением тебя, солдат. Хорошо поработала.
Я доволен.
– Зачем все это, Гриша? Ведь придется отвечать.
– Отправлю тебя в санаторий на недельку. Нервишки подлечишь.
– Ты не ответил. Зачем весь этот ужас?
Башлыков на нее не сердился, он жалел бедняжку.
– Хватит! – цыкнул он. – Разболталась некстати.
Делай, что прикажут. Отвечать не тебе.
– Не хочу любить убийцу.
– Не хочешь, высаживайся. Вон метро, – Башлыков притормозил, но Людмила Васильевна виновато коснулась его плеча:
– Куда же я теперь высажусь, Гриша? Поехали лучше домой.
– Тогда не обзывайся убийцей.
– Хорошо, милый. Буду называть тебя цыпленочком.
* * *
…Милиция в этот день работала отменно, и на место погрома прибыла через сорок минут…
Глава 22
Алеша Михайлов узнал о побоище из утренней программы «Вести». Сообщение было коротким. Красивая дикторша с блудливо-загадочным лицом радостно объявила, что накануне вечером на Садовом кольце произошла очередная перестрелка, которую неизвестно кто затеял.
Михайлов попытался разыскать Мишу Губина, но, как и вчера, неудачно. Он позвонил Башлыкову. Тот был на месте.
– Ну? – спросил Алеша.
Башлыкову не понравилась его категоричность.
– Ты бы поздоровался для приличия, – заметил он благодушно.
– Что с Елизаром?
– Приказал долго жить, – Это точно?
– Сходи посмотри.
– Наследили много?
– В меру…
Алеша прислушался к себе. Если Башлыков не блефует, а он, конечно, не блефовал, то с сегодняшнего дня в жизни многих людей, причастных к их бизнесу, наступила новая эра; и именно с этой минуты следовало действовать быстро, точно, решительно, осторожно и во многих направлениях. Но эта мысль показалась заполошной, пустой. Ему не то что действовать, одеваться было лень.
– Чудно как-то, – сказал он. – Всякой ерундой готовы заниматься, а у меня жена пропала.
– У Елизара ее не было.
– Знаю, что не было. Вот и не надо было его трогать пока.
Башлыков насторожился:
– Не совсем тебя понимаю. Акция, кстати, влетела в копеечку.
– Это в бухгалтерию, к господину Воронежскому.
Или обсудим на правлении. На ветер бабки кидать, сам знаешь, не в моих привычках.
– Та-ак, – скучным тоном отозвался Башлыков. – Что, если я к тебе сейчас подскочу, Алексей Петрович?
– Нет, не подскочишь.
– Почему?
– Приезжай в контору к четырем.
– Хорошо, понял, – сказал Башлыков и первым положил трубку.
Алеша тут же снова набрал его номер:
– Скажи, Башлыков, на ком лично Елизар повис?
Обстоятельства – потом.
– Не знаю, – ответил Башлыков.
– Спасибо. До встречи.
Ему было приятно, что удалось малость взвинтить законспирированного чекиста, но удовольствие тоже было какое-то ненатуральное. Детские забавы на лужайке. Проторенной тропкой он добрался до оттоманки, где почивал безмятежный Вдовкин. Привычно потеснил его к стене, уселся в ногах.
– Эй, соня, похмеляться пора!
– Чего тебе? – буркнул Вдовкин.
– Ночью никто не звонил?
– Вроде нет.
– А точнее?
– Я после третьего стакана глохну. Да чего волноваться. Один раз позвонила, и второй позвонит.
– Помнишь, чего ей сказать?
– Что?
– Не явится через полчаса, пусть едет в морг.
Вдовкин потянулся, вылез из-под одеяла и со скрипом сел. Нашарил где-то под собой сигареты.
– Похоже, нет такой дурости, какую не измыслит русский человек, когда в оказии.
– Если поинтересуется, какие были мужнины прощальные слова, передашь: тварь поганая.
Не умываясь, не позавтракав, накинул вельветовый пиджачок и вышел. На улице дежурили двое, еще ночных, сторожей – Чук и Гек. С ними Алеша распорядился:
– Сменщикам передайте и сами запомните: придет Настя, из дома не выпускать. Хоть силой держите.
Чук и Гек дружно закивали, остерегаясь подходить ближе, чем на вытянутую руку. Среди охранной челяди со вчерашнего дня прошел нехороший слушок, что у хозяина крыша поехала.
Алеша прямиком двинулся к Тине Самариной, в далекое Митино. Гнал так, что гаишник на Каширке еле успел свистнуть вдогонку. Но за ним не увязался. Не зря он выложил десять лимонов за спецномера.
Ближайшая Настина подруга была дома, но собиралась на работу. Алешу впустила в квартиру больше от изумления, чем от радости.
– Собери чайку, – попросил он. – Ты же видишь, я два дня не ел.
– На меня такие штучки не действуют, Михайлов.
Мне в школу пора.
В сером, строгого покроя костюмчике, гладко причесанная, в больших немодных очках, Тина Самарина была человеком из другой, сопредельной жизни, с которой Алеша редко соприкасался. Разве что через Настю. Эта жизнь была для него выморочной, призрачной. В ней люди не только бесконечно талдычили о каких-то принципах, о борьбе добра со злом, но и пытались как бы следовать этим принципам. Забавные канарейки, распевающие свои нелепые, наивные песенки в окружении змей, крокодилов и шакалов. И квартирка у Тины, естественно, напоминала птичье гнездо: крохотная, на последнем этаже двенадцатиэтажного крупнопанельного дома.
Алеша прошел на кухню, огляделся и поставил чайник на плиту. Тина укоризненно замерла в дверях.
– Предложение такое, – сказал Алеша. – Я твою школу покупаю и дарю тебе. А ты говоришь, где Наста прячется.
– Торгаш, – брезгливо процедила Тина. – Вот это и есть твое истинное нутро. Нечего было притворяться.
– Кем же я притворялся?
– Ну как же! Романтический герой в духе средневековья. Тайный мститель. Зеро. Робин Гуд. Это ты бедной Настеньке можешь втирать очки, я-то тебя всегда видела насквозь.
– Ты – да! Ты – великий психолог. Потому, наверное, и живешь без мужика. Все мужчины грязные самцы, верно? Не удивлюсь, если окажешься девушкой.
– Убирайся!
Алеша достал из настенного шкафчика чашку и заварной чайник, а из холодильника масло и сыр.
– Хлеб-то хоть у тебя есть?
– На каком основании ты тут хозяйничаешь?
– Не надо, Тина. Я не ссориться приехал.
Он поднял глаза, и она увидела в них что-то такое, что заставило ее опуститься на стул. Алеша и ей дал чашку и свежий чай заварил из пачки цейлонского.
– Я не знаю, где Настя, – сказала она.
– Не правда. Ты знаешь. Или догадываешься.
– Хорошо. Может быть, догадываюсь. Но почему я должна тебе говорить, если она сама не захотела. Алеша, она ушла от тебя. Это самый разумный ее поступок за последние три года.
– Она не может уйти.
– Почему?
– Мы же любим друг друга.
Он ожидал, что Тина хотя бы улыбнется после такого признания, но вместо этого она достала с окна из-за шторки пакет с хлебом и начала готовить бутерброды.
Вид у нее был неприступный.
– Ты хорошенькая, умная девушка, – мягко сказал Алеша – Прости, что иногда над тобой подшучивал.
Если бы не было Насти, я бы на тебе женился.
– Ой, спасите меня! – Наконец-то она смягчилась. – Ты хоть догадываешься, почему она сбежала?
– Догадываюсь. Она записку оставила.
– Ну и в чем дело?
– Приступ шизофрении. Это у нее наследственное.
Мать полоумная, отец алкоголик. Но для меня это не имеет значения. Какая ни есть, а все жена. И потом – я кое-что понял…
– Что же именно?
– Мне без нее кранты.
Тина пододвинула ему бутерброд с сыром.
– Помоги, Тина! Где она?
– Она мне не простит.
– Простит. Она же понимает, что передо мной никто не устоит.
Алеша пережевывал хлеб и не чувствовал вкуса, словно тряпку жевал.
– Помоги, Тина. Или будет беда. Небольшая, правда.
– Какая беда?
– Я умру без нее.
Тина увидела в ясных Алешиных глазах отблеск слез – и оторопела.
– Или ты великий актер, или…
– Где она?
– Возможно, я полная дура… Точно не уверена, но предполагаю… В Балашихе живет старый художник, у него дача…
– Почему ты думаешь, что она там?
Тина не выдержала его прямого взгляда, в котором загорелся странный тусклый огонь. Сняла очки и протерла сухие стеклышки платочком.
– Тина, я жду!
– Настя звонила утром…
– Адрес!
Тина ушла в комнату и вернулась с клочком бумажки. Прежде чем отдать, потребовала:
– Поклянись, что ее не обидишь!
Алеша сказал:
– Ты действительно дура. Как же я могу ее обидеть, если она мне как дочь? Вдобавок она беременная.
– Алеша, а ты сам не того?..
Михайлов вырвал у нее бумажку. Он уже был на ногах и в дверях.
– Ты под моей защитой, девочка! Запомни на всякий случай.
…По дороге в Балашиху прихватила гроза. Посыпались с неба потоки, плясали перед глазами желтые молнии. Весело было ехать. Хотел думать о главном, о том, как оборотиться с Елизаровым наследством, а думал все о Настеньке. Сознание чудно двоилось, троилось, как струи воды на стекле.
Старый художник был похож на согнутое, безлиственное деревце в палисаднике, где он как раз стоял и из детской леечки задумчиво поливал грядку. Алеша окликнул его с дорожки:
– Эй, хозяин!
Мужчина неторопливо развернулся, и Алеша с огорчением отметил, что хотя художник, конечно, хиловат и обтесан жизнью до краев, но не так ух и дряхл, чтобы при случае не обесчестить чужую жену.
– Чем могу быть полезен, сударь?
– Заказы принимаете?
– Какие заказы?
– Хочу, чтобы немедленно нарисовали девушку по имени Настя. Она в доме?
Художник опустил лейку на землю и, бережно ступая по узкому проходу между грядок, вышел на дорожку.
– Надо полагать, вы ее муж? Алексей.., извините, не знаю по батюшке.
У него было хорошее, тихое лицо человека, давно ничему не удивляющегося. Взгляд задорный, осмысленный. Как у ежика.
– Да, я ее муж. А вы, по всему выходит, похититель.
– Не желаете ли пройти в дом? Там будет удобнее разговаривать.
Алеша понятия не имел, о чем им нужно разговаривать, но в дом вошел и даже не остановился в прихожей, а юзом прошмыгнул по всем комнатам первого и второго этажа, которых насчитал пять. Но Насти нигде не было. Хозяин спокойно дожидался на застекленной веранде, усевшись в плетеное кресло.
– Молочка не хотите? Вот свежее в кувшине. Стаканы чистые, не сомневайтесь, – мужчина говорил с ним приветливо, но с каким-то сожалением.
– Где она?
– Да вы не волнуйтесь, посидите минутку, отдышитесь… С ней все в порядке.
Алеша сел, закурил. Ему хотелось взять любезного старикана за шкирку и вышвырнуть через стеклянную стену с таким расчетом, чтобы тот долетел до леса, но это было бы глупо.
– Я не художник, – сказал хозяин, как бы оправдываясь. – Это Настя величает меня художником. Она видела кое-какие мои работы, но это все в прошлом. Зарыто и посыпано пеплом, знаете ли. Увы! На самом деле я обыкновенный российский интеллигент-неудачник.
Работал всю жизнь, чего-то добивался, о чем-то мечтал и незаметно очутился на пенсии. Причем один-одинешенек. Ни жены, как говорится, ни детей. Теперь выращиваю цветочки, чтобы как-то подработать на хлебушек.
– Очень интересно, – заметил Алеша. – И куда вы дели Настю?
Старик разлил из кувшина молоко в два стакана и из одного отпил, отчего кадык на белой мучнистой шее скакнул взад-вперед, как резиновый.
– Вы торопитесь, Алексей?
– Я – нет. Это вы торопитесь.
– Куда? – удивился художник.
– Видимо, на тот свет.
– Ах, вот вы о чем! – старик радостно закудахтал, что, скорее всего, означало смех. – Знаете ли, Алексей, я ведь именно таким вас представлял по Настиным рассказам. Целеустремленным, отчаянно упрямым. Но легковерным. Сколько вам лет, простите?
– Тридцать пять. А вам?
– Шестьдесят восемь… Пожалуй, в вашем возрасте уже пора понять, что не все в мире берется с бою. Некоторые вещи приходится вымаливать у судьбы. Их надо выстрадать.
– Какие именно вещи?
– К примеру, любовь, дорогой мой! Вы знаете, как ты познакомились с Настей?
– С ней все знакомятся одинаково. Глянет своими лживыми глазищами – и ты спекся.
– Да вот и нет! – Старик со вкусом отхлебнул стакана. Солнце било Алеше в правый глаз, и он чувствовал, как его одолевает чертовщина. Ему тоже захотелось молока.
– Ваша супруга прекрасна, спору нет. В ней есть чудесная колдовская сила, тоже верно. Но на меня она не глядела, когда мы познакомились. Она сидела на скамеечке в скверике у Большого театра – и плакала. Вы знаете, какие женщины там собираются? Но я сразу понял она не из их числа. Подошел, чтобы утешить. Иногда обязательно надо, чтобы кто-то подошел и утешил…
– Почему она плакала?
– Это было три года назад, весной… С тех пор она всегда плачет, когда навещает меня.
– Жалеет вас, что ли?
– Не надо, Алексей. Давайте поговорим по-человечески. Вам ведь редко удается с кем-нибудь поговорить просто так, без всякой задней мысли.
– Чего вы от меня хотите? Денег? Чтобы я купил ваши цветочки?
– Помогите ей, Алеша. Это в ваших силах. Если вы это сделаете, вам многое искупится.
Алеша задумался. То есть не то чтобы задумался, а внимательно следил за черной жирной мухой, которая настырно сновала по краю кувшина, норовя туда свалиться. Ему еще ни разу в жизни не понадобилась мухобойка. И сейчас он не сплоховал, словил муху на взлете в ладонь, но не знал, куда ее деть.
– Отпустите ее, – посоветовал художник. – Пусть резвится.
Алеша оторвал мухе голову и щелчком отправил за окно.
– Если вы держите Настю в подвале, – сказал он, – то напрасно. Нет такого подвала, откуда я ее не выну.
– Есть очень глубокие подвалы. Они в человеческой душе. Загляните в свою, молодой человек. Иногда это необходимо.
В который раз Алеша подивился тому, по какому чудному признаку Настенька выбирает себе друзей. Чем дальше человек от мира сего, чем неприспособленнее, тем ей ближе. Лишь бы умел хныкать и с умным видом произносить дурные, многозначительные фразы.
– Покажите ваши картины, – попросил он.
– Вы правда хотите посмотреть?
– Зачем же я приехал?
Старик поднялся, куда-то сходил и вернулся с двумя небольшими холстами. Поставил их так, чтобы солнце падало сбоку. Картины были писаны маслом. Одна изображала деревенскую улочку с нарядными избенками, с лужей, со скошенными изгородями и с невысокой церквушкой на заднем плане. Композиция производила впечатление театральной декорации. Аляповатые, яркие краски, добросовестно прописанные детали. На какой-нибудь выставке детского рисунка у старика были все шансы получить премию за старательность. Вторая картина – портрет женщины в домашнем интерьере. Небогатая комната со стандартной меблировкой – кровать, застеленная клетчатым пледом, шкаф, тумбочка, на стене коврик с плывущими лебедями – и смазливая дамочка в розовом пеньюаре, причесывающаяся перед зеркалом. В поднятой к распущенным рыжеватым волосам руке, и на смуглом лице, и во всей позе – выражение растерянности и ужаса. Ей было от чего растеряться.
В зеркале, перед которым она сидела, ничего не отражалось, оно было пусто и темно, как черная дыра. Картина называлась "Первый раз себя увидела".
– Покупаю обе, – сказал Алеша. – Назначайте цену, маэстро, – Зачем они вам?
– Насте подарю. Прямо сейчас.
– Вы очень ловкий молодой человек, – с оттенком уважения заметил художник. – Вам, наверное, кажется, вы все способны купить?
– Да что вы, маэстро! Совсем нет. Есть много вещей, которые не продаются. Жизнь, например. Правда, ее легко отнять.
– Господи, как же не повезло бедняжке!
– Вы имеете в виду Настю?
– Красивый, сильный человек – и такое абсолютное презрение к другим людям. Патологическая глухота к чужому существованию. Как же она выдержала так долго?
И вы еще спрашиваете, почему плачет?
– С чего вы взяли, что я презираю людей?
– Презираете – слабо сказано. Они для вас просто не существуют. Вот маленький красноречивый штрих.
Мы с вами здесь битый час беседуем, но вы даже не поинтересовались, как меня зовут. Действительно, зачем вам? Кто я такой? Нелепое препятствие на пути героя.
С такой же легкостью, как мухе, вы оторвете голову и мне, если понадобится. Верно?
– Более того, – согласился Алеша. – Получу от этого удовольствие. Вот вам еще один красноречивый штрих.
Это не я прячу вашу жену, а вы мою. И это не я вываливаю перед вами интеллигентскую блевотину, а вы передо мной. А я вынужден терпеть, потому что не знаю, где Настя… Не доводи до греха, старик!
– Уж какой великолепный зверь! – искренне восхитился художник и отодвинулся вместе со стулом. Он еще владел собой, но Алешина улыбка помертвела, и художник сознавал, что его самообладания не хватит надолго.
Он прожил трудную, но честную жизнь, полную размышлений о путях Господних, и надеялся встретить смерть в благолепии, но вот на склоне лет к нему на порог заглянул страшный гость, в облике которого было что-то такое, что ломало все его прежние представления о человеческой сущности. Потускневший взгляд молодого человека был равен приговору судьбы. Художник почувствовал, как все нутро его съежилось, онемело, и лишь слабо шевельнул рукой, то ли прося пощады, то ли в знак протеста.
– Потек, писака, – брезгливо усмехнулся Алеша. – Не дрожи, не трону. Говори, где она?
Старик промычал что-то нечленораздельное. Алеша подал ему недопитый стакан. Молоко оживило старика, чуть не впавшего в столбняк.
– Вы гипнотизер? – спросил он.
– Конечно, а ты как думал? С вами иначе нельзя.
– Настя позвонила домой… Там ей кто-то что-то сказал, она тут же собралась и уехала. Честное слово, это правда.
– Вижу, что правда, – Алеша поднялся. – Сожалею, что напугал. Сам виноват… Имени твоего мне действительно не нужно, потому что его у тебя нет… Где телефон?
– В комнате, налево…
Алеша дозвонился до Вдовкина. Тот был похмеленный, но не сильно.
– Жду, – доложил он. – С минуты на минуту приедет.
– Смотри не выпусти. Я скоро.
– Алеша, она поверила.
– Правильно сделала. Покажи ей бритву на полочке в ванной…
Художник потянулся его провожать, семенил следом по дорожке, точно побитая собака.
– Алексей, почему вы сказали, что у меня нет имени?
– Это уж у Насти спроси.
Сел в машину и укатил.
* * *
Несколькими часами раньше, а именно в семь утра, Иннокентий Львович проводил экстренное совещание с двумя сотрудниками. Совещание проходило в его домашнем кабинете. Лишь час назад ему доложили подробности погрома на Садовом кольце, но это печальное известие не застало его врасплох. Он был собран, строг, подтянут и даже успел облачиться в темно-синий двубортный костюм с серебряными часами-луковкой в жилетном кармашке.