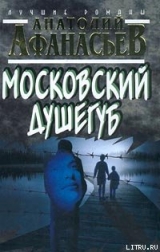
Текст книги "Московский душегуб"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Действительно, есть маленькая закавыка. – Распаренный от обильной еды и продолжительной беседы, Грум и сам стал похож на пирог, скинутый с горячего противня. – В некотором я затруднении.
– Поделись, обсудим.
Грум поделился. Накануне один из осведомителей (эта служба была у него налажена не хуже, чем на Петровке) донес, что Таня Француженка, подрядчица по щекотливому дельцу, на всю катушку крутит любовный роман с Губиным, первым человеком при Кресте. Сам по себе это был изящный агентурный ход, не вызывающий протеста, если бы не некоторые обстоятельства.
Во-первых, временные рамки контракта недопустимо просрочены, а во-вторых, Губин был не тем человеком, который мог без ума клюнуть на женские прелести очевидной подсадки. Француженка, без сомнения, была классным "чистильщиком", вероятно, единственным в своем роде, но все же первоначально она была женщиной, красивой, алчной и тщеславной. К тому же психически неуравновешенной, если не сказать больше. Все это, вместе взятое, наводило на подозрение, что они с Губиным по обоюдному согласию могли поменяться ролями, и теперь удалая киллерша, вместо того чтобы выуживать рыбку, сама превратилась в наживку.
– Все это вполне реально, – поддакнул Елизар Суренович. – Какой же предлагаешь выход?
Разговор они продолжали в библиотеке, куда Маша подала кофе, вино и фрукты. С удивлением Грум отметил, что девица замотала волосы алой лентой, а шаль с чресел переместила на плечи.
– Какой выход? – переспросил он. – Выход напрашивается только один.
– Но как же ты допустил такой недосмотр, старый ты хрыч?!
Грум равнодушно пожал плечами:
– За всем не углядишь.
– Небось и аванс уплатил?
Грума умиляло бережное отношение владыки к каждой потраченной копейке: он сам был таким.
– Аванс аукнулся, – согласился он. – Придется списать на утруску.
Елизар Суренович просмаковал глоток итальянского кларета, вдохнул его тонкий букет. С каждой минутой он чувствовал себя все крепче и не совсем понимал, что ему делать с возвращенной молодостью.
– Кеша, у меня к тебе просьба. Поручи Француженку вот этому вояке из органов, вот его визитка. Надобно его повыше продвинуть. Позвони, дай делу официальный ход. Ему за Француженку, глядишь, не то что звездочку – орден привесят.
– С Губиным как?
– Губина отсеки. Вояке передай, чтобы отсек.
– Ваша воля, – кивнул Грум, – но если Губин в курсе, если докопался…
Благовестов неприятно почмокал губами:
– Чего никогда не мог понять, так это твоей кровожадности. Ты же добрый человек, а никак не можешь успокоиться, если одним трупом меньше выходит, чем предполагал. Откуда в тебе такая жестокость?
– Извините великодушно. Хотел как лучше.
– Да не обижайся, ты же мне роднее брата. Но твоя неукротимость иногда просто пугает. Сообрази дурной башкой: если Губина сейчас ликвидном, на кого Алешка кинется? Вот и потянется пустая заварушка. Перегрыземся все, как волки.
– Но как же, с Михайловым вроде уже все решено?
– С Михайловым, но не с Губиным.
Иннокентий Львович отпил вина, хотя обычно Ограничивался чашечкой кофе. Владыка все чаще выводил его из себя своими старческими выкрутасами. Склеротические бляшки ощутимо подтачивали его некогда могучий интеллект. Грум частенько спрашивал сам себя, сколько еще сумеет выдержать этот унизительный мелочный надзор. В который раз давал себе слово, что, если Маша выведает, где старик хранит проклятые документы, отольет ей памятник из золота. Или удавит золотой петлей.
И все же не стоило обманываться. Вынужденный год за годом плестись в хвосте Благовестова, терзаемый муками оскорбленного самолюбия, Грум тем не менее по-прежнему искренне, глубоко восхищался необыкновенной изворотливостью, сверхъестественным чутьем и неодолимой хваткой владыки. Многократно убеждался, что если иногда по видимости Благовестов допускал нелепый просчет, то вскоре, как правило, кажущаяся ошибка оборачивалась прозрением, которое нельзя было объяснить ничем иным, как Господним наущением.
Недавно внучек подсунул Иннокентию Львовичу забавную книжонку некоего восточного мистика Гурджиева; и вот если приложить к Благовестову рассуждения автора о человеческой сущности, то выходило так, что в личности владыки все сколь-нибудь известные пороки постепенно переродились в одну большую добродетель.
Происходило чудо мистической трансформации, когда злоба, страх, алчность и бессердечие, переплавленные в тигле души, давали вдруг благой результат. В сущности, если отбросить второстепенное, у Грума была лишь одна серьезная претензия к владыке: слишком долго тот задержался на свете, задаром коптя небо и оскверняя ниву жизни тлетворным дыханием. Примерный семьянин и покровитель искусств, спонсор многих культурных программ, Иннокентий Львович в недоумении останавливался перед загадкой бытия человека, который сколотил гигантский капитал, возглавил финансовую империю, но не оставил после себя живого семени.
– Пойду, пожалуй, – сказал он. – Надо ехать. Еще дел сегодня невпроворот.
– Езжай, конечно, – улыбнулся Благовестов, – но не забывай о главном.
– О чем это?
– Не всех можно губить, кого хочется.
Уже в коридоре, под пристальным оком какой-то незнакомой кавказской морды (нового телохранителя, что ли?), плюнул с досадой на пол. Обмолвился словцом с подкатившей под руку Машей:
– Чем обрадуешь, сударыня?
– Пока нечем, сударь. Одно точно: в доме захоронки нету.
– Ищи, нюхай, входи в доверив; псина! Уговор помнишь?
– Лишь бы вы не забыли.
– Богатой будешь, вольной будешь, виллу в Неаполе переведу на твое имя. Не сомневайся.
Сверкнула из-под челки жадным взглядом, наклонилась, таясь кавказского пригляда, по-воровски чмокнула в руку…
Глава 19
Таня Француженка то спала, то просыпалась, но сон и явь были одинаково тягостны. Плечо горело и распухло, но не боль ее мучила. Чудные видения являлись ей.
Из горячей кровати-печки уводили в иные края и в иные времена. Она пеклась на травке в жаркий полдень на лесной поляне, но была не девочкой и не взрослой женщиной, а сусликом. Шмыгала в узкие норки и поедала коренья. Так славно что-то похрустывало на желтоватых сусликовых зубах. Она все глубже вгрызалась в земную твердь, пока не погрузилась в абсолютную липкую, влажную тьму. Толкнулась туда-сюда, а ходу уже нет. Закопал себя маленький суслик, захоронил и начал гнить. Отвалились пушистые лапки, выпали хрупкие зубки, и головка беспомощно откинулась в мягкую ложбинку земли. Тане стало смешно. Она помнила, что она не суслик, а совсем другое существо, но никак не могла освободиться от желания перетирать выпавшими резцами прогорклые ошметки. Очнулась в постели, шумнула слабым голосом:
– Миша! Мишенька!
Но явился на зов не Миша, а чужая женщина в белом халате с унылым лицом.
– Ты кто? – спросила Таня в испуге.
– Сиделка твоя, Калерия Ивановна. Попей-ка водички, деточка, и снова уснешь. Ночь на дворе.
– Где Миша?
– Миша тоже спит, все спят. Усни и ты. Хочешь, укольчик сделаю?
– Какой укольчик? – взъярилась Таня. – Я тебе дам укольчик, стерва. Убить хочешь? Позови немедленно Мишу.
Женщина послушно поднялась, по-русалочьи взмахнув белыми рукавами, но Таня не уследила, куда она направилась. Сразу открылось другое видение, вязкое, как печеное яблоко. У нее в ухе застрял сверчок. Сначала баловался, поскрипывал, чирикал, после взялся долбить лунку в черепе. Продолбил далеко, до самого мозжечка. Остановить, усмирить сверчка Таня не могла, у нее руки были примотаны к туловищу. Больно ей не было, но она боялась, что упорный трудяга что-нибудь повредит в голове и она станет еще более безумной, чем была. "Миша, – позвала жалобно, – помоги мне, Мишенька!" Губин подошел спесивый, надутый и почему-то в японском кимоно. Не говоря худого слова, сунул ей длинный палец в ухо и выковырнул оттуда сразу половину мозгов. Самодовольно ткнул под нос окровавленные сгустки. "Спасибо, Мишенька! – поблагодарила она. – Но сверчка ты не вынул. Он все равно там шебуршится". Губин разозлился, выпучил бельмы: "Ах, не вынул! Да тебе не угодишь. Что ж, тогда не взыщи!" По его глазам Таня угадала, что задумал что-то ужасное, И точно. Из складок кимоно выудил блестящую спицу, на конце которой было приспособлено что-то вроде ложечки, и, не мешкая, вонзил ей в ухо. Коленом надавил на грудь и выскреб из бедной головушки все, что там еще оставалось, кроме сверчка. "Теперь доволен, милый?" – заплакала Таня. Губин, приплясывая, гоголем прошелся по комнате, кимоно на нем разлеталось.
Грудь и ноги черные, волосатые – жуть! У того Губина, которого она прежде знала, кожа была гладкая, атласная, как у девушки. "Миша, это ты или не ты?" – спросила Таня осторожно. Да и чего было спрашивать, когда и так ясно видно, что это не Губин, а убиенный ею хачик. Но Боже мой – в каком виде! Растелешенный, бодрый, счастливый. Как же, отомстил, подстерег беззащитную, выстудил ложкой череп, теперь сверчок на свободе колотится как бешеный от уха к уху, от затылка к глазам. "Миша, Миша! – стонала Таня, силясь прогнать мучителя. – Помоги, Мишенька!"
Губин действительно пришел и помог, как всегда приходил в тяжкую минуту. Сел на кровать в нормальном обличье, опустил прохладную руку на лоб. Еще в комнату прибежали сиделка Калерия Ивановна и насмешливый доктор по имени Савва.
– Чего с ней делать? – поинтересовался Губин у доктора. – Она совсем пустая. Одна оболочка.
– Надо бы в морг переправить, – ответил доктор озабоченно. – Вскрыть бы надо. Поглядеть, чего внутри.
– Чего там глядеть, – возразил Губин. – Солитер у ней в кишках. Вон головка изо рта торчит.
Калерия Ивановна переполошилась:
– Именно в морг, именно в морг. Не нами заведено. Все же живая душа.
– Какая душа, опомнись, Калерия! – одернул ее доктор. – Погляди, это же гадюка лесная.
Будучи гадюкой, Таня обвилась вокруг губинской руки.
– Голубчик, миленький! Не отдавай в морг. Положи за пазуху.
Губин, хотя и поморщился, не бросил в беде: смял в комок и сунул в карман. В кармане было хорошо, тепло, темно и сверху продувало. Но не успела Таня отдышаться, отдохнуть – другая напасть. Неугомонная Калерия Ивановна кинулась со шприцем. Метила, видно, в плечо, а попала в глаз. Таня сидела в кармане, ослепленная, как циклоп в пещере, и горько хныкала.
– Ну чего ревешь, чего? – усовестил Миша Губин, который опять сидел на кровати у нее в ногах. – Реветь надо было раньше, когда к Елизару нанималась.
– Ты почем знаешь, что нанималась?
– Сам звонил, упредил. Такой добрый человек.
Сказал: остерегайся – это смерть твоя.
Таня не поверила:
– Врешь, Мишка! Зачем ему звонить? Он мне денежек за тебя дал.
– Не за меня, за Алешку. И сколько, если не секрет?
Договорить не успели, хотя разговор склонялся к ласковому примирению. Уже из дверей спешили Савва с сиделкой Калерией и в руках растопыривали огромный полотняный мешок, в каких грузят картошку.
– Заходи сбоку, сбоку заходи! – командовал доктор. – Сперва голову, потом ноги. Что не поместится – отчекрыжим. Миша, тащи пилу!
Мешок попался безразмерный, она легко упряталась в нем целиком, да помешала оказия: на дне открылась дырка, и Танина голова просунулась наружу. Тут уж все, кто с ней занимался, пришли в игривое настроение.
Кто-то ухватил за уши, кто-то потянул, а Губин самолично приладил пилу.
– Ну и ладушки, – обрадовался он, – теперь-то укоротим до нужного размера.
Пилил Губин сосредоточенно, ритмично, чуть пониже загривка – и это очень возбуждало. "Вжик-вжик!
Вжик-вжик!" – поскрипывало железо в умелых руках, аккуратно расчленяя хрящики и сухожилия.
И вдруг наступило утро, когда все видения растаяли.
Комната покачнулась, и мебель встала на привычные места. Солнечный свет томился в занавесках. У Калерии Ивановны, дремлющей в кресле, было утомленное обыкновенное лицо пожилой женщины.
– Где Миша? – спросила Таня. Видно, она столько раз, задавала этот вопрос, что Калория Ивановна не смогла сразу понять: бредит или нет. По губам скользнула тревожная гримаска. Чтобы ее успокоить, Француженка добавила:
– Черт с ним, с этим Мишкой! Дайте лучше чаю.
– Хочешь кушать?
– Еще как!
Женщина поправила одеяло, потрогала лоб:
– Ну и слава Богу! Какая тебя всю ночь лихоманка била. Хотели в больницу везти.
– Только одну ночь?
– А ты думала сколько?
Таня изумленно улыбалась, чувствуя странное в себе обновление. Вместе с жаром и болью некая черная часть ее естества за ночь вытекла на пол. На душе просветлело. И позже, когда жадно ела с подноса, принесенного Калорией Ивановной, новое ощущение света и покоя никуда не делось, а только, кажется, укрепилось. Она боялась его спугнуть неосторожным движением.
Миша Губин пришлепал из соседней комнаты, зорко глядя сверху.
– Ну как?
– Мишенька, нам надо поговорить.
Губин опустился на стул – спина прямая, руки на коленях сжаты в кулаки, в глазах не поймешь что. "Мой суженый, – растроганно подумала Таня. – Единственный, неповторимый! Такой же убийца, как я".
– Слушаю тебя, – сказал Губин.
– Ты куда-то спешишь?
– ?
– Мишенька, как ты не поймешь… Куда нам спешить, раз уж мы встретились.
– Это все?
– В каком смысле?
– Все, о чем хотела поговорить?
Калерия Ивановна, неслышно ступая, покинула комнату.
– Поцелуй меня, любимый!
Губин не нашелся с достойным ответом. За ночь он принял окончательное решение. Выбор был невелик.
Несчастную маньячку, приворожившую его сердце, следовало или убить, или этапировать куда-нибудь на окраину необъятной родины, где посадить под замок.
В Таганрог или на Кушку – это неважно. Первый вариант был радикальный и справедливый: Танино появление на свет было заведомым браком; кто-то все равно, рано или поздно, должен был взять на себя труд и исправить зловещую ошибку природы. Губин мог это сделать. Ему и прежде случалось брать на себя роль прокурора, судьи и палача одновременно. Он относился к этому философски. Кто взял в руки меч, тот должен им владеть. Но убить Француженку, похоже, значило то же самое, что вырвать собственную печень. К такого рода геройству Губин не был внутренне готов. Даже ночью, когда она металась по постели, взмокшая, в лиловых пятнах, изуродованная лихорадкой, он тянулся к ней и желал ее со всей силой молодой, неизрасходованной страсти. После смерти она, конечно, вернется к нему и потребует недоданной любовной доли.
Второй вариант (этапирование под замок на окраину) ничего, в сущности, не решал, загонял психологический нарыв вглубь, зато отпускал резерв времени, необходимый сейчас Губину. Он остановился на ссылке.
– Поцелуй меня! – капризно повторила Таня. – Тебе противно, что ли?
Молча Губин поднялся и пошел на кухню, но по дороге его перехватил зуммер радиотелефона. На связь вышел Гриша Башлыков, оголтелый контрразведчик.
То, что он сообщил, было неприятно. Только что Башлыкову по его каналам стало известно, что особая опергруппа МВД получила задание ликвидировать некую террористку при задержании. Но не это было обидно.
Башлыкову, как ни странно, было известно и то, что знаменитая киллерша каким-то образом связана с Губиным. Сколь ни были в его глазах высоки профессиональные качества Башлыкова, выходит, он все равно их недооценивал.
– Когда намечена операция? – спросил Губин.
– Полчаса, думаю, у тебя есть. Помощь нужна?
– Справлюсь. Спасибо. До свидания.
– Держи меня в курсе.
– Хорошо.
Калория Ивановна готовилась к перевязке.
– Нет, – сказал Губин. – В другой раз. Сейчас быстро ее оденьте. Мы уезжаем.
– Куда, любимый? – поинтересовалась Таня. – Я ведь еще не совсем выздоровела.
– Три минуты – и выходим, – по его лицу Таня поняла: больше задавать вопросы пока не нужно. Вместо этого она с головой укрылась одеялом и затаилась, как невидимка. Губин грубо сорвал с нее одеяло:
– Я с тобой чикаться не буду! Не оденешься, голую отнесу в машину.
– Калерия Ивановна, – взмолилась Таня. – Вы женщина добрая, спасите меня! Вы же видите, любимый озверел. Хочет увезти в лес и без свидетелей надругаться.
Кое-как вдвоем с сиделкой Губин натянул на нее юбку и шерстяную кофту.
– Любимый, – ворковала Француженка, умело выворачиваясь. – Ну почему ты не хочешь сделать это здесь? Почему обязательно в лесу? Калерия Ивановна, миленькая, это он вас стесняется. Отвернитесь, пожалуйста.
– Михаил Степанович, – сказала женщина, – надеюсь, вы отвечаете за свои действия?
– Я за все отвечаю.
По рации он связался с Михайловым и предупредил, что исчезает на сутки. Алеша уловил в его голосе какую-то незнакомую нотку.
– Ты не заболел?
– Нет, я здоров. Личные дела.
Потом позвонил в офис и распорядился, чтобы две машины с боевиками через час подстраховали его на Минском шоссе. Подошел к окну. Его "вольво" стояла впритык к телефонной будке, вокруг пусто.
Калерии Ивановне он велел остаться в квартире и ждать. Если кто-нибудь придет и станет ее расспрашивать, надо сказать, что молодая хозяйка звонила в аэропорт, интересовалась рейсами на Сочи.
– Я врать не умею, – сказала женщина, погруженная в тяжкое раздумье.
– Соври разок, – попросил Губин, – для общей пользы.
– А что ответить доктору?
– Савве я сам позвоню.
В лифте он поддерживал Таню за талию, а она постанывала, как деревце на ветру.
– Мишенька, ты любишь меня?
Глаза у нее были жутковатые, точно успела насосаться "травки". Он ее не совсем как-то узнавал в это утро, но задумываться об этом было некогда.
Успели сесть в машину и движок захрюкал, когда в переулок вымахнули две "волги" с ментовскими номерами, набитые стрелками под завязку.
– Нагнись! – бросил Губин и для верности тяжелой рукой придавил ее голову к панели. Таня жалобно ойкнула и обмякла. Губин аккуратно развернулся и к Садовому кольцу вырулил без приключений, но в зеркальце заметил, что одна из машин, видно, по наитию, все же села на "хвост". На Комсомольском проспекте на ходу пришлепнул на крышу милицейскую мигалку.
Правил движения больше не соблюдал: хотел оторваться от преследования до Окружной. Москва была перегружена транспортом и слегка дымилась. Возле Лужников дорогу перегородили столкнувшийся грузовик и "жигуленок", образовали солидную пробку. Губин обогнул пробку по тротуару и ухитрился выскочить прямо перед светлые очи капитана-гаишника. Чернобровое лицо капитана осветилось улыбкой удачи.
Увидев просунутую в окошко двадцатидолларовую купюру, даже не стал читать наставление, схватил денежку и доброжелательно махнул жезлом: проезжай, соколик!
Таня очнулась на метромосту, потянулась, как со сна, укоризненно заметила:
– Любимый, ты хотел убить раненую девушку? От кого мы удираем?
– Ни от кого. Поспи еще немного.
– Зачем ты так хряснул меня головой о панель?
Мне же больно. Вот и вторая рука теперь тоже отнялась. Как я буду тебя обнимать?
Губин никак не мог понять, сбросил ли он "хвост".
На проспекте Вернадского разогнался за сто пятьдесят, мчался сопровождаемый гудками разгневанных водителей, знакомая "волга" давно исчезла, но это ничего не значило. У оперов из спецгруппы были свои, особые приемчики дорожного вылавливания. На охоту, подобную этой, они выходили в несколько "застав", с отлаженной системой страховок, передавали объект с рук на руки по принципу "домино". У них были очень высокие показатели по конечному результату. Преимущество "чистильщиков" перед остальными оперативными службами было в том, что у них не было нужды стесняться в средствах. Большой гон был для них развлечением, чем-то вроде рулетки с обязательным кушем в конце. Эти ребята никогда не торопились ставить точку: сам процесс преследования доставлял им массу удовольствия. Хорошо натасканные, тренированные, двуногие борзые, которые получали премиальные с каждого снятого скальпа. Высшим шиком среди этой отчаянной братии считалось повалить жертву как раз в ту минуту, когда она возомнит себя недосягаемой.
Подполковник Веня Суржиков, два года назад продавший душу дьяволу и получавший паек сразу в трех местах, "принял" машину с преступниками возле кинотеатра "Звездный", куда добрался из Центра на своем мощном "мустанге" одному ему известными просеками.
Теперь, сидя в уютной кабинке "то йоты" рядом с матерым сержантом-афганцем Власюком, он испытывал то желанное опустошение, освобождение от серых пут обыденки, которые приносила только бешеная погоня за ускользающей мишенью.
– Что, Власюк, достанем гадов?! – Суржиков возбужденно посмеивался.
– Куда же они денутся, шеф, – ответил сержант.
Когда серая "вольво" вырулила на Минское шоссе, стало ясно, что деться беглецам действительно некуда.
Дожим объекта на загородном шоссе – забава для новичков, вроде охоты на кролика. По рации Суржиков вызвал на подмогу вертолет, а также предупредил о повышенном внимании милицейские посты. Потом спохватился, что второпях, в суете после звонка "благодетеля" не удосужился запросить оперативку на того парня, который крутил баранку убегающей "вольво" и которого по указанию заказчика следовало почему-то не трогать, а отсечь. "Умники дерьмовые, – смешливо подумал Суржиков. – Придумают же такое – отсечь! Тыквы бы вам всем отсечь, вместе с куриными мозгами!"
Смутное время, которое корежило страну, вполне устраивало подполковника, словно для него было обустроено. В этой лихой ломке он чувствовал себя как рыба в воде, а раньше прозябал и еле сводил концы с концами. Теперь он размахнулся на полную катушку.
Ему нравилось догонять, рвать в клочья, цедить сквозь зубы команды, отстегивать крупные бабки красивым шлюхам и выколачивать гонорар сразу из трех контор.
За буйство и удаль ему платили наличными, а не пугали служебным расследованием. Все, что раньше было противозаконным, стало естественным, как дыхание.
Множество былых нелепых ограничений и установок, путавших ноги и руки, рассыпалось в прах, и жизнь для быстрого, сметливого человека засверкала всеми цветами радуги. Наконец-то укоренилось так, как и должно быть, как заведено от веку: нытику и рохле выпали слезы, а вольному и неустрашимому – победа.
Подполковник спросил у Власюка:
– Тебе такая фамилия – Губин ничего не говорит?
Сержант ухмыльнулся:
– Наверное, шибко губастый, раз Губин. Нет, товарищ подполковник, про такого не слыхал.
– Палить не разучился?
– Обижаете, гражданин начальник.
– Этого Губина, если что, возьмешь на себя. Но только, если рыпнется.
– Понятно, – кивнул сержант. Жар погони томил его не меньше, чем командира, он беспрестанно курил.
На тридцатом километре Губин свернул к песчаным карьерам, до которых еще было минут десять ходу. Он сознавал, что мясорубка предстоит нешуточная. Давно вычислил упорную "тойоту", умело следующую на одном и том же расстоянии, и неожиданно спланировавший на шоссе ментовский вертолет. Два "жигуленка" с ею собственными бойцами прилипли к потоку на выезде из Москвы, и Губин по рации послал их вперед на лесную развилку возле карьеров и затем намеренно сбрасывал скорость, чтобы дать им время для маневра.
По общей раскладке выходило, что перевес сил пока на его стороне, но долго это не продлится. Он понимал, что обложен со всех сторон и уходить придется внатяжку.
Тане приходилось туго, хотя она крепилась из последних сил. На Минском шоссе, отутюженном немецкой техникой, еще было терпимо, но на разбитой асфальтовой колее ее встряхивало на всех колдобинах, и перед глазами разрывались оранжевые круги.
– Не гони, негодяй, – сказала она. – Убей прямо здесь, дальше спасайся один. У тебя есть лопата?
– Зачем тебе лопата?
– Сама вырою могилку. Останови, вон хорошая полянка. Цветочки.
– Послушай, Таня, – голос у Губина был странно мягок. – Соберись немного. Видишь машину сзади?
– Ничего больше не хочу видеть.
– Увязались какие-то мерзавцы. Черт знает что у них на уме. Когда тормозну, ляжешь на сиденье – и носа не высовывай. Хорошо?
– Я знаю только одного мерзавца.
– Скоро узнаешь и других.
Уже они скакали по грунтовке, впереди – широкая развилка. Оба "жигуленка" светились голубыми капотами из зарослей бузины. Чуть левее, почти неподвижно, низко, как люстра, раскачивался в небе вертолет. Диспозиция хорошая: ребята успели замаскироваться, рассредоточась среди деревьев вдоль обочины. Губин остановил машину и не стал разворачиваться.
– Прошу тебя, – сказал он, – не дури.
Ее глаза полыхнули, как две зеленоватые плошки. Губин достал из бардачка люгер, сунул под рубашку.
– Миша, обними меня!
Он дотянулся, поцеловал сухие, воспаленные губы.
Конечно, это бред, наваждение, но желание пронзило его с такой же силой, как если бы они лежали дома в постели.
– Видишь, – заметила Таня самодовольно, – любишь меня. Природу-то не обманешь.
– Грош цена такой любви.
Он распахнул дверцу и выпрыгнул. "Тойота" остановилась шагах в двадцати. Оттуда шли к нему двое мужчин: один повыше, коренастый, средних лет, другой – в самом соку, гибкий тополек с льняными кудрями.
У обоих в руках короткоствольные, с округлым цевьем автоматы – новейшая модификация "Калашникова", отличные безотказные игрушки. Губин предостерегающе поднял руку:
– Стой, мужики, поговорим!
Мужчины послушались, остановились. Старший засмеялся:
– Губин, мы тебя знаем. Беги в лес, никто не тронет. Нам девчонка нужна.
– Кто вы?
– Особый отдел. Подполковник Суржиков. Хочешь, документы покажу? Шагай отсюда.
Мужчины синхронно сдвинулись. Губин снова поднял руку:
– На месте, я сказал! Зачем тебе девчонка, Суржиков?
– Ты любопытный, Губин?! Путевку на курорт ей выпишем. В Минводы. Доволен?
Губин видел, что опасаться надо не подполковника, тот вполне владел собой, а вот его молодой напарник так и дергался со своей скорострельной машинкой. Вертолет завис над головой и так гудел, что приходилось кричать, надрывая связки, но можно было уже и не кричать, потому что все было сказано.
– Девчонку не получишь, – проорал Губин, – но уцелеть еще можешь.
Первым стрелять, как и следовало ожидать, начал молодой, и одновременно Губин кувырнулся в кювет, на лету рвя из-за пояса люгер. Схватка получилась короткой. Мгновенно ожили деревья, и двух одиноких стрелков на дороге скосило, как деревянные столбики.
Они не успели толком ничего понять. Из подкравшегося вертолета потекли на землю стальные смертельные нити. Губин, лежа на спине, выпустил весь заряд, целя в топливные баки. Бойцы тоже с азартом пуляли из укрытий. Кто-то попал удачно. Вертолет, словно в раздумье, закашлялся и резко взмыл в вышину. Но и там, пока был на виду, продолжал перхать, харкать и недоуменно раскачиваться.
Губин подошел к лежащим в живописных позах подполковнику Суржикову и его подпаску. По тому, как изумленно они улыбались, было понятно, что оба не ожидали, что вся эта катавасия, которая называется жизнь, так быстро и нелепо закончится. Сержант в смерти не успокоился, горбился над своим автоматом и продолжал посылать короткие очереди в грудь свирепому врагу, зато его старший товарищ только прикидывался мертвым. Губин угадал это по легкому трепетанию сомкнутых ресниц на заиндевевшем суровом лице. Он нагнулся, высвободил автомат из теплых расслабленных пальцев, посоветовал:
– За мной больше не гоняйся, вояка. Шею свернешь.
За спиной Лева Чмок, командир пятерки, деликатно напомнил о себе:
– Прибраться здесь или как?
Губин пожал ему руку:
– Хорошо поработали, спасибо… "Тойоту" где-нибудь захорони. Я уйду на твоей машине. Доберетесь до точки, замрете наглухо.
– Будет сделано.
Неподалеку топтались еще четверо бойцов, стеснялись подойти. Их Губин тоже поблагодарил:
– Премиальные по гранду на рыло. Чмок рассчитается. До встречи, ребятки.
Ребятки радостно загудели. Все четверо впервые видели своего легендарного командира.
Губин вернулся к "тойоте", пересадил Таню в "жигуленок". Люгер сунул в бардачок, не перезаряжая.
– Горжусь тобой, любимый! – жеманно пролепетала Француженка. – Ты – настоящий воин. Как сиганул в канаву – уму непостижимо!
Губин развернулся и погнал к карьерам. Путь предстоял неблизкий.
– Как самочувствие? – спросил у Тани.
– Миш, чего от нас хотели менты?
– Откуда я знаю. Бесятся с жиру.
– Они за мной тянутся?
– Возможно, и так.
– Миш, ты меня не отдашь?
– Будешь слушаться, не отдам.
– Я люблю тебя, Губин.
– Это как тебе угодно.
Песчаные карьеры не разрабатывались лет десять, но в одном из вагончиков тут обретался на покое древний житель планеты Кузьма Кузьмич Захарюк. От государства он получал хилую пенсию и зарплату сторожа, и Алеша Михайлов пересылал ему ежеквартальное пособие, которого с лихвой хватало на все его незамысловатые потребности. На иждивении у старика были три немецких овчарки, день и ночь злобно завывавшие в деревянном загоне, и приходящая бабка Матрена. Алеша платил деньги за то, чтобы он, не жалея сил и времени, распугивал окрестных обитателей, и с этой задачей Кузьма Кузьмич справлялся успешно. В близлежащих деревнях песчаные карьеры почитались гиблым местом, куда нормальный человек рисковал сунуться разве что с диковинного перепоя.
Губин подрулил к вагончику и погудел. Старик вышел на металлическое крылечко и, заслонясь ладонью от солнца, сверху разглядывал пришельцев. Губин его не торопил, потому что знал, выйдет только хуже. Кузьма Кузьмич был сутуловат, приземист и с возрастом весь ушел в густую, до пояса, бороду и яркие, пронзительные глазки, стылые, как у сурка. Постепенно он спустился с крылечка и приблизился к Губину.
– Выходит, от Алешки прибыл? – спросил замогильным голосом.
– Так точно, – ответил Губин.
– По какому делу?
Губин протянул старику стопку ассигнаций:
– Вознаграждение за минувший квартал, Кузьма Кузьмич. А также есть особое поручение.
Старик принял деньги и, не пересчитав, сунул куда-то под бороду.
– Какое поручение, говори! Замочить кого?
По прежним временам Захарюк переменил много профессий, среди которых бывали и экзотические.
– Видишь, дедуль, дамочку в машине?
– Еще не ослеп.
– Надобно ее срочно эвакуировать в деревню и определить на постой. Как бы под видом племянницы или внучки.
Старик обогнул Губина, передвигая ноги как-то навскидку, и заглянул в салон. Таня ему улыбнулась, подмигнула и показала язык. Захарюк отшатнулся.
– В деревне прятать хлопотно. Зарыть бы вон в песок, никто сто лет не хватится.
– Белено пока в деревню. С Алешкой не поспоришь.
И когда ехать?
Прямо сей минут.
– Бензину хватит на дорогу?
– Хватит, дедушка.
Старик смачно харкнул себе под ноги и поковылял к загону. Отворил щеколду – три громадные овчарки с ужасающим рыком вымахнули на волю. Дружно, в несколько скачков преодолели расстояние до Губина, и старик от острого любопытства даже присел на корточки. Но собаки не причинили зла замершему в неподвижности Губину, понюхали его коленки и, точно по сигналу, завыв на три голоса, умчались в сторону леса.
Кузьма Кузьмич с кряхтением поднялся на ноги и вернулся к машине.
– Я готов, – сказал с оттенком удивления в голосе. – За имуществом Матрена приглядит. Не понимаю только, почему тебя псы не сожрали?








