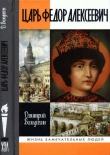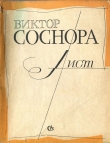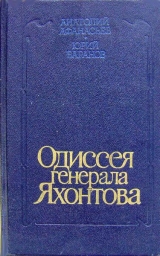
Текст книги "Одиссея генерала Яхонтова"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Соавторы: Юрий Баранов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Парадоксы – 1919-й
Просвещение земляков занимало не так уж много времени, и Яхонтова томило бездействие. Притом не надо упускать из вида, что тогда он ничуть не сомневался, что он лишь временно, в силу ряда обстоятельств, находится за границей и что не завтра, так послезавтра вернется на Родину. Но раз уж так пока – пока! – складывается, не надо сидеть сложа руки. Уроки русской истории – хорошо, но они, в сущности, так редки! И когда ему предложили сделать для русской аудитории доклад на тему «Русское офицерство в связи с развитием русской общественности», он с радостью согласился. Впоследствии он с удивлением вспоминал, что слушатели «прогрессивного толка» тепло приняли его, и «левые» газеты хорошо отозвались о докладе, но вот одно «радикальное» издание усмотрело в его выступлении призыв к тому, чтобы судьбу России решил «генерал на белом коне». Возможно, конечно, что тот корреспондент слушал вполуха и не все понял, но главное, видимо, в другом. Тогда у самого Яхонтова были еще, мягко говоря, сумбурные, неясные и во многом наивные представления и о русском офицерстве, и о России вообще. Просвещая малограмотных земляков, он сам еще не прошел своего ликбеза.
Ранней весной 1919 года Виктор Александрович опубликовал серию статей об истории и судьбах Родины под общим заголовком «Вековой разлад». Опубликовала их начавшая выходить в Нью-Йорке на русском языке газета «Русское слово». Тогда это было издание либерального направления; но вскоре оно было куплено сионистами, добавило к названию слово «новое» и стало совсем другим – антисоветским и антирусским. С ним еще предстояло повоевать Яхонтову («Новое русское слово» выходит и поныне), но весной 1919 года именно в «Русское слово» он отнес свои статьи. Спустя два десятилетия Яхонтов так изложил их суть:
«Главная мысль заключалась в том, что пропасть, разделившая высшие классы России и ее простой народ, возникла оттого, что долгое время отрицалась необходимость его просвещения. В результате, писал я, возникла так называемая интеллигенция, большинство которой, получив образование, потеряло контакт с народом в целом. Интеллигенты говорили на другом языке, исповедовали идеи, чуждые широким массам, стремились к другим целям. Взаимопонимание сделалось трудным, и родилась подозрительность. Из подозрительности выросла враждебность. Две революции, через которые прошла Россия, ясно это продемонстрировали, и настало самое время исправлять трагическое положение».
Все, как видите, просто – разошлись фрак и армяк. Излишне искать в этих статьях что-то о системе землевладения, об экономической эксплуатации и политическом произволе, о развитии капитализма в России и засилье иностранного капитала, о народничестве и рабочем движении… Но не для того приведена здесь эта цитата, чтобы указать на политическую наивность Яхонтова в далеком девятнадцатом году. Такая «концепция» русской истории отражала представления значительной (и не худшей!) части эмиграции об истоках всего происходившего в России. Ведь с первого дня революции начались и попытки понять ее. А раз так – начались и споры о ней. Страшным ожесточением отличались эмигрантские споры. Малейшая разница в оценках даже отдельных явлений, не говоря уж об отношении к революции в целом, приводила к резким, а то и грубым ссорам, навеки разводившим старых друзей, к драмам и трагедиям, в том числе и к убийствам. О дикой грызне в белоэмиграции с тревогой и сожалением говорили ее лидеры, тщетно пытавшиеся объединить вчерашних россиян под каким-либо знаменем. С изумлением наблюдали иностранцы, как непрерывно дерутся между собой эти странные русские.
Поначалу Яхонтов не столько сознательно, сколько инстинктивно старался держаться подальше от эмигрантских свар. Но поскольку сам Виктор Александрович был частицей эмиграции, полностью отрешиться от воздействия этой среды он не мог. К тому же он начал писать – а в эмиграции ревностно следили за всеми русскими газетами.
Если «Вековой разлад» хоть и вызвал, как все эмигрантские публикации, немалые споры, но особого шума не произвел, то следующее выступление Яхонтова стало форменным скандалом. Это была статья «Чем сильна армия большевиков», опубликованная 5 июня 1919 года в Нью-Йорке в русской «Народной газете». Ее читали не только в США, но и во Франции, в Болгарии, в Китае, везде, где были белоэмигранты. Естественно, с особым вниманием читали ее офицеры. Дикая волна ненависти поднялась тогда против автора. Сейчас, по прошествии десятилетий, интересно понять почему. Ведь заканчивалась статья, как в общем-то и предыдущие яхонтовские публикации, либерально-христианским призывом прекратить кровопролитие и разжигание ненависти, а вместо того обещать широкую амнистию – даже тем, кто и совершил какие-то преступления «в патологической атмосфере революции». Но на этот благостный финал никто не обращал внимания. И правильно – смысл статьи был в ином. Яхонтов написал, что Красная Армия сильна потому, что Она защищает родную страну от вторжения чужеземцев. Что она выполняет, таким образом, национальную, патриотическую задачу. Опровергал Яхонтов и расхожий в эмиграции миф о том, что в Красной Армии «нет русских», а состоит она из наемных латышей, китайцев, венгров и т. д. Россия – многонациональная страна, указывал Яхонтов, и в ее армии всегда были – в том числе и на высших постах – люди с немецкими, польскими, татарскими, кавказскими фамилиями. Яхонтов писал, что патриотизмом, а не каким-то предательством объясняется все увеличивающийся приток в Красную Армию старых офицеров. Он предполагал, что многие из них вовсе не симпатизируют советскому режиму, но они по долгу воина пошли защищать родную землю от внешнего врага. Сегодняшняя Красная Армия, заключал Виктор Александрович, это просто завтрашняя Русская Армия.
Для белоэмигрантов, особенно для офицеров, это было непереносимо. Выходит, красные – за Россию, а они – против? Негодовали и штатские, ведь из статьи напрашивался политический вывод: если Красная Армия – армия национальная, то национальным следует считать и большевистское правительство! Словом, скандал был полнейший.
Ну, а что же виновник сенсации? Казалось бы, он уже стал на путь, ведущий его к примирению с обновленной Россией. Казалось бы, еще немного – и он, сделав усилие над собой, сбросит шоры, еще мешающие ему увидеть правду жизни, и… Но произошло совершенно обратное. Вскоре после выхода своей нашумевшей статьи Виктор Александрович делает попытку поступить на службу к Колчаку.
Логики – никакой. Ведь он отверг в ноябре восемнадцатого служение диктатору, объявившему себя верховным правителем России! Отверг до того, как Колчак чем-то себя проявил. А сейчас, в июне девятнадцатого, Яхонтов не мог не знать о порядках в «Колчакии».
В чем же дело? Говорят, что человеку труднее всего расстаться с иллюзиями. Так и наш герой в те времена еще верил в сказки буржуазного политиканства, и в частности парламентаризма. С первого дня своего правления Колчак добивался признания со стороны иностранных держав. А те все тянули, парламентски выражаясь, «из-за опасений общественности», а попросту говоря – боясь собственных народов, которые требовали: руки прочь от Советской России!
В начале июня 1919 года Колчаку вручили ноту, подписанную президентом США В. Вильсоном, английским премьером – Д. Ллойд Джорджем, французским – Ж. Клемансо, итальянским – В. Орландо. Союзники сообщали о готовности официально признать Колчака, если он согласен на ряд условий. Говорилось, разумеется, об Учредительном собрании, о свободах, о независимости Польши и Финляндии и т. д. Твердолобые колчаковцы возмутились таким «вмешательством во внутренние дела» и даже пошумели об этом в омских газетках. Но не из Омска узнавал мир о Колчаке. Его «имидж» делался не в России. На союзников по мере сил нажимало «Русское политическое совещание» в Париже, то есть один из белоэмигрантских центров, где заправляли энес Н. Чайковский, вездесущий Б. Савинков и «посол» (назначенный еще Временным правительством) В. Маклаков. Они же подготовили и «Ответ Колчака», на который тот дал согласие, правда, с некоторыми оговорками – изображал «независимость».
Впрочем, не только изображал, но и в самом деле верил. Давая согласие на публичный «демократический» ответ союзникам, Колчак полагал, что на практике все будет иначе, и неофициально не скрывал от западных представителей своих подлинных намерений. Как-то у него собралось несколько близких генералов и речь зашла о ноте союзников и ответе адмирала.
«– Ну, я им ответил, какой я демократ, – сказал Колчак и засмеялся. – Во-первых, я им ответил, что Учредительное собрание или, вернее, Земский собор я собрать намерен, и намерен безусловно, но лишь тогда, когда вся Россия будет очищена от большевиков и в ней настанет правопорядок, а до этого о всяком словоговорении не может быть и речи. Во-вторых, ответил им, что избранное при Керенском Учредительное собрание за такое не признаю и собраться ему не позволю, а если оно соберется самочинно, то я его разгоню, а тех, кто не будет повиноваться, то и повешу! Наконец, при выборе в настоящее Учредительное собрание пропущу в него лишь государственно здоровые элементы. Вот какой я демократ! – И адмирал снова рассмеялся…»
Это не попытка исторической «реставрации». Это – цитата из воспоминаний генерала М. А. Иностранцева, одного из участников того разговора. Они были опубликованы в 1926 году в берлинском журнале «Белое дело». Яхонтов, прочтя эти откровения, понял, что тогда, в девятнадцатом, им всем просто морочили голову. Потому что официальный ответ Колчака был совсем иной и союзники выразили полное удовлетворенно демократическими перспективами, которые намеревался открыть для России ее «верховный правитель». И Яхонтов заглотнул эту блесну. Да к тому же пришло личное письмо от генерала барона Будберга. Тот не усидел в тихом Харбине и теперь служил у Колчака управляющим военным министерством.
И Виктор Александрович через «русское посольство» в Вашингтоне, то есть через «посла» Бахметьева и своего старого приятеля военного атташе полковника Николаева, послал по всей форме прошение о приеме его на службу. Бумага пошла в Омск, но там она была встречена враждебно, и вот почему.
Управляющий военным министерством Будборг дал наилучшую характеристику просителю, по не все разделили его мнение. Управляющий министерством иностранных дел Сукин мгновенно вспомнил, как в Вашингтоне чудаковатый генерал молол какой-то вздор насчет того, что нечего иностранцам совать нос в русские дола. Исповедовать такие взгляды в колчаковском Омске, резонно посчитал Сукин, было бы просто комично. Со своим мнением он обратился к боссу, каковым (не вслух, естественно) считал американского представителя Билла Донована. Билл со своей феноменальной памятью отлично помнил все, что говорил Яхонтов тогда в клубе. Идеалист, не понимающий азов политики, – таким воспринял русского генерала Билл Донован. Сейчас здесь он был бы ему совсем некстати.
Билл считал, что развитие событий позволит вскоре исправить историческую несправедливость и отторгнуть от Московии захваченную ею Сибирь – богатейший край, который эти русские полудикари не сумели освоить за триста лет и никогда этого не сумеют. Донован тщательно готовился к своей нынешней работе и прочел кучу книг по истории. Он пришел к выводу: правы те специалисты, которые считают, что в интересах США и других цивилизованных государств Россию следует расчленить. Пусть будет маленькая бессильная Эстляндия, какая-нибудь жалкая Белоруссия, варварская Хива, опереточная Козакия. Разумеется, он не высказывал таких идей в беседах с Колчаком и другими русскими. Но про себя он часто мечтал о блестящих перспективах, которые откроются, когда Сибирь будет принадлежать Соединенным Штатам. Билл вспоминал также, как в Нью-Йорке они беседовали на эту тему с умнейшим, глобально мыслящим человеком – молодым талантливым юристом по имени Джон Фостер Даллес.
Одним словом, в свете тех перспектив, которые открывали для России дальновидные поборники исторической справедливости Донован и Даллес, русским националистам да еще либерального толка здесь делать было нечего. Нельзя брать Яхонтова на службу. Но Билл недаром считался хорошим работником. Как иностранец – пока иностранец, – он останется за кулисами, а на авансцену, то есть к верховному правителю, за которым будет последнее слово, надо выставить русского. Билл подумал и решил, что это мог бы сделать его новый приятель, молодой полковник с невероятно трудной фамилией Панчулидзев. Тут совершенно кстати оказалось, что тот сам знавал Яхонтова и терпеть его не может.
– Он же из синагоги Керенского! – взревел полковник. – Из этой иудо-масонской шайки!
Колчак ненавидел масонов и евреев, в которых он с маниакальной убежденностью видел все зло мира. И на доклад Панчулидзева, что к ним на службу просится иудо-масон из шайки Керенского и Верховского, тип, который сейчас в Америке путается с тамошними красными, верховный правитель ответил раздраженно. Тем более он и сам, чего не знали его приближенные, помнил свой визит к Яхонтову в Токио в прошлом году, отчужденный разговор и практически полное несовпадение взглядов.
После обкатки в канцеляриях ставки и посольства отказ принял более вежливую форму. Яхонтову сообщили, что в принципе против его возвращения на службу возражений нет, но предлагали оскорбительно низкую должность, на которую он согласиться не мог. Этот ответ Виктор Александрович получил в конце сентября 1919 года. Он понял, что омская власть никогда не забудет и не простит ему «служение Керенскому» и пути домой нет.
Но история с попыткой поступить на службу к Колчаку имела для Яхонтова другие весьма долговременные последствия. Полковник Смайли, например, незамедлительно приобщил к досье на Яхонтова всю эту историю. И преемники Смайли, которым в дальнейшем приходилось не единожды всматриваться в политический облик странного русского генерала, каждый раз с удовлетворением отмечали, что Яхонтов хотел примкнуть к Колчаку.
Ну, а полковник Панчулидзев через три десятка лет по рекомендации Билла Донована стал работником ЦРУ…
Без руля и без ветрил
Паутиной обволакивало Яхонтова сознание своей неприкаянности, ненужности, нравственной неустроенности. Кто он? Не белый (он же ни дня не сражался «за белое дело»), но и не красный. Сторонится эмиграции с ее сварами и дрязгами, по и не порывает открыто с прошлым, с Россией, не становится на путь ассимиляции, растворения в Америке. Хотел бы на Родину, по его не пустят туда ни белые, ли, надо полагать, красные. Где, с кем, как и сколько ему еще жить с клеймом «сподвижника Керенского»? Он мучился, маялся, метался, хватался за что попало. Занялся вдруг… проблемами кооперативного движения. Тогда за рубежом еще сохранялись остатки дореволюционных российских организаций, порой имевшие деньги на счетах и потому способные функционировать. Действовали в Америке и старые русские кооператоры. Один из них случайно познакомился с Яхонтовым. Но предоставим слово самому Виктору Александровичу. В этом отрывке из его воспоминаний важны и слова, и сама тональность.
«Это было трудное время для меня. Контрреволюционные эмигранты из России (заметьте – это из книги, изданной в 1939 году в США. – Авт.) имели уши в Вашингтоне. Лучше было держаться подальше от русских и американских официальных кругов. Чтобы убить время, я принял приглашение одного представителя старого русского кооператива присоединиться к нему в поездке на Средний Восток, где он хотел наладить сотрудничество с кооперативным движением в Америке. Мы поездили по зерновым элеваторам Миннесоты, в Мичигане посетили ассоциации производителей картофеля, в Висконсине – объединения сыроделов, в Иллинойсе изучали деятельность фруктовых бирж. Благодаря этому мои мысли на время оказались заняты иными проблемами, нежели революция в России и иностранная интервенция. Но ненадолго».
Да и могли ли фруктовые биржи Иллинойса, несмотря на свою блистательную деловитость и организованность, отвлечь русского генерала от сообщений с Родины, где ситуация беспрерывно менялась, причем вопреки всем прогнозам. Еще раз десять или двадцать сообщила «Нью-Йорк таймс» о крахе большевистского режима. А он, режим, как сжатая до предела пружина, начал распрямляться, как бы повторяя в невероятно ускоренном темпе многовековой процесс образования великого Российского государства. Уже весь центр и север Европейской России были в руках большевиков. Откатывался к югу Деникин. На рождество Красная Армия вышибла его из Ростова. Агонизировала «Колчакия», сам верховный правитель был схвачен и расстрелян. В Одессе восстали французские моряки – они отказывались воевать против большевиков. Уходили англичане, которым так и не удалось захватить Баку. Зря сэр Генри Детердинг, нефтяной король, скупил множество акций бакинских нефтепромыслов у русских капиталистов, «временно» обретавшихся в Париже…
Но война еще далеко не кончилась. В Дальний Восток вцепились японцы, в Крыму сидел Врангель, и наконец, на соединение с ним уже весной двадцатого ринулись, захватив Киев, поляки. Советско-польская война вызвала дикий восторг приунывшей было белоэмиграции. Уже чудилось, как в обозе ясновельможных панов въедут наконец-то в свои особняки и поместья их владельцы, засидевшиеся в Париже и Праге, в Харбине и Софии, в Белграде и Нью-Йорке. Яхонтова поразило, как улюлюкали нью-йоркские беженцы от революции. Как желали победы полякам ярые русские националисты, как молили они бога, чтоб скорее пала Москва под ударами польского войска. Господа, взывал Яхонтов, одумайтесь, о чем вы молитесь! Чего вы хотите? Тушинского вора, Гришки Отрепьева, Марины Мнишек себе в императрицы? Но националистам, монархистам, кадетам, либералам было плевать на исторические параллели, они хотели вернуться в свои особняки и имения. Не лучше вели себя и левые. Да, и левые. Бежавшие за океан «борцы за свободу», за революцию («прекрасный лик которой исказили большевики»), они рвали друг у друга газеты, впивались в строчки – когда же, когда же наконец вразумит Польша сбесившуюся Россию, когда подомнет ее, как быдло, когда можно будет им, либералам и левым, вернуться домой. А беглые офицеры чертили на салфетках в нью-йоркских забегаловках кратчайшие пути, которыми поляки могли бы дойти до Москвы…
И тут сказано было слово, которое услышано было во всем мире. К русским офицерам, «где бы они ни находились», оттуда, из красной Москвы, обратился не кто иной, как авторитетнейший из генералов, величайший из полководцев мировой войны, известный всем своей безупречной честностью Алексей Алексеевич Брусилов. Как будто своими ушами слышал он споры в парижских кафе, как будто сам лично видел эмигрантских стратегов, чертящих тростями стрелы на песочке белградских парков. Стыдитесь, господа, отрекаться от родины и тем более идти против нее, взывал Брусилов. Остановитесь, одумайтесь. Россия спросит с вас за дела ваши. История спросит. Прославленный полководец призывал офицеров идти в Красную Армию.
…Сейчас уже никто не скажет, сколько людей спас Брусилов своим призывом. Многие действительно пошли в Красную Армию. А среди эмигрантов было много таких, которых Брусилов удержал от внутреннего, духовного разрыва с Родиной.
Яхонтов мог считать себя с Брусиловым (перед которым преклонялся) полным единомышленником: ведь он тоже выше всего ставил интересы Отечества, которое они, воины, должны защитить от врагов. Но Брусилов-то на Родине, а его, Яхонтова, мотает черт знает где. Кооперативы сыроделов и картофелеводов… Потом – скучная, ничего не дававшая ни уму ни сердцу служба в убогом издательстве «Оверсиз энтерпрайз». А потом, помимо своей воли, он втянулся в довольно-таки сомнительное предприятие.
Дело было так. Виктору Александровичу позвонил и на чистом русском языке попросил о встрече американец – методистский священник доктор Геккер. Ему попалась книжечка Яхонтова «Беседы по русской истории», и он хотел предложить ее автору работу. Геккер родился в России, где служил его отец, хорошо знал русский.
Во время войны Геккер, ставший одним из секретарей Американской ассоциации христианской молодежи (ИМКА), познакомился в Швейцарии с известным просветителем Рубакиным. Они предприняли благородную акцию – совместно издали несколько книжечек для русских военнопленных. Ассигнованные для этого фонды еще не были исчерпаны, и теперь доктор Геккер задумал выпускать книги для Советской России, которой, полагал он, пока не до книгоиздательства. Звучало все весьма невинно: политические вопросы исключаются, речь идет о науке, технике, сельском хозяйстве и т. д. ИМКА предлагала Яхонтову стать директором еще не существовавшего издательства и управляющим типографией. В какой стране располагаться – на его усмотрение.
Яхонтов согласился. Выбрал он Чехословакию, где легко найти наборщиков и другой персонал для работы с русскими текстами, дешевле была и пересылка книг. И вот Яхонтов и заместитель генерального секретаря ИМКА мистер Хиббард отправились в Европу.
В Праге все шло гладко. Власти новой республики были не против американской затеи. В профсоюзе печатников Яхонтову сказали, что проблем с персоналом не будет. Были хлопоты с машинами (Виктор Александрович научился сам собирать и разбирать линотипы), с пошлинами, со зданием и т. д. и т. п. – как всегда, когда создается новое предприятие. Потом плыли в Америку завершать некоторые дела. Яхонтовы простились с Нью-Йорком, со всеми новыми друзьями (а с друзьями всегда расставаться грустно), и вот они возвращаются в Старый Свет. Не очень уж долго жили они в Америке, а столько произошло событий! Но все о’кей, как говорят американцы. Теперь они будут жить в Европе, в славянской стране, а главное – делать доброе, полезное дело для Отечества. Но еще не усвоил тогда Яхонтов, что кто платит, тот и заказывает музыку.
Пришлось начать работу совсем не с того, что казалось нужным и важным наивному русскому директору (кстати, оказалось, что директоров-то два; вторым или, вернее, первым был американец мистер Нидергаузен, секретарь ИМКА). Начали с Библии. Об этом договорился сам генеральный секретарь ИМКА мистер Мотт с нью-йоркским митрополитом Платоном. Платон не признал власти московского патриарха и объявил русскую православную церковь в Соединенных Штатах автокефальной. Но идею Мотта издавать священное писание для жителей Совдепии, изнывающих под игом атеистов и евреев, он одобрил. Возражать против Библии Яхонтов, естественно, не стал. Но его надежда на то, что дальше издание книг будет находиться в компетенции его самого и такого просвещенного и почтенного человека, как доктор Геккер, тоже оказалась иллюзией. И снова решали за его спиной.
Скандал возник из-за написанной по заказу доктора Геккера книги Бирюкова, который был дружен со Львом Николаевичем Толстым. Автор написал, что, доживи до наших дней гениальный писатель, он бы, наверное, поддержал большевиков. Среди белоэмигрантов поднялся шум. Они сообщили «тем, кому следует», о крамоле, выпускаемой на русском языке американским издательством. Яхонтову удалось потом узнать, что особо неистовствовал Борис Бразоль. Этот белоэмигрант, патологический антисемит, издававший в России «Протоколы сионских мудрецов», процветал в Америке, власти к нему благоволили. Яхонтов чувствовал к Бразолю гадливое отвращение… И «откуда следует» поступил приказ – книжку Бирюкова уничтожить. Тираж был сожжен.
Разумеется, это было исключением. А так – линотиписты набирали, печатники печатали, учетчики учитывали продукцию издательства, которая поступала пока на склад. Советская Россия не жаждала читать то, что ей готовили доброхоты из ИМКА. Но те знали, что делали. На Советскую Россию надвигался голод, и «добрые» американские дяди во главе с министром торговли Гербертом Гувером спешили оказать помощь несчастным. При этом в Вашингтоне, где Гардинг сменил Вильсона в президентском кресле, готовили план «Инкуайри». Под прикрытием продовольственной помощи американский империализм хотел обеспечить себе свободу рук внутри Советской России, в том числе и в сфере идеологии. Вот в каком контексте нужно рассматривать организацию пражского издательства. Были, конечно, и по-настоящему, без кавычек добрые американцы. Тот же доктор Геккер поехал в Россию и оказывал страждущим медицинскую помощь. Но, как видим, не он заправлял в ИМКА.
Между тем время шло, рассеивались очередные иллюзии, и Яхонтовы вскоре убедились, что в Европе, даже в славянской ее части, эмигрантское безумие ничуть не менее патологическое, чем в Америке. Причем здесь, в Праге, оно было гораздо заметней, чем в гигантском многоязычном вавилоне Нью-Йорка. В числе рабочих Яхонтов нанял одного русского, с которым когда-то в 10-й армии воевали на фронте. Это был бывший жандарм. Левые из эмигрантов обвинили Виктора Александровича в «сотрудничестве с контрреволюционерами». Но сильнее звучали в его адрес обвинения противоположного рода.
В Праге Яхонтов поддерживал хорошие отношения с несколькими эсерами. Однажды, будучи в гостях у своего старого знакомого, генерала Шокорова, он оказался в компании двух эмигрантских знаменитостей – Брешко-Брешковской и Керенского. С бывшим главой Временного правительства Яхонтов даже сыграл несколько партий в крикет. Любопытно заметить, что это была последняя встреча Виктора Александровича с Александром Федоровичем. Потом они оба долго жили в США (Керенский умер в 1970 году), но никогда не виделись и не стремились к тому. Даже когда Яхонтов бывал в Пало-Альто, штат Калифорния, где Керенский жил и работал в библиотеке Гувера, они не встретились ни разу. Но та встреча на пражской вилле генерала Шокорова дорого обошлась Яхонтову. Это стало широко известным и вызвало бурю негодования со стороны правых. И было ничуть не легче от того, что такому же суду то с одной, то с другой стороны подвергались все эмигранты. Яхонтов физически ощущал, как эмигрантская атмосфера накаляется, насыщается электричеством ненависти, взаимных подозрений, обвинений одних групп другими в том, что именно они прозевали, проворонили, погубили, предали, отдали, выдали, проиграли, проспали, упустили Россию.