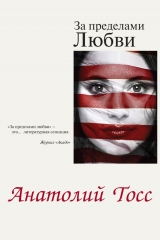
Текст книги "За пределами любви"
Автор книги: Анатолий Тосс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Второй, долговязый, уже пришел в себя, поднялся с земли и, задирая ноги, медленно перелезал через сетку.
– Мы играли в теннис. На счет. Не надо играть на счет, если не можешь держать удара, – снова проговорил Во-Во, так и не опуская руки.
– Я играю на счет! – закричал парень, и лицо его раскраснелось. – Я-то играю, и никто никогда, слышишь? Никогда не бил специально в соперника, особенно у сетки. Потому что можно нанести травму, понимаешь?
– Значит, мы играли в разные игры, – только и заметил Во-Во.
– Фак, ты, мужик, меня достал. Откуда он такой взялся? – Парень повернулся к долговязому, который уже перелез через сетку и теперь стоял совсем близко.
– Да французик, похоже, лягушатник, – пожал плечами долговязый. – Он и по-английски говорит с трудом.
– Ты чего, французик, что ли? – переспросил у Во-Во парень. – Парле, силь ву пле? – и он засмеялся своей незатейливой шутке. – Ты чего к нам приехал, мы же вас только что освободили?
– А может, он славянин, – предположил долговязый. – Гляди, Том, у него акцент, похоже, славянский, польский или русский.
– Кто его знает, – поддержал долговязого Том. – Хотя он больше на французика похож, от него и воняет, как от французика.
Элизабет заметила, как вздулись жилы на правой руке Во-Во, на той, которой он держал ракетку.
– Если вы согласны, что проиграли и игра закончилась, то отойдите. А то…
– Что «а то»? Что ты сделаешь? Вали в свое говенное Бордо или откуда там ты взялся.
– Что «а то»? – подхватил долговязый.
– А то я разотру тебя, как вот этот плевок. – И тут из узкого, длинного рта Во-Во вылетела плотная струйка слюны и, пролетев короткий ярд, хлопнулась собравшейся каплей на спортивный ботинок Тома.
То т не поверил своим глазам. Он так и стоял, ошарашенно пялясь на носок своего тапка.
– Ты чего, мужик?.. – повторил он наконец. – Ты чего?.. У тебя чего, проблемы, ты чего нарываешься? А ну вытри, или мы тебя заставим. Правильно, Макс?
– Ну да, – согласился, хотя и не очень уверенно, долговязый.
– Вытри, – настойчиво повторил парень и оттолкнул выставленную Во-Во руку и сделал еще один шаг вперед.
Элизабет была уверена, что Во-Во сейчас ударит его, она даже сделала инстинктивный шаг назад, зажмурилась, уже содрогнулась от ужаса и дикости того, что неизбежно должно было сейчас произойти.
Но ничего не произошло. Лишь быстрый, торопливый говор долговязого:
– Подожди, Том, давай лучше полицию вызовем. Может, он нелегал, пусть они разберутся. Зачем нам мараться-то? Пусть они его назад в свою Полонию и отправят, или Франконию, или куда там ему полагается.
– Точно, – согласился Том. – От таких надо очищать страну. Давай, сходи за полицией, а я его здесь постерегу. Я уверен, что он нелегал, тут столько этого дерьма понаехало последнее время.
Элизабет все еще стояла зажмурившись, все ждала стремительной, ужасной развязки, но вдруг почувствовала, как сломалось, рухнуло разом напряжение, будто лопнул сильно надутый воздухом шарик. Она увидела, как рука Во-Во, еще секунду назад готовая к удару, ослабла, лицо потеряло отточенность, заостренность, да и вся фигура обмякла, утратила сжатую сбитость.
– Да ладно, ребята, – теперь уже Во-Во отступил на шаг назад, – ладно вам, – повторил он и замолчал, видимо, не зная, как продолжить. Ему надо было сделать над собою усилие, преодолеть себя, у него была всего секунда, не более, и он преодолел.
– Зачем нам ссориться, я случайно, – он кивнул головой на ботинок, на распластанный плевок на нем.
Даже ребята, кажется, опешили от такой неожиданной перемены. Еще мгновение назад им казалось, что драка неминуема, и вдруг их уверенный, напористый противник разом смутился и сник. Они так и не успели понять, почему, что именно произошло. Не поняла и Элизабет.
Она стояла рядом, чуть сбоку, готовая прийти на помощь Во-Во, если вдруг потребуется. Она испытывала странное, непривычное возбуждение, она первый раз в жизни оказалась вовлеченной в конфликт, во враждебную конфронтацию, но Во-Во может рассчитывать на нее, она его не бросит, одного против двоих. Он смелый, мужественный, и как это важно, что рядом есть такой человек, сильный мужчина, который не даст в обиду… Для всех важно, но особенно для девочки, у которой не было отца.
И вдруг такая резкая перемена – почему, зачем? Отчего он сдается, идет на попятную?
– Гляди-ка, Том, а мужик-то сдрейфил, – первым догадался долговязый. – Похоже, он точно нелегал, вон как полиции испугался.
– А может, он еще и преступник какой, – поддержал товарища Том. – Точно, надо сгонять за копами.
Руки Во-Во, большие, жилистые, еще недавно полные напряженной мощи, только беспомощно разошлись в стороны.
– Да что вы, парни? – снова попытался он смягчить ситуацию. – Какой я преступник, какой нелегал? Вон у меня и документы в кармане, и права автомобильные. Вот, смотрите. – Он полез в задний карман брюк, суетливыми пальцами расстегивая на нем пуговицу, извлекая вчетверо сложенную бумажку. Но она ребят, конечно, не интересовала.
– Да хрен с тобой, – оттолкнул его руку с бумажкой Том, – ты лучше ботинок вытирай. Сам обгадил, сам и вытирай.
«Не может быть», – успела подумать Элизабет, хотя уже знала, что вот сейчас Во-Во наклонится, присядет на корточки и оботрет ладонью пыльный, действительно обгаженный ботинок. И она не ошиблась. Во-Во торопливо порылся в кармане, в том, заднем, где лежали права, пытаясь, видимо, отыскать салфетку или носовой платок, но не нашел, потом в другом кармане – там тоже ничего не было. И тогда он и в самом деле присел на корточки к ногам удивленного легкостью победы Тома, склонился над выставленным вперед ботинком и ладонью провел по запыленной, мокрой коже, отчего на той осталась длинная темнеющая влажная полоса. Потом он посмотрел, насухо ли вытер поверхность ботинка, и то ли из присущей ему добросовестности, то ли из желания угодить провел ладонью еще раз, и влажная полоса расширилась, как будто ботинок начали чистить, но не закончили.
– Похоже, он был чистильщиком сапог у себя в Бордо, – засмеялся долговязый. – Языком еще лучше бы вылизал. И не только ботинки. – И он захохотал, довольный своей шуткой.
То м тоже засмеялся, но не так жизнерадостно, ему вдруг стало неприятно, что взрослый мужчина так легко сломался и что он, Том, в принципе незлой парень из приличной семьи, заставил унизиться другого, пусть и неприятного, пусть и неподатливого человека. Да еще на глазах у его совсем молоденькой, слишком худой, но все равно симпатичной дочки. И неразборчивое, шершавое раздражение поднялось в нем, оставляя жесткий, царапающий осадок.
Во-Во наконец поднялся с корточек, его тело заметно всколыхнулось и вздрогнуло от лишь частично вышедшего наружу натужного вздоха. Он снова развел руками.
– Ну что, теперь больше никаких обид? Все в порядке, да?
– Все в порядке, – согласился сразу погрустневший То м и первый повернулся в сторону скамейки, подхватил сумку и побрел с корта. Долговязый потянулся за ним, лишь пару раз обернувшись на них, на Элизабет и Во-Во, одиноко и беспомощно оставшихся стоять на разом опустевшем корте.
Во-Во повернулся к девочке, он попытался улыбнуться ей, но у него не получилось – так, жалкое подобие усмешки промелькнуло на искривленных губах.
– Ну что, может, поиграем еще немного? – предложил он неуверенно, сам понимая бессмысленность сказанного.
Потом они шли по дороге к дому, разом ссутулившиеся, с тяжелыми, болящими в мышцах ногами, как будто усталость, два часа кряду отгоняемая на корте, сейчас разом навалилась на них, подминая. Они молчали, Элизабет смотрела под ноги, умышленно избегая взглядов Во-Во, которые он то и дело, она чувствовала, бросал на нее. И от его побитого, виноватого взгляда ей становилось неловко, даже неприятно. Поэтому она еще ниже опускала голову к земле, сосредоточенно, слишком внимательно глядя себе под ноги – только чтобы не видеть сейчас его, этого упавшего в грязь, пошлого, маленького человечка, который еще совсем недавно казался ей большим, сильным, гордым… Почему?! Почему?! И она снова сглатывала накопившийся в горле комок, слишком твердый и колкий, с соленым привкусом мелкой дорожной пыли, так и забивающей нос, глаза, рот.
– Я не мог, понимаешь, не мог, – проговорил Во-Во глухо, казалось, откуда-то издалека. – У меня временная виза, и если возникнут проблемы с полицией, мне ее не продлят. Они ведь только ищут повод, к чему придраться, и вышлют меня при первой возможности. Понимаешь?
Он замолчал и снова смотрел на нее, и ее щека начинала нестерпимо гореть.
– Ага, – ответила она, провожая внимательным взглядом каждый камушек на дороге. Это она сейчас придумала такую игру – тот камушек, который будет самый круглым, тот она и поднимет и бросит, как бейсбольный мячик, в ствол одного из стоящих вдоль дороги деревьев. Интересно, попадет она или не попадет?
Они прошли еще минут пять молча, их улица уже была вот за тем, ближайшим поворотом, когда его голос из ватной толщины достиг ее слуха.
– Лизонька, пойми, я не могу уехать, не могу вернуться. – Теперь в его голосе помимо жалости была еще и мольба. – Пойми, там все сожжено полностью: ни людей, ни домов, ни земли, и моя жизнь там сожжена. Я спасся, я убежал, но у меня больше нет прошлого, оно уничтожено. Я могу существовать только здесь, только отделенный от прошлого тысячами миль. Понимаешь? Особенно сейчас, когда у меня появились вы – ты и твоя мама. Понимаешь, я не могу вернуться назад, никак, ни за что…
Она больше не могла выискивать глазами камушки на дороге, они все казались ей одинаково круглыми, такими же круглыми, как набухшая, но не выкатывающаяся, почему-то застрявшая капля в глазах. Ей не было жалко его, да она и не разбирала, что он говорит, она слышала лишь причитания, мольбу, и они были ей противны, брезгливо неприятны, будто ее заставляют касаться чего-то холодного и скользкого. А он все вглядывался в нее, идя рядом, стараясь обогнать, забежать вперед, заглянуть в глаза. В которые не должен был заглядывать.
– Понимаешь? Ты понимаешь, Лизонька? – продолжали суетиться вокруг нее слова.
– Конечно, – кивнула она, слава богу, до дома оставалось совсем немного.
Все же он забежал вперед, попытался взять ее за руку, но она инстинктивно отдернула ее, и он наверняка все понял, нельзя было не понять, и ушел к себе, в свой коттедж, в котором продолжал жить все эти месяцы с момента появления в их с мамой доме. В их с мамой жизни.
А Элизабет поднялась на второй этаж и заперлась в своей комнате. Она сбросила спортивные туфли, сняла носочки, горящими от усталости ступнями с удовольствием коснулась прохладного пола. Потом легла на кушетку, разбросав руки в стороны, и стала рассматривать невысокий белый потолок, выискивая неровности в наплывах старой краски. Потом потолок надоел своей однообразной белизной, и она повернулась на бок, положа под щеку ладонь, и теперь разглядывала комод, стоящий у противоположной стены, как будто видела его в первый раз.
«Как он мог? – продолжала Элизабет перебирать в голове несколько простых слов, переставляя их в незамысловатом порядке. – Как он мог так унизиться перед какими-то мальчишками?! Он ведь изменил себе! Да что там себе! Он изменил ей, Элизабет, которую слащаво называл на свой лад Лизонькой. А она, дура, она ведь приняла его всерьез, она-то думала, что он ради нее действительно на все готов. Да и она сама, она ведь тоже была готова, она бы заступилась за него там, на корте. А если бы его избили и он не мог бы ходить, она бы тащила его на себе до дома».
Тут она представила, как именно она бы тащила его, как тяжело ей было бы, как опирался бы он на ее плечо. Она видела такое в военных фильмах, так санитарки выносят раненых с поля боя. Ей бы было непосильно тяжело, она бы надрывалась, плакала, но несла. А там, дома, она бы сначала обтерла его краем смоченного полотенца…
Тут Элизабет сама не заметила, как ноги ее подогнулись в коленках и глаза, не закрываясь, совсем безучастно остановились на железом замке комода, она лишь чувствовала, как ветер из открытого окошка колышет легкую, белую занавеску, как та прогибается округлыми складками под неровным порывом. Точно так же внутри ее что-то прогибалось от такого же округлого, складчатого напряжения, и трепетало, и пыталось найти выход, но никакого выхода не было, кроме одного, оставшегося.
Потом она, наверное, задремала, но ненадолго, а потом снова лежала, хотя липкая сырость захватывала верхнюю часть ног, и пора было в душ, чтобы смыть ее теплой водой вместе с соленой потной пылью.
Там, в душе, она снова подумала, как низко он пал, как изничтожил себя. Она закрыла глаза под ласковыми струями теплой воды – это было совсем легко. Память тут же вернула недавнее: он, скорчившись на коленях, проводит ладонью по ботинку, а потом не знает, что делать с испачканными мокрыми пальцами, и так и не решается вытереть их о брюки. Почему-то именно от этой испачканной ладони ей стало особенно противно. Нет, она уже никогда не сможет относиться к нему, как прежде, так доверчиво, так «по-настоящему». Ей понравилось слово, и она стала повторять: «Я относилась к нему по-настоящему. А он оказался мелким, жалким, ничтожным. И все, что он мне рассказывал, все было неправдой. А я ведь относилась к нему по-настоящему».
Она упрямо повторяла одно и то же, стараясь не плакать, стараясь вычеркнуть, вывести его, как грязное пятно, из себя, из своей души, оттуда, куда она его так доверчиво впустила. Вычеркнуть! Надо вычеркнуть!
С тех пор она переменилась к нему: не заходила в комнату, которую он ремонтировал, не сидела, как прежде, вечерами на кухне, где мать продолжала пить с ним кофе. Элизабет даже не интересовалась, выходит ли фреска, даже ни разу не посмотрела на нее. Она и с ним старалась больше не встречаться, а когда случайно сталкивалась, уже не могла назвать его по имени, а кивала равнодушно, будто постороннему.
Дине же она заявила, что у нее много уроков, да и занятия в школьном театре отнимают время, и она больше не может, да и не хочет принимать участия во всем этом. Она так и сказала «во всем этом», специально не уточняя, даже развела руками для наглядности.
Мать как-то слишком быстро и слишком согласно кивнула.
«Неужели она все знает? – думала Элизабет. – Не может быть, чтобы он сам рассказал ей о своем унижении. А если рассказал, то значит, он не стыдится ее. А если не стыдится, то значит, они вдвоем переступили стыд…» Элизабет догадывалась, пусть смутно, что стыд можно переступить, только когда возникает близость. Какая именно близость, она догадывалась тоже. Так в ней и закралось подозрение.
Она не шпионила, не караулила, просто стала более чуткой, более внимательной. Например, вечером, прощаясь перед сном, по привычке целуя мать в щеку и лишь у самого выхода кивнув тому, другому, она недвижимо замирала сначала в холле, потом на лестнице и напрягала слух, пытаясь уловить хотя бы обрывки фраз. Но взрослые на кухне долго молчали, видимо ожидая, когда заскрипят ступеньки лестницы, и их взаимный сговор вызывал жгучую обиду, как будто ее снова предают, но на этот раз мать. Подозрение тут же усиливалось – ведь сговор возникает только у договорившихся, сблизившихся людей.
Однажды она все же не вытерпела. Проскрипев ступеньками лестницы наверх, нарочито хлопнув дверью спальни, Элизабет через несколько минут как можно тише приоткрыла дверь и выскользнула наружу, чтобы на носочках, медленно-медленно, едва ступая, спуститься вниз.
Она была уверена, что раскроет этот ужасный заговор, что застанет мать врасплох. Сначала, затаившись в холле, она будет долго подслушивать их разговор. А потом неожиданно появится в проеме двери, и как же будет забавно наблюдать за их изумленными лицами! Тогда мать наверняка поймет, как это подло – сговариваться против дочери. Особенно с посторонним, по сути, чужим человеком.
Но ее ждало разочарование – дверь на кухню была плотно закрыта, ни щелочки, ни обрывка звука. Очевидно было, что эти двое на кухне хотели отгородиться именно от нее. Элизабет снова стала подниматься по лестнице, уже не обращая внимания на скрип ступенек. Тут же подступили слезы, подкатились к глазам, предательство матери было так очевидно, что, обессиленно рухнув на кровать, перестав сдерживать себя, Элизабет разрыдалась.
Впрочем, прошло совсем немного времени, и все раскрылось.
В ту ночь Элизабет почему-то проснулась – то ли слишком ярко светила луна на безоблачном, почти беззвездном небе, то ли было душно и маленькое, хоть и поднятое до упора окно не давало ночной свежести проникнуть в застоявшийся комнатный воздух.
Элизабет пролежала несколько минут на кровати, глядя через поднятую фрамугу окна наружу, и почему-то ее охватило беспокойство. Беспокойство разрасталось, ночь давила безмолвностью, хотелось пить, тело подернулось легкой, влажной испариной. Элизабет даже не знала, который сейчас час, она поднялась с кровати, надела длинную, до колен майку на узкие плечи, стала спускаться вниз. Уже на лестнице ее удивила мертвая тишина ночного дома, он казался брошенным, необитаемым. Дверь на кухню была открыта, но кухня ничем не отличалась от остального дома – такая же темная, безжизненная, отчужденная.
Элизабет налила себе воды из крана, она была теплая, слишком пресная, но от нее стало немного лучше, не так пугающе одиноко. Потом Элизабет снова побрела к лестнице, снова поднялась на второй этаж, подошла к спальни матери, толкнула дверь, та поддалась легко, без напора. В комнате никого не было, все те же мрачные, кажущиеся из-за темноты слишком большими, тяжелыми, слишком расплывчатыми предметы мебели, словно кто-то накрыл их толстой, сглаживающей контуры материей.
Элизабет стало не по себе.
– Мама, – позвала она и снова: – Мама!
Никто не отзывался, стояла все та же глухая, ошарашивающая, подступающая к самым ступням, карабкающаяся по ним, по ногам, по телу к самому горлу пустота ночного дома. Гд е мама, куда она исчезла? А что, если с ней случилось что-нибудь? Ведь может случиться все что угодно!
Так же осторожно, словно боясь растревожить прислушивающуюся к шагам тишину, Элизабет снова спустилась по лестнице вниз, заглянула в гостиную, в столовую, подумала, а не спуститься ли в подвал, решила, что лучше не стоит. Вместо этого она подошла к входной двери, потянула – дверь оказалась не заперта. Тоже странно, обычно дверь всегда запиралась на ночь.
Уже на веранде ночь предстала перед Элизабет во всей красе. Полная, до неприличия большая луна раскрашивала желтым кусок неба. Цвет сгущался и менял оттенки, смешиваясь сначала с темно-синим, а потом с черным, начинал вязнуть в нем, создавая приглушенный отблеск, – она вообще была слишком обнаженная, эта луна, слишком выпуклая, будто бесстыдно предлагала себя. И оттого, наверное, лужайка перед домом выглядела таинственной и загадочной и приглашала на свои запутанные ночные дорожки.
Элизабет, как была в длинной ночной рубашке, босиком спустилась с веранды и ступила на влажную от росы траву, сделала еще несколько неуверенных шагов, а потом совсем замерла. Слева у коттеджа заливавший поляну лунный свет отступал под напором другого света – тоже желтого, но более жесткого, навязчивого. В нем было значительно меньше оттенков, в этом свете, он был упрощен до грязно-желтого, искусственного, создающего много ненужных, тоже искусственных теней.
Так оно и было: из бокового окна коттеджа расползался едкий, фальшивый, лицемерный электрический свет, он словно ничего не хотел освещать, а наоборот, хотел все утаить, сохранить в секрете.
Элизабет скользнула по траве, собирая ступнями росистую, освежающую влагу, подошла к дому, пригнулась перед окном, а потом, припав к стене, едва-едва, одним глазком заглянула внутрь.
Напрасно она осторожничала. Окно было приоткрыто, белая занавеска отодвинута в сторону, старый медный торшер с матерчатым желтым, усиливающим электрический свет абажуром неровно освещал комнату. Но в ней никого не было – пустое, совершенно равнодушное пространство. Элизабет подумала, что легко могла бы вскарабкаться на невысокий подоконник и влезть внутрь, она даже оперлась руками на выступ, подпрыгнула, подтянулась, закинула ногу, но тут же соскочила бесшумно, упруго, как кошка, приземлилась в прохладную траву. Там, внутри комнаты происходила какая-то зажатая возня, будто двигали мебель, но тихо, чтобы не услышали, приподнимая поочередно один бок за другим, перемещая по сантиметрам.
Элизабет прислушалась. Точно, в соседней комнате, совершенно темной, застывшей в темноте, что-то происходило: то хлопало оставленное открытым на сквозняке окно, то раздавался скрип несмазанной двери, то скрежет вынимаемого из дерева ржавого гвоздя. Но все как-то приглушенно, будто через плотную, поглощающую звук тряпку.
Отчетливая, острая, как игла, догадка уже уколола волнением сердце Элизабет, она услышала, как исступленно громко, намного громче, чем звуки, доносящиеся изнутри, забилось ее сердечко, она даже испугалась, что это услышат в доме.
Еще тише, чем прежде, лишь касаясь кончиков травинок, она подкралась к соседнему окну. Долго стояла у стены рядом, боясь заглянуть внутрь, боясь, что либо обезумевшее сердце, либо неровное, шумное дыхание выдадут ее. Звук изнутри стал отчетливее, он уже не сливался в один неразборчивый, механический скрежет, он распадался на куски, очеловечился – вот процедился вздох, в конце его выскользнуло и забилось отчетливое, растянутое, высокое «и». Потом опять вздох, точно такой же, с таким же выдавленным, живым, дрожащим окончанием, потом опять, почти неотличимый, и еще, и еще, как будто заела и закружилась окольцованная в воздухе звуковая фраза без окончания, без продолжения.
И вдруг где-то в середине, вдогонку, разбрасывая на ходу в стороны ритмичные вздохи, вырвалось совсем иным звуком, коротким, плотным, долго сдерживаемым, зажимаемым. «Т-а-а-к» – накрыло сверху и замолкло, и снова одиночный, сдавленный, очень грудной, и теперь понятно, что женский вздох с неестественным, слишком высоким по звучанию «и», оборванным на середине, как будто забыв про смычок, дернули пальцем по самой нежной скрипичной струне.
Элизабет набрала в грудь больше воздуха, чтобы не надо было то и дело заглатывать его внезапно высохшими губами, и медленно двинулась влево, к самому краю приоткрытого окна. Когда она проскользнула, прижавшись к серо-зеленой от ползущих лунных лучей стене дома, и остановилась на черном, уходящем чернотой внутрь проеме окна, она замерла. И застыла как вкопанная – застыло ее дыхание, разом онемевшие ноги, руки, шея.
Из глубины небольшой комнаты в ярде, не больше, на нее смотрела мать. Вернее, смотрела не на нее, а сквозь нее – настолько бессмысленным, остановившимся был Динин взгляд, будто он заплутал, потерялся, полностью лишился основы. Глаза были выпучены, шарообразны, и поэтому, наверное, вылезшие из орбит, они ничего не в состоянии были различить, да и не пытались. Можно было подумать, что это мертвые глаза, если бы они редко, обрывчато не моргали, но вздрагивающие, хлопающие ресницы создавали впечатление еще большей искусственности – будто у куклы, которую то поднимают вверх, то снова кладут навзничь.
Сначала Элизабет ничего не замечала, кроме этих ненатурально раскрытых, ничего не видящих глаз, все остальные черты терялись, вышли из фокуса, но потом Динино лицо отступило, немного разгладилось в перспективе. Постепенно Элизабет отделила дрожащую улыбку, подергивающую Динины губы, их уголки ходили в каком-то мелком, едва различимом ритме. Так же, как и во взгляде, в улыбке была шальная отрешенность, что-то потустороннее, полуобморочное, что-то от той же куклы, которую научили улыбаться.
Тут в глубине комнаты произошел какой-то сдвиг, колебание, и улыбка стремительно слетела с Дининого лица, он вдруг исказился мучительной гримасой, но не мгновенной, скоротечной, а длительной, размазанной во времени, как медленно и плавно размазывается масло. Губы отошли, оттопырились, открывая плотно сжатые зубы, даже сейчас в ночи, в ее лунном свечении, отчетливо белые, потом и они приоткрылись, будто пытались что-то сказать, но успели лишь прихватить нижнюю губу – плотно, до остервенелого напряжения, до очевидной, раскидистой боли.
Взгляд Элизабет заскользил по лицу матери, останавливаясь на мелких влажных бусинках, покрывающих не только ее лоб, но и нос и щеки. Их было много, этих бусинок, несчетно, и они были совсем ничтожные, с игольное острие, Элизабет и не заметила бы их, если бы они не отражали желтовато-зеленоватый отблеск луны, повторяя его, бесконечно размножая на Динином лице. И только после того как Элизабет смогла вместить в себя их матричное поле, только тогда ее взгляд отступил еще дальше и охватил всю перспективу – едва различимые очертания глубокой комнаты, тени в свете луны, с трудом пробивающей сгустки застоявшейся, пластами сдавленной темноты.
И оказалось, что рядом с окном на уровне подоконника на плоскости письменного стола грудью полулежит Дина, упираясь в него локтями, с усилием сдерживая напор своего вздрагивающего тела, распластав руки по жесткой деревянной поверхности, то мстительно сжимая пальцы в кулаки, то наоборот, беспомощно разжимая их, неестественно растопыривая до упора, особенно почему-то мизинцы. Бретелька ночной рубашки съехала с плеча, оголяя не только его, но и часть полной, плавной груди, лицо то разглаживалось, то снова искажалось хищной, животной гримасой. Казалось, что оно постоянно вздрагивает, словно удивляется.
Вздрагивание перешло на грудь, она заколыхалась, пытаясь выскочить из едва сдерживающей чашечки ночной рубашки, и только оттого, что была сплюснута поверхностью стола, еще как-то ухитрялась оставаться в ней. Вздрагивание захватило судорожные, ищущие опору руки, потом все тело, будто набегающая волна поднимала его, и не в силах унести, отпускала, оставив на месте. Вздрагивание распространилось на стол, и он тоже шатался вместе с телом распластанной на нем женщины, оно перешло, казалось, на всю комнату, на раздвинутые легкие занавески, на тени в глубине, так же медленно вздрагивающие, будто в унисон, даже на колеблющийся, колышущийся воздух.
Да и далекий, едва различимый контур мужской фигуры, который определился там, в глубине комнаты, открытый лишь частично, лишь лицом, шеей, плечами, тоже колебался, только значительно резче, крепкими, тяжелыми толчками, ударами, которые, теперь это было очевидно, и создавали все остальное колыхание.
Потом в сознание Элизабет хлынули звуки – все тот же ритмичный вздох, который она услышала вначале, только сейчас повизгивающее, пронзительное «и» дополнилось более глухим звуками, так что они сплелись в растянутое «а-а-и-й…». Каждое сотрясение Дининого тела вызывало это протяжное, шаманское причитание, словно движение и звук были связаны воедино, словно без звука исчезло бы и движение, пропало, растворилось бы в ночи. А на женский вздох нечасто, с пропусками, с промежутками накладывалось мужское удаленное, глухое, на полном, отрешенном выдохе «т-а-а-к».
Элизабет вгляделась в темноту, пытаясь рассмотреть лицо мужчины – как всегда растянутые, искривленные губы, неровный, бугристый нос, полуприкрытые глаза – от них веяло страданием и еще почему-то мольбой. И сочетание тяжелых, разящих толчков и жалкого, умоляющего лица неприятно поразило Элизабет.
Она сразу почувствовала страшную, тяжелую усталость, ноги ее сами подогнулись в коленях, и она поползла по стенке вниз, пока сырая трава не стала неприятно холодить ее ягодицы, пролезая, протискиваясь, щекоча влагой между расставленных, выставленных коленками вверх ног. Элизабет пришлось приподняться и подсунуть под себя край майки, чтобы защитить тело от мокрой навязчивой травы.
Так она и сидела под окном, подперев себя лунной стеной дома, она не хотела, не могла больше смотреть внутрь. У нее и без того застыло в глазах искаженное, натужное, тупое выражение на лице женщины, которая, наверное, была ее матерью, но которая сейчас совершенно на мать не была похожа. А еще там, в глубине, лицо тяжело трудящегося мужчины, который кроме жалости вызывал только брезгливость и желание отвернуться, забыть о нем, вычеркнуть из памяти.
Сидя внизу, она теперь слышала только сочетание вздохов, ползущих оттуда, из окна, разрастающихся, входящих в шаманский, неистовый транс. Теперь мужской вздох слышался никак не реже женского, он тоже вклинился в воздух, и женский вторил ему, вплетался в его глухие звуки своими высокими, почти визжащими тонами. И так они, подгоняя друг друга, перехлестываясь, нарастая, начали вываливаться из глубины окна, из темноты, которая уже не в силах была их сдержать. Сначала ее пробил короткий мужской крик, пугающий, хриплый, неразборчивый. Он выстрелил поначалу плотным, сбитым в упругую массу сгустком, но сразу распался, сжался, потерял напор, сдавил себя, будто рукой зажали рот, будто перехватили горло. И так, приглушенно, он тек и наслаивался тяжелыми хриплыми слоями, длинными, вязкими, и, похоже, не думал останавливаться.
И только тогда, когда он уже совсем измельчал, потерял силу, его сначала догнал и тут же накрыл крик женщины. Крик этот нельзя было назвать ни пронзительным, ни даже визжащим, он просто ломал все возможные преграды – старый коттедж с его сейчас, в ночи, серо-зелеными стенами, саму ночь, лунные дорожки, которые она накидывала с неба между разрядившимися деревьями, да и само небо с всего несколькими едва заметными звездами. Крик возносился к ним, сам становясь частью ночи, неба, лунного света, и ничто не могло его остановить.
Элизабет продолжала сидеть внизу под окном, отрешенная, растерянная, беспомощная, она не могла совместить этот дикий, кошачий визг с ровным, всегда выверенным голосом своей матери. Как и не могла совместить с образом матери то пустое, бездумное, похотливое лицо, в которое только что вглядывалась.
Она даже не заметила, как женский крик перешел в плач, даже не в плач – в рыдание, тоже насыщенное, тоже сразу заполнившее ночь. Ту т же мужской голос, почти неузнаваемый, с надрывом, с тяжелым хрипловатым придыханием проговорил:
– Ну что ты, что случилось?
Но рыдание продолжалось, и мужской голос повторил:
– Что с тобой? Что-нибудь не так?
– Нет, все так, – вплелись в рыдание с трудом различимые слова.
– А в чем же дело? – снова спросил мужчина обретающим дыхание голосом. В нем слышалась искренняя забота и еще понимание, желание помочь.
– Не знаю, – ответила женщина и снова захлебнулась слезами.
– Ну что ты? Ну успокойся. Ну что ты? – повторял мужской голос одно и то же. – Так же не нельзя, ну скажи мне, в чем дело?








