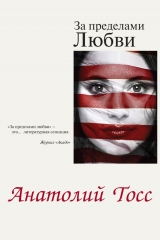
Текст книги "За пределами любви"
Автор книги: Анатолий Тосс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Да нет, ни в чем, – прорвалось сквозь истерику. А потом снова: – Не знаю, ничего не знаю.
– Успокойся, успокойся, Дина. Все хорошо, все будет хорошо. Поверь мне, все теперь устроится и будет хорошо. Ну, успокойся.
И действительно, прошло время, и истерика стала спадать, паузы между всхлипами становились все длиннее, и постепенно их стали заполнять внятные, членораздельные слова.
– Не знаю. Извини, что сорвалась… – Снова всхлип, но теперь лишь одиночный. – Просто накопилось много. Не смогла сдержаться. – Еще один короткий всхлип. – Но теперь все, все вышло. Теперь лучше.
– Я знаю, тебе было тяжело все эти годы. Одной. Но теперь мы будем…
– Да, мне было тяжело, – перебила его Дина. – Мне даже некому было рассказать. Я, наверное, сама не понимала. А сейчас вот накатило. Прости. – Она глубоко выдохнула, как будто действительно освобождаясь от чего-то давящего. – Просто не сдержалась.
– Да ничего, конечно, я понимаю, – заторопился мужской голос. – Кому понять, как не мне. Мне ведь тоже было одиноко, пустынно одиноко. Я думал, что все закончилось, что больше в жизни ничего не будет. А вот видишь, как получилось.
– Да, – снова выдохнула Дина.
– Видишь, как удивительно я нашел тебя. И Лизи тоже. Если бы мне полгода назад сказали, что я найду вас, я бы только посмеялся. А теперь… Знаешь, вот говорят, счастье – абстракция. А я его чувствую, реальное счастье, я почти могу его осязать. – Он помолчал. – Теперь все будет хорошо, обещаю тебе, все будет хорошо.
– Не знаю, посмотрим, – проговорила Дина, но голос ее, теперь уже совсем оправившийся, показался Элизабет рассеянным, лишенным уверенности.
Она вообще мало что поняла из этого обрывочного, построенного на вздохах, междометиях, интонациях диалога. Да она и не хотела в нем разбираться, она навалилась холодеющими от росы коленками на легко проминающуюся траву и так на коленках, подгребая себе руками, не приподнимаясь, чтобы не заметили из окна, как дикий зверек, поползла в сторону, туда, где, если пересечь залитую луной лужайку, высились три этажа их дома.
Она тут же забралась в свою кровать, плотно завернулась в одеяло, свернулась клубочком; ее знобило до дрожи, до мелких конвульсий. Почему-то заболел живот, а потом и все тело, особенно ноги, особенно в самом верху, как будто из них тянули жилы. К горлу подступили слезы, и она заплакала, но в отличие от рыданий матери ее плач был тихий, едва различимый. Просто щеки стали холодными, словно она их тоже погрузила в росистую траву, а потом и ладонь, которой она постоянно их утирала. Потом сырость расползлась по подушке, и стало совсем холодно, и Элизабет сначала перевернула подушку сухой, незаплаканной стороной, а потом легла на спину, чтобы успевать вытирать слезы, пока они не скатятся вниз. Но на спине тяжело было справиться с дрожью, и Элизабет снова пришлось повернуться на бок и снова подогнуть ноги в коленках, подтянуть их как можно ближе к животу – так дрожь меньше била и разбирала по частям ее ноющее, шаткое тело.
Она ни о чем не думала, в голове мелькали обрывки, разрозненные лоскутки плохо связанных словосочетаний, а губы повторяли их шепотом, почти про себя. Элизабет попыталась прислушаться.
«Как она могла? – шептали губы. – Как она могла? С ним. С этим. С ничтожеством. Как она могла до него опуститься?»
Элизабет напрягла растекающееся сознание, и снова перед глазами встало лицо матери – глаза, улыбка, колебание полной, едва прикрытой рубашкой груди. И тут Элизабет вдруг поняла простое и совершенно очевидное:
«Да она обыкновенная шлюха. Она готова лечь под любого мужика, просто мужика не находилось. Вообще никакого. Был один, Рассел, но тот отказался от нее. Потому что разве можно сравнивать Рассела с ней? Ей подходит только этот, и когда он появился, жалкий, ничтожный, ничего, кроме жалости, не вызывающий, она тут же легла под него».
А потом появилась еще одна простая мысль:
«Да она такая же ничтожная и жалкая, как он сам. Они вообще два сапога пара. И теперь нашли друг друга. А я, Элизабет, осталась одна, совершенно одна, никому не нужная. Вообще никому».
От этой обидной мысли слезы еще обильнее покатились из глаз, она не успевала смахивать их совершенно промокшей ладонью, и дрожь, немного утихнув, уступила место бессильному сну, в который Элизабет тихо, незаметно погрузилась.
Сон был поверхностным, он незаметно подменил реальность – комнату, ночь, ее саму, ее мать, почему-то Рассела, почему-то Во-Во. Сон не просто снился, а реально происходил с ней, она чувствовала все, что было в нем, – чутко, остро, как даже наяву никогда не чувствовала.
Все та же комната в коттедже, глубокая, с расплывчатыми, зыбкими тенями. Потом появилось лицо, черты его никак не хотели фиксироваться, они наплывали друг на друга, то отступая, то приближаясь, и только когда приближались, становясь более отчетливыми, напоминали Динино лицо. Но лицо отъезжало, искажаясь, в нем появлялось нечто чужое, и тогда Элизабет напрягалась всем телом, плотнее сжимая глаза – до рези, до боли, но все равно не могла его узнать.
«А что, если это я сама?» – возникла невероятная мысль.
Возможно, разобраться было трудно из-за колыхания, оно почему-то перешло и на Элизабет, ее тело колыхалось вместе с воздухом, комнатой, тенями, ее заполняющими. Колыхание проникало внутрь, плавное, ритмичное, оно растекалось, кружило и неожиданно сбивало сердце вниз, как будто сама Элизабет проваливалась в бездонную воздушную яму и безудержно скользила вглубь, даже не пытаясь ухватиться, остановиться. А оторвавшееся сердце остро, до смешного неправдоподобно плескало горячим жидким раствором, легким и тягучим, обволакивающим, затормаживающим движения.
Тут вдруг оказалась, что бездна, в которую Элизабет падает, совсем не бесконечна, и вот сейчас она врежется в жесткий, колкий край. Она пробовала пошевелиться, чтобы избежать удара, увернуться, но оцепенение сковало ее, напряженное тело застыло, окаменело и не отзывалось.
Но когда столкновение стало неизбежным, когда оно должно было выбить из нее дыхание и жизнь, резкая, живая струя взвила ее вверх, и телом завладела легкость, воздушная, небесная, и Элизабет, расправив руки, полетела сначала вверх, а потом над землей, освобождаясь от собственного веса, от ненужного больше притяжения.
Она летела и боялась упасть с такой невероятной высоты и знала, что никогда не упадет, что умение летать у нее врожденное. Ей было чудесно парить, чувствуя себя совершенно свободной, ей казалось, она в первый раз поняла слово «счастье» не умом, а своим легчайшим, освободившимся телом.
…С этого дня, вернее, с ночи, отношения между Элизабет и Диной резко изменились. Даже не потому, что Элизабет обиделась на мать, разочаровалась в ней. Совсем нет. Просто какой-то механизм, прилежно вращавший шестеренки внутри Элизабет и вызывавший ее преклонение перед матерью, желание подчиняться, уверенность, что Дина умнее и сильнее ее, этот механизм вдруг в одночасье сменил режим, перешел на иную ось, на другой диапазон вращения. И теперь стало на удивление понятно, что ничем мать не умнее и не сильнее ее. Наоборот, она слабая, уязвимая женщина, которая просто скрывала свою уязвимость все эти годы.
А еще она не разбирается в жизни, иначе не связалась бы с этим ничтожеством, не повелась бы на его пустые байки. Ну да, она слабая и нелепая и ничего не понимает, достаточно вспомнить ее лицо – каким пустым и беззащитным оно было, когда «этот» сзади старался над ней.
Но теперь все будет наоборот, поняла Элизабет, она больше не нуждается ни в помощи, ни в заботе. Да и разбирается в жизни лучше матери. Она бы не отпустила Рассела, ее бы он не бросил, да и «этого» она могла, если бы захотела, легко увести. Нет никакого сомнения, что могла бы, достаточно вспомнить, как он смотрел на нее длинным, процеживающим и в то же время жалким, молящим взглядом. Но ей, Элизабет, он не нужен совершенно никогда… А вот мать легко поддалась и согласилась… Да потому что она слабая и ничего не понимает.
Конечно же Дина заметила перемену в дочери – раздраженный голос, резкий тон, дерзость. Теперь Элизабет редко оставалась дома, будто тяготилась им, тяготилась общением с матерью; она пользовалась любой возможностью уйти, и возвращаясь поздно, иногда даже пропуская обед, не утруждала себя объяснениями, отделываясь лишь общими ничего не значащими отговорками.
С «этим» Элизабет полностью прекратила общение, только кивала ему, когда встречала в доме. Он, правда, попытался пару раз вызвать ее на откровенный разговор, узнать, что же произошло с ней, ведь он привязан к ней, любит. «Как дочь», – сказал он однажды, отводя глаза, но так неестественно, что Элизабет фыркнула в ответ и рассмеялась ему в лицо:
– Родите себе дочь и любите ее. Мама еще не старая, вполне может вам родить. А меня как дочь любить не надо, у меня был собственный отец. Я другого не ищу, – отрезала она и повернулась и вышла из гостиной, где они случайно столкнулись.
Она специально ему так ответила, специально дала понять, что все знает, пусть они смутятся, пусть матери будет стыдно. К тому же ее раздражало лицемерие, постоянный обман, когда в ее присутствии они вели себя, как будто между ними ничего не происходит, как будто он по-прежнему наемный работник, а она хозяйка. «Хотя кто хозяин, а кто работница, мы знаем», – думала про себя Элизабет и улыбалась.
Конечно же «этот» все рассказал Дине, и та два дня, пытаясь перебороть неловкость и избегая смотреть дочери в глаза, искала возможность поговорить с ней. Все же она улучила момент, когда Элизабет на кухне мастерила себе нехитрый сэндвич, намазывая на хлебный тост жирный слой орехового масла, сверху покрывая его клубничным джемом, что означало, что она уходит из дома и к обеду не вернется. Дина села на стул и, глядя на профиль Элизабет, каждый раз до оторопи удивляясь, как дочь все же похожа на нее, проговорила, пытаясь найти правильный тон, скрыть подступающее волнение:
– Лизи, я хочу поговорить с тобой. – Дина выдержала паузу, ожидая реакции дочери. Та лишь пожала плечами. – Ты уже, верно, знаешь, что у нас с мистером Влэдом… – она запиналась, подбирая правильные слова, складывая их в правильную фразу, но у нее не получалось все равно, – что у нас с Влэдом отношения…
Элизабет снова пожала плечами, отошла к холодильнику, открыла его, достала галлон молока, повернулась к матери спиной, как будто та и не с ней говорила.
– Давно было пора, – проговорила она, но Дина не расслышала, слова погрузились и утонули в камере холодильника.
– Что-что? – переспросила Дина.
– Давно было пора, – повернулась Элизабет к матери, и та вздрогнула – она никогда прежде не видела у дочери такого холодного, безразличного, лишенного эмоций лица. И от этой леденящей отстраненности Дина совсем смешалась, чувствуя, что отдает себя на суд собственной дочери, которая еще недавно, еще вчера была милым, ласковым ребенком. А сегодня уже, похоже, нет.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Дина, волнуясь все сильнее, понимая абсурдность собственного вопроса.
– Я имею в виду, – нарочито медленно проговаривая слова, ровным голосом проговорила Дина, – что тебе давно было пора с ним сойтись, с этим. Чего ты тянула так долго, он уже сколько… – она зашевелила губами, считая про себя, даже стала загибать пальцы, – уже четыре месяца живет у нас. Сама посмотри, сколько времени ты упустила.
И то, как она загибала пальцы, и ее тон, и слова – все говорило о нескрываемой издевке. Но Дина сделала вид, что не заметила ее.
– Для всего требуется время. Вот и мне потребовалось, чтобы понять, что мистер Влэд очень хороший, добрый, заботливый и порядочный человек, и я…
– Ты влюбилась в него, что ли? – оборвала ее Элизабет и снова повернулась к ней спиной.
Оказалось, что Дина совсем не готова к такому вопросу.
– Влюбилась? – повторила она. – Я не знаю. Я чувствую, что он очень хороший человек и мы подходим друг другу. А люблю ли я его? Не знаю. Конечно, я чувствую к нему…
– Зачем же ты спишь с ним без любви? – еще раз оборвала ее Элизабет. Она обернулась к матери и смотрела на нее своими новыми чужими, холодными глазами.
Дина снова не нашлась сразу.
– Это сложно, Лизи, – начала было она. – Я же говорю, он очень хороший, мне хорошо с ним.
– Да ладно, тебе просто нужен мужик. Тебе просто необходимо трахаться, как и всем остальным. Чего уж там, – ответила за нее Элизабет. – А этот подвернулся, вот и все. Другого ведь не было, где тебе взять другого? – Элизабет хотела быть жестокой и была жестокой. Она хотела сверлить мать холодным, железным взглядом и сверлила. – Был у тебя Рассел, но он бросил тебя. А теперь подвернулся этот. Ты и с Расселом спала и с этим стала. Был бы на его месте другой, ты бы и с другим не побрезговала.
– Это неправда! – вскричала Дина. – Почему ты такая жестокая, я же твоя мать, я посвятила тебе свою жизнь, я пожертвовала ею ради тебя! – Она задыхалась, пытаясь сдержать слезы, пытаясь еще хоть как-то совладать с собой.
На секунду ее голос на гране срыва, ее умоляющий взгляд тронули Элизабет, ей захотелось подойти к матери, обнять, прижаться. Но тут же другое лицо – тупое, животное, искаженное искусственной, будто у куклы, гримасой возникло в сознании и все затмило, и Элизабет передернула плечами, будто отмахиваясь от подступившей было жалости.
– Да перестань, я не жестокая, я просто говорю правду, ты сама знаешь. А если тебе она не нравится, то извини, в том не моя вина. А насчет пожертвованной мне жизни… Это так глупо, так избито, в каждом фильме про родителей есть похожие слова.
– Потому что это правда! – не выдержала Дина, срываясь на крик. – Просто ты не понимаешь…
– Не кричи на меня, я не виновата, что у тебя не сложилась личная жизнь, – оборвала ее Элизабет и, взяв с собой тарелку с сэндвичем и стакан молока, она вышла из кухни и пошла наверх, в свою комнату, так и не обернувшись на окончательно растерявшуюся, так и стоящую посередине кухни мать.
После этого разговора Элизабет еще больше отдалилась от матери. Даже когда она оставалась по вечерам дома, что случалось не часто, она почти не выходила из своей комнаты, перестала спускаться на обед – сама мастерила себе что-то нехитрое – либо сэндвич, либо спагетти с томатным соусом – и вместе со стаканом сока уносила к себе в комнату.
К тому же в театре они под руководством учительницы литературы мисс Прейгер ставили «Двенадцатую ночь» Шекспира и Элизабет получила роль Марии. Конечно, она хотела играть Оливию, она считала, что у нее есть полное право на главную роль – без сомнения, она была самая способная и самая красивая из всех девочек в театре. Но, наверное, именно поэтому мисс Прейгер относилась к самоуверенной Элизабет с заметным предубеждением и всячески старалась охладить ее энтузиазм.
Те м не менее постановка продвигалась, и Элизабет получала колоссальное удовольствие от каждой репетиции. Память у нее была отменная, роль она запомнила с лету, а вот как создать образ – над этим она неустанно думала, подбирая для каждой сцены нужное выражение лица, голос, походку, оттачивая их даже дома, в своей комнате перед зеркалом.
Она и вправду не на шутку увлеклась театром, возможно потому, что ей нужна была замена дому, во всяком случае, эмоциональная, и театр, пусть и школьный, любительский, подходил для этого лучше всего. К тому же с Элизабет произошла еще одна перемена – ее стали интересовать мальчики. Она стала замечать их внимательные, а потом сразу, без перехода, заинтересованные взгляды, как они скользят по ее телу, останавливаясь на вырезе белой блузки, а потом чуть ниже, на ее небольшой, но крепкой груди. Сначала ее, разумеется, смущала их откровенность, но вскоре они стали привычны, даже приятны, и она разочарованно удивлялась, если кто-либо из старших ребят не останавливал на ней пристального, оценивающего взгляда.
Ей самой нравились именно старшие ребята, чем старше – тем лучше, даже не школьники, а учителя, например мистер Гиппс, учитель физики – высокий, худой, всегда подтянутый, аккуратно одетый, с копной вьющихся, с ранней сединой волос.
…Но мистер Гиппс находился за пределами мира Элизабет, и она могла только мечтать, как он будет рассматривать ее с первого, учительского ряда на премьере спектакля, особенно в той сцене, где она прикрыта всего-навсего короткой туникой, которую специально подпояшет широким поясом, чтобы более отчетливо выделить талию и узкие, стройные бедра. А когда спектакль закончится, он будет поджидать ее на боковой улице в стороне от чужих глаз, и когда они останутся вдвоем… Ну, а дальше шли фантазии, в той или иной степени присущие всем девушкам, которым через два месяца исполнится уже четырнадцать лет.
Впрочем, мистер Гиппс так и остался мечтой, а значит, выбирать Элизабет приходилось среди ровесников. Ей хотелось отношений, и эмоциональных, и физических, тем более что многие девочки уже имели определенный опыт и без стеснения делились им. Собственно, и в классе, и особенно в театральной уборной, расположенной за сценой, не только старшие девочки, но и ровесницы Элизабет только и говорили, что о мальчиках – не об абстрактных, а о конкретных, знакомых, которые прямо сейчас переодеваются в своей мальчишеской уборной и через двадцать минут выйдут вместе с ними на сцену. Назывались имена, давались характеристики, происходил обширный обмен опытом относительно того или иного героя, следовали предостережения или, наоборот, рекомендации. И все это со смехом, с горящими от возбуждения и задора глазами, с разрумянившимися щечками.
Конечно, не все участвовали в подобных пересудах; те, кто поскромнее или помоложе, предпочитали в основном слушать и запоминать. Элизабет, не имея возможности похвастаться собственными достижениями, как правило, отмалчивалась, а когда кто-нибудь из подруг уж слишком навязчиво приставал к ней с расспросами, она прямо отвечала, не смущаясь, что ничего еще не пробовала, даже не целовалась. Девушки с пониманием кивали, сочувствовали и засыпали Элизабет советами, каждая своими, относительно того или иного потенциального ухажера.
Советы были полезными, ведь всегда хорошо, прежде чем сделать окончательный выбор, особенно в том, в чем не очень разбираешься, прислушаться к мнению тех, кто перепробовал разное и понимает, о чем говорит.
Как ни странно, для Элизабет вопрос влюбленности не стоял. Может быть, потому, что она еще не была готова к влюбленности, а может быть, в практичной до цинизма подростковой атмосфере сексуальное любопытство значит больше, чем эмоциональная потребность.
К своему четырнадцатому дню рождения Элизабет свой выбор сделала. Роджер не только получил наилучшие рекомендации от подруг, мол, он умелый и романтичный и красиво ухаживает, он действительно был симпатичным мальчиком. Ему уже исполнилось семнадцать, он гонял на спортивном «Олдсмобиле», на заднем сиденье которого, как говорили девочки, было удобно целоваться, а если одну ногу положить на сиденье, а другую закинуть на спинку переднего, то тогда… И дальше шел подробный рассказ, не только возбуждающий, но и поучительный.
Именно потому Элизабет и выбрала Роджера, что он был проверенным и опытным, она хотела, чтобы все произошло легко и быстро и желательно без боли. Девчонки рассказывали, что бывает очень больно, так, что потом несколько дней сидеть неудобно, и еще бывает много крови. Крови Элизабет тоже не хотела, разве что немного, для виду, для ощущения, но идея перепачканных ног и одежды, необходимость где-то как-то впопыхах отмываться… нет, такая перспектива ее не прельщала.
«Правда, он подкладывает простынку, которую возит в багажнике, – говорили знающие девчонки, – а еще пару полотенец, всегда, кстати, чистых, специально, чтобы было чем вытереться».
В спектакле Роджер играл сэра Тоби Белча, и когда они репетировали, Элизабет часто ловила на себе его блестящие, влажные взгляды. Он не раз намекал, забрасывал удочку, не согласится ли эта симпатичная девочка со стройным телом, аппетитной попкой и ясным взглядом провести вместе с ним вечер. Но не находя в реакции Элизабет однозначного подтверждения, он все оборачивал в шутку, в товарищескую игру.
К концу сентября, через месяц-полтора после своего дня рождения Элизабет окончательно решила, что ей пора, что вечерние почти ежедневные попытки заглушить нервозное, лихорадочное томление пусть ненадолго, хотя бы до утра, ее больше не устраивают.
Все равно ночи проходили слишком живо, слишком осязаемо, сон постоянно повторялся – именно тот, где лицо матери плавно становилось… нет, не ее лицом, скорее она примеряла его на себя, делала своим, начинала видеть его глазами, слышать его ушами. Даже улыбка, эта нелепая, застывшая, искусственная улыбка Дины тоже становилась ее улыбкой.
И оттого, что ночь подменила день, а сон – явь, воображаемое мужское тело, созданное ее фантазией, подменило тело живое – Элизабет твердо решила, даже не умом, а чувством, что ей пора.
В тот день на репетиции она была особенно озорна, глазки стреляли лукавством, голос звенел, тело было легче и гибче обычного. Репетировали сцену во дворце, тоже лукавую и озорную, и миссис Прейгер постоянно хвалила Элизабет, думая про себя, что вот, наконец, девочка прислушалась к ее указаниям и поняла, как следует играть.
Элизабет и в самом деле выделяла какую-то особую энергию, в одном месте она должна была подойти к Роджеру (вернее, к персонажу, которого тот играл) и дотронуться до его руки. И когда ее пальчики скользнули по внутренней стороне запястья Роджера, когда они прошлись легким щекотным перебором по коже, так что разлетелись мурашки, когда ее смеющиеся глаза не по требованию роли, а по собственному очевидному желанию заглянули ему в глаза, сказав взглядом значительно больше, чем слетающие с губ шекспировские строчки, Роджер сразу все понял.
И сразу же, как только объявили перерыв, он подошел к ней и как всегда, облекая свои намерения в шутку, продекламировал, неловко подражая шекспировскому слогу, комично выпучивая глаза и в показном отчаянии протягивая к ней руки:
– Где, Лизи, нам с тобою найти дворец, который нас укроет от глаз чужой толпы?
Элизабет прыснула, у нее сегодня вообще было смешливое настроение, и ответила в том же шутливом духе, сама стараясь подстроить речитатив под ритмику «Двенадцатой ночи»:
– Пусть домом будет нам высокая трава, луна на небе, звездное мерцанье и теплый ветер, и еще… – тут она сбилась и, так и не придумав, что «еще», добавила уже в совсем другом, будничном тоне: – Ну и вся эта остальная ерунда.
И оттого, как забавно она оборвала поэтическую строчку, как неожиданно переменила тембр голоса, ей самой стало смешно. Они оба засмеялись, а потом Роджер придвинулся к ней ближе, совсем близко, и произнес демонстративно заговорщицким, делано гнусавым голосом, оглядываясь подозрительно по сторонам:
– Ну так что, я заеду сегодня за тобой. Поедем в наш дворец, что ли.
– Давай заезжай. Почему не съездить, – легко согласилась Элизабет и, чтобы подбодрить его, снова протянула руку, как недавно во время репетиции, но теперь дотронулась только до предплечья и тут же, боясь, что он неверно поймет, отдернула руку назад.
Дома она занервничала. Запершись, как обычно, в своей комнате, она не знала, куда себя деть – ложилась на кровать, потом вскакивала и садилась за небольшой письменный стол в углу, раскрывала книгу. Но, просмотрев глазами с полстраницы и убедившись, что ничего в результате не прочитала, она снова бросалась на кровать и зарывалась лицом в мякоть подушки и зажмуривала с силой глаза. И из хаоса, из обрывков сбившихся мыслей она могла выхватить лишь один, яркий, стремительный, как близкая молния: «А может быть, не надо? Может быть, ни к чему?»
Одновременно ее охватывал страх, мгновенный приступ, неожиданный, как спазм, будто кто-то ворошит внутри нее сухой палкой, как ворошат палкой затухающий костер, и она сжималась, напрягая руки, подтягивая колени к животу, и страх отпускал. И она снова понимала, что поедет, что решение принято и от нее даже не зависит, просто надо, пора, так должно быть.
Тогда она переворачивалась на бок, жмурясь, удивляясь остроте слишком яркого, еще не потухшего дня, и открывала иллюстрированный журнальчик специально для девочек ее возраста. Но беспокойное возбуждение не отпускало, и она перекатывалась на спину и разбрасывала вдоль тела руки, поднимая глаза в потолок.
К девяти часам Элизабет была уже готова, успев принять душ, надев свежие узкие трусики, белую маечку прямо на голое тело – ее небольшим, округлым крепким грудям опора была не нужна. «Не то что матери», – подумала она. Потом она пролезла в короткую юбку, набросила на плечи легкую курточку, решила не застегивать ее, подошла к зеркалу, придирчиво оглядела себя, осталась довольна – майка контурно облегала тело, а юбка открывала стройные ноги. Элизабет вообще всегда нравилась себе, что придавало уверенности. А уверенность, особенно сегодня, ей не помешает.
И все же она не могла подавить волнение, и когда за окном мигнул фарами «Олдсмобиль» Роджера, ей пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы успокоить дыхание, даже подойти к окну, прислониться щекой к холодному отрезвляющему стеклу.
Мать сидела в гостиной, читала книгу в бумажном переплете, Элизабет пробежала глазами по обложке, пытаясь разобрать название, но не разобрала. Она остановилась в проеме двери, не входя в гостиную, всем своим видом показывая, что спешит и не расположена к долгой беседе.
– Я ухожу, – оповестила она Дину холодным, не допускающим возражений голосом.
– Так поздно?
– Ага, – кивнула Элизабет, готовая повернуться и уйти.
– Но уже девять часов… – удивилась Дина и поднялась с кресла, сделала несколько шагов, как будто если расстояние между ними сократится, то и слова ее легче дойдут до дочери.
– Ну и что, – пожала плечами Элизабет и повернулась и пошла к двери, не обращая внимание на мать.
– Девять часов, – повторила мать, – куда ты собралась?
– За мной Роджер приехал, – на ходу сообщила Элизабет. – Мы покатаемся немного.
– Роджер? – Теперь голос Дины не содержал ничего, кроме изумления. – Какой Роджер?
– Роджер Спринглер из одиннадцатого класса. – Элизабет все же остановилась у самой двери. – Ты же знаешь его.
– Ну да, – кивнула мать, только сейчас начиная отходить от шока. – Но почему ты меня не предупредила?
– Вот я тебя и предупреждаю. – Элизабет снова пожала плечами.
– Ты должна была меня предупредить заранее, а не перед самым выходом. Ты должна была спросить моего разрешения. Не забывай, юная леди, тебе всего четырнадцать лет. – Дина старалась говорить строгим голосом, в прежние времена строгий голос действовал. Но времена, похоже, переменились.
– Мне не «всего» четырнадцать, мне «уже» четырнадцать, – вздохнула Элизабет, и в голосе ее скользнула усталость, будто все эти разговоры уже случались и прежде и наскучили ей и больше не имеют смысла. Она взялась за ручку входной двери. У Дины еще оставался шанс остановить дочь, но она не знала как.
– Когда ты вернешься? – Она снова попыталась вложить в голос строгость, но теперь и строгости не вышло.
– Приду, – неопределенно пообещала Элизабет и дернула на себя дверь. Та широко распахнулась, смешивая домашний воздух с воздухом темного, осеннего, но еще теплого вечера.
– Не позже одиннадцати, – уже в спину дочери проговорила Дина, понимая, что в ее голосе больше просьбы, чем приказа.
Дверь захлопнулась. Дина подошла к окну, оперлась руками на раму, прислонилась к стеклу воспаленным лбом. Она лишь через минуту заметила, что слезы тихо, беззвучно скатываются по ее щекам, капают на подоконник. Она смотрела, как ее дочь, единственная, маленькая, любимая Лизи, которой она отдала все, что могла, спрыгивает со ступенек, как бежит через лужайку – легко, расслабленно, счастливо, не думая ни о чем, не тяготясь ничем. Там за лужайкой, на дороге стоит красный открытый «Олдсмобиль», раздвигая темноту призывным светом фар. К нему и стремится ее слишком быстро повзрослевшая дочь.
Она-то думала, что все идет правильно и хорошо, что дочь растет благодарной, нежной, ответственной девочкой. Да, она так думала и только недавно поняла, что ошибалась. Что-то произошло. Что – она не знала сама. Может быть, все дело в ее связи с Влэдом? Хотя вряд ли. При чем тут Влэд? Просто Лизи вошла в переходный возраст, и с ней теперь трудно справиться. Хотя справлялась ли она с дочерью прежде? Наверное, тоже нет. Она всегда была слишком мягкой, податливой, а девочке нужна была твердая рука отца. Но что делать, если отца не было, если они потеряли его много лет назад.
Дина плакала, но причиной ее слез в действительности была не непослушная и дерзкая Элизабет, а прежде всего она сама. Дочь своей быстро набирающей силу молодостью только подчеркивала, оттеняла и так очевидный факт, что Динина молодость прошла, что ее женская судьба перевалила через пик, через экватор, и дальше, в будущем все будет только хуже, более блекло, уныло.
Хотя что у нее было в жизни? А почти ничего. После смерти мужа ей был подарен лишь один счастливый период – те самые месяцы, которые она провела с Расселом. Месяцы, которые из ее памяти не исчезнут никогда. Но она не смогла удержать его, Лизи была права, когда выкрикнула ей в лицо эту обидную правду. Впрочем, и не такую уж обидную, Дина ведь и сама не раз признавалась себе, что не сумела, не смогла удержать Рассела, что, если говорить честно, – просто не знала, как. Теперь-то она знает, но теперь уже поздно. Так всегда бывает: когда случай представляется, тогда – не ценишь, думаешь, что тебе и так полагается. А ничего ведь не полагается, за все надо цепляться, а цепляться она не умела никогда. Да и сейчас не умеет.
Машина на дороге отвернулась фарами от дома, теперь они били вдоль дороги, еще секунда-другая – и она исчезнет в ночи, увозя ее дочь. Слезы не останавливались, так и продолжали неспешно, тихо катиться, ничему и никому не мешая. Вообще ничему и никому.
Да, сейчас у нее есть Влэд. Тихий, деликатный, аккуратный, с всегда печальным, признательным взглядом. Он любит ее, без сомнения, любит и постоянно пытается проявить свою любовь, и возможно, когда-нибудь она будет с ним счастлива. Но не сейчас. Ведь иначе она бы не скрывала его ни от дочери, ни от знакомых, иначе он давно бы жил с ней в ее комнате, в ее постели. Но живет он по-прежнему в коттедже, по-прежнему занят ремонтом, по-прежнему она обращается с ним, как хозяйка с наемным рабочим. И только иногда, раз в три дня, только когда ей нужно, она приходит к нему и видит, знает что он всегда ждет ее, по глазам видит.








