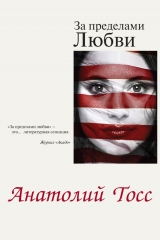
Текст книги "За пределами любви"
Автор книги: Анатолий Тосс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Она поводила ими, трогая ребристые, пугающе диковинные, доступные только на ощупь стенки, прошлась по кругу, содрогнулось спиной, ощутила мурашки, мгновенно взбухшие на коже, будто изморось ветвистой мелкой молнией разбежалась по телу.
– Действительно ничего нет, – снова проговорила вслух Элизабет, и ей почему-то стало обидно. Она попыталась вспомнить, а было ли прежде? Нет, она никогда не замечала. Она вынула пальцы, поднесла к лицу, понюхала – они пахли совершенно чужим запахом, резким, искусственным, абсолютно не подходящим ей. Тогда она снова раздвинула линию пальцами и другой рукой начала накатывать на себя подводные потоки.
Плотная стенка воды тыкалась в нее, плавно огибая, нежила, гладила, сдавливала, и Элизабет даже не заметила, как глаза ее закрылись и набухшая тяжесть вновь налилась вокруг пальцев, а вода стенка за стенкой накатывала, и скоро тяжесть, так долго сдерживаемая, не выдержала и разорвалась, и Элизабет, все сильнее сдавливая ресницы, сама не замечала, как тело ее раскачивается, догоняя и обгоняя подводные наплывы.
Потом, когда дрожь прошла, она, так и не открывая глаз, снова понюхала пальцы – теперь они пахли привычно ею, почти полным отсутствием запаха – лизнула, вкус тоже был привычным, едва различимым.
– Какая разница, была или не была? – снова сказала Элизабет в грохот струи. – Теперь уже в любом случае нет. – Она задумалась, потом удивилась мысли: – А может быть, я просто не достаю? Вот и он не достал. – Она засмеялась, и радостный, громкий смех легко перекрыл шум хлопающих по поверхности всплесков. Затем, отодвинув ногу, зажимающую отдушину для воды, она внимательно, будто в этом был некий важный смысл, наблюдала за закручивающимся на дне водоворотом, как он втягивает в себя послушную, податливую воду.
С этого дня Элизабет еще больше отдалилась от матери, от ее забот, от ее отношений с «этим», вообще от всего, что происходило в доме. Мать больше не раздражала ее, как прежде, просто перестала вызывать эмоции – ни преклонения и безотчетной любви, как когда-то прежде, в детстве, ни осуждения, как еще недавно. Просто Элизабет погрузилась в свою собственную жизнь, жизнь подрастающей девушки.
Школа и особенно театр с его ежедневными репетициями занимали не только день, но и ночные мысли Элизабет, наполняли ее мечты и фантазии. Она видела себя в Голливуде или по крайней мере на Бродвее, окруженная поклонниками, вниманием прессы, восторженными зрителями.
Все говорили, что она способная, да еще с запоминающейся, выразительной внешностью, с гибким, но уже женственным телом, с чувственным лицом. Элизабет и сама стала осознавать, что может многое, она почти физически ощущала свой талант, свой дар – назовите как хотите, будто в ней появился еще один внутренний орган, схороненный где-то в глубине между ребрами, на уровне груди.
Ее отношения с Роджером закончились после той самой единственной их встречи, хотя он не раз предлагал встречу повторить. Но Элизабет уклонялась, отделывалась отговорками, и в конце концов Роджер понял, что продолжения не будет.
Самое странное, что, встречая его почти ежедневно, Элизабет ничего ровным счетом не чувствовала – ни волнения, ни ощущения, что каким-то образом связана с ним, – абсолютно безразличный, пусть и симпатичный, но ничем не отличающийся от других парень. Она и вела себя с ним, как чувствовала, – доброжелательно и равнодушно, и никакой игры в ее поведении не было. А что касается бродящих в ней желаний, то она отлично справлялась сама, как правило, в ванной, используя новый опыт водных потоков, каждый раз совершенствуя и дополняя его.
Дина конечно же заметила перемену в дочери. Перед ней стоял выбор – попытаться повлиять на Элизабет, вернуть ее, снова приблизить к себе или не вмешиваться, дождаться, когда дочь повзрослеет и разберется во всем сама. Но первое требовало упорства и работы, даже борьбы, а бороться было не в характере Дины, и она отошла в сторону, предоставляя жизни развиваться по собственному сценарию.
Лизи, решила она, унаследовала правильные гены, получила хорошее воспитание, в конце концов и то и другое возьмет свое. А сейчас – ну что же, сейчас у нее издержки переходного возраста, игра гормонов, и ничего с этим не поделаешь, незачем ломать копья, можно только навредить. Она советовалась с Влэдом, и тот соглашался, тоже призывал к терпению, сам пытался наладить отношения с Элизабет. Но та на него вообще внимания не обращала, как будто он и не существовал.
Дина с Влэдом по-прежнему своих отношений не афишировали, при дочери вели себя как совершенно чужие, как хозяйка с наемным рабочим, и только поздним вечером, когда Лизи уже наверняка спала в своей комнате наверху, они закрывали кухонную дверь, и он обнимал ее, а она приникала к его плотному жилистому телу и замирала. Иногда он начинал целовать ее – осторожно, аккуратно, как будто боялся повредить, и она отвечала – страстно, иногда чересчур, слишком требовательно – она сама понимала это, но не могла, не умела сдержать себя. И когда мир вокруг начинал мутиться и расплывался, она отстранялась от него и говорила, скорее требовала: «Пойдем к тебе».
Ей так и не удалось преодолеть себя и оставить его в своей спальне, даже не из-за Лизи, она в своих собственных глазах так и не смогла «узаконить» их отношения. Он нравился ей, она была признательна ему, он с каждым месяцем становился все ближе, но все равно в ее сознании он оставался временным, нанятым ремонтировать дом рабочим, и преодолеть эту грань ей было не под силу.
Там, в коттедже, в его комнате, она всегда доходила до предела, он умел затронуть что-то в ней, и когда ее тело замирало вместе с последним длинным, протяжным стоном, она была благодарна ему и даже целовала его жесткое сухое лицо, но никогда не оставалась на всю ночь. Может быть, на час, редко на два, но почему-то ей необходимо было вернуться домой, и она возвращалась.
Так прошло больше полугода. Закончилась зима, и наступал май, когда Элизабет почувствовала, что с матерью, да и с «этим» происходит что-то неладное. Особенно с «этим». Он погрустнел, помрачнел, его и так не молодое лицо разрезали горестные морщины, губы еще больше сузились и растянулись. А глаза – так те вообще источали столько скорби, что Элизабет не могла смотреть на них без улыбки.
Мать тоже нервничала: резкие движения, голос с надрывом, все у нее валилось из рук – посуда, ложки, вилки, – да и в глазах тоже появилась если не сама тоска, то предчувствие ее. Элизабет улыбалась, думая с веселой иронией, что, видимо, секс делает людей похожими, особенно этих двоих несчастных, наконец-то нашедших друг друга горемык. Она бы не удивилась, если бы у матери растянулись и сузились губы, а у «этого» растянулось бы что-нибудь другое. В общем, эта нервная парочка развлекала Элизабет.
Но жить с постоянно страдающими людьми все же утомительно. Однажды Элизабет задержалась на кухне, смешивая кукурузные хлопья с молоком, – она спешила, через час надо было бежать на репетицию, когда, громко хлопнув дверью, на кухне появилась мать. Элизабет покачала головой: раньше, когда в доме не было нервнобольных, дверь в кухню вообще никогда не закрывалась.
– Ты чего это в таком плохом настроении? – не сдержалась Элизабет. – Уж не беременна ли? Уж не ожидать ли мне сестричку? А может, братика? – И она наполнила рот молочно-кукурузной смесью, разжевывая хрустящие, ломкие во рту хлопья и морщась от удовольствия.
– Да перестань ты ерничать, – оборвала ее мать. Первым порывом Дины было отчитать дочь за издевательский тон, но она сдержалась. Ей вдруг захотелось поговорить с Лизи по-доброму, поделиться с ней, как с подругой, как со взрослой, все понимающей женщиной. Она так устала от их постоянной борьбы, а тут, может быть, Элизабет поймет, и они снова станут близки.
– Просто у Влэда неприятности, – сказала Дина и заглянула дочери в глаза.
– Что, пришлось задницу кому-то подтирать? – не изменила тона Элизабет. Но Дина не поняла.
– Что-что? – переспросила она. – И тут же, не дожидаясь ответа, добавила: – У него ведь временная виза. Он подал документы на продление, но ему отказали. Он должен уехать из страны в течение трех месяцев. Две недели уже прошли.
– И ты из-за этого нервничаешь? – искренне удивилась Элизабет, и наполненная ложка упала обратно в тарелку и потонула в ней. – Так ты что, выходит, влюбилась в него? – Сама мысль, что мать может полюбить «этого», казалась Элизабет нелепой, смехотворной.
Но Дина не заметила очередной насмешки или не хотела замечать.
– Да, наверное, – неожиданно для самой себя согласилась она. – Я привязалась к нему. Не знаю, влюбилась ли, но определенно привязалась. И если он уедет, мне будет его не хватать. К тому же я знаю, как ему там будет плохо.
– Так ты не хочешь, чтобы он уезжал? – Элизабет не верила своим ушам. Неужели ее мать все-таки влюбилась в такого пигмея? Надо же, никому не удается этого избежать, все вляпываются. Только ей одной удалось.
– Нет, Лизи, не хочу, – ответила Дина и утвердительно кивнула.
«Похоже, она действительно влюбилась в него», – снова подумала Элизабет, но ей почему-то больше не хотелось подсмеиваться над матерью. Наоборот, ей захотелось помочь этому слабому, неумелому, зависимому женскому существу – она чувствовала себя не только сильнее, но и мудрее матери.
– Так выйди за него замуж, – нашла она быстрое решение и от его очевидной простоты пожала плечами.
– Ты полагаешь? – проговорила мать в раздумье. – Я тоже думала об этом. Похоже, это единственное, что даст ему возможность остаться здесь. Но я не знаю… замужество – это так серьезно.
– Ты же только что сказала, что любишь его, – возмутилась Элизабет. – Как можно быть такой рохлей? Ты все-таки удивляешь меня.
Она замолчала, ведь получалось, что она уговаривала Дину выйти замуж. Но неуверенность, беспомощность матери бесила ее еще больше. Ну неужели не понятно, что если полюбила человека, то надо бороться за него, не позволять ему уйти. И не важно, хочет ли он уйти сам или кто-то хочет, чтобы он ушел, – все равно надо бороться. А мать только сходит с ума, нервничает, вот, хлопает дверью, а решиться ни на что не может. «Как я могла родиться у этой женщины? – подумала Элизабет. – Наверное, я унаследовала гены отца, вот он же не боялся летать, не боялся погибнуть».
– Брак – это ведь на всю жизнь, – в раздумье произнесла Дина.
– Ну да, конечно, я понимаю, лучше ничего не делать и вновь остаться несчастной, одинокой. Ты ведь была несчастной до него. – Элизабет разгорячилась, она сама не осознавала, что выговаривают ее быстрые возбужденные губы. – Если он уедет, ты снова будешь одна. И этот дом снова опустеет.
Что она говорит такое? Неужели она сама не хочет, чтобы он уезжал? Может быть, именно поэтому она и уговаривает мать? Нет, не может быть!
– Ты сама должна понимать – мне осталось три года, и я закончу школу, а потом уеду, тут даже без вопросов, я точно уеду. И ты останешься одна.
– Да-да, – вдруг быстро заговорила мать. – Ты права, конечно же ты права, я не должна его отпускать. Все-таки наша жизнь стала лучше с тех пор, как он появился. Ты права, я предложу ему жениться на мне, сам он никогда не решится.
Он такой деликатный. А ты умница, Лизи, ты все понимаешь лучше меня. Спасибо тебе.
Элизабет видела, как беспокойство и нервная растерянность постепенно покидали Динины глаза, и на их место так же постепенно стали наползать слезы, наполняя прозрачной, выпуклой влагой, и от нее глаза стали казаться выпуклыми, и непонятно было, что удерживает слезы, почему они не выкатываются.
В конце концов они все же не удержались и узкой, едва заметной бороздкой покатились по щекам. У Элизабет самой что-то сдавило внутри, сжало горло, ей сразу стало жалко маму из-за ее неумения жить, ее слабого характера, ее мягкости, беззащитности. Наверное, Элизабет первая сделала движение навстречу, едва заметное, едва уловимое, но его было достаточно. Дина почти упала на нее, обняла, приникла, слишком мокрые капли сразу залили щеку Элизабет, шею, так что стало холодно.
Дина плакала беззвучно, про себя, только подрагивала тихо плечами, а Элизабет гладила мать по спине и шептала ей что-то тихим голосом, пытаясь успокоить, утешить. И вдруг на мгновение что-то вновь сдвинулось в ее сознании, реальность вывернулась наизнанку, и она, как тогда, на холме, вдруг ощутила, что жизнь сделала оборот, полный цикл, и все перемешалось – начало, конец – все перепуталось, поменялось местами. И тихо рыдающая женщина – это на самом деле она сама либо в прошлом, либо в будущем. А другая женщина, которая сейчас утешает ее, слабую, беспомощную, требующую заботы, должна быть ее мать.
Чувство было настолько сильное, что Элизабет испугалась на мгновение и хотела было даже отстраниться, но она лишь крепче обняла мать, лишь заботливее примостила свою щеку к мокрому, холодному лицу, ее руки еще нежнее и заботливее поглаживали вздрагивающие плечи и спину.
– Все будет хорошо. Все хорошо, – услышала она свой голос и поняла, что теми же самыми словами Дина когда-то давно, в детстве, успокаивала ее.
А Дина сквозь рыдания успела почувствовать, что лед растоплен, что дочь вернулась к ней, единственная, любимая, и от этого заплакала еще горше и никак не могла остановиться.
В мае Дина с Влэдом расписались: тихо, незаметно, буднично, пригласив на короткую, скромную церемонию только двух-трех знакомых соседей. А в августе пришли документы из министерства натурализации, извещающие о том, что Влэд получил постоянный статус пребывания в Соединенных Штатах Америки.
Когда Элизабет достала из почтового ящика официальное письмо и отнесла его матери, та, заметно растерявшись, не решаясь распечатать конверт сама, торопливым, взвинченным от напряжения голосом позвала Влэда. То т прибежал откуда-то из глубины дома, где как всегда что-то тихо, неслышно, почти незаметно мастерил, и, увидев взволнованное лицо жены и официальный конверт в ее руках, сразу все понял.
Руки его, попытавшись сначала аккуратно распечатать конверт, не выдержали и резким, судорожным движением разорвали бумагу, лицо сразу покраснело и налилось кровью, даже шея, казалось, набухла. Потом он за несколько секунд пробежал короткий текст глазами, и их выражение изменилось, словно плавная волна смыла неуверенность и затаившийся страх, принося на их место восторг и радостное возбуждение.
– Ну как? – не выдержав, первая спросила Дина, и только тогда Влэд поднял глаза. В них стояли слезы, неестественно живые, будто маленькие, живущие там зверьки выскочили из своих норок.
– Дина… Диночка… Лизонька… они мне разрешили, – проговорил он дрожащим голосом и шагнул вперед, распростер руки, сгреб ими мать и дочь, притянул к себе, прижал. На секунду Элизабет почувствовала запах его тела, резкий, слишком мужской, но не отстранилась – лучше запах, чем со стороны смотреть, как взрослый мужчина заходится в истерике. Кто знает, может, он сейчас возьмет и заплачет.
– Девочки мои, как я счастлив, я теперь буду с вами навсегда. И никогда… Ни я от вас… Ни вы от меня… – бормотал Влэд, Элизабет почти ничего не разобрала.
Да она и не пыталась разобрать, она думала, что все в принципе сложилось удачно, пусть он остается – мать будет пристроена, а она, Элизабет, сможет заниматься театром и при первой же возможности отвалит из этого захолустного, мещанского, душного городка, поступит в театральную школу или сразу в студию.
Наконец он отпустил их обеих. Дина тут же достала бутылку шампанского, они ее раскупорили, разлили по бокалам, даже налили немного Элизабет. Чокнулись, она выпила, бодрые пузырьки защекотали горло, весело ударили в голову.
– Ну что, девочки, – проговорил счастливый Влэд, – поехали отмечать! Сначала завтракать в самый хороший ресторан, а потом… Куда вы хотите потом?
Элизабет молчала, она вообще никуда не хотела с ними ехать, но и отказаться не могла. В конце концов, у них праздник.
– Поехали на озеро. Не нужен ресторан, лучше устроим пикник. Возьмем корзинку с едой, шампанское положим в кулер, воду, фрукты, мясо… и проведем день на озере, – предложила счастливая Дина.
– Конечно, – тут же поддержал ее Влэд. – Погода чудесная, давайте действительно устроим пикник.
Элизабет было совершенно безразлично, она не хотела ни купаться, ни загорать. Но если взять хорошую книгу, часа три она смогла бы выдержать.
Полчаса они собирались, потом уселись в Динин «Додж» и покатили на озеро. За руль сел Влэд, мать устроилась рядом, на переднем сиденье, и Элизабет сзади наблюдала, как он протягивает руку, берет ею ладонь матери, поглаживает, пожимает. Ну, когда ему не надо было переключать скорость.
«Осмелел, – заметила про себя Элизабет и усмехнулась: – Меня больше не стесняется. А чего ему стесняться?
Теперь он женатый гражданин с американским паспортом. Что ему я?»
И в тот же момент в зеркале, кажется, оно называется зеркалом заднего вида, она встретилась с его взглядом, ощупывающим ее лицо – внимательно, тщательно, пытаясь ничего не пропустить, не оставить неизученным. На мгновение Элизабет почудилось, что кто-то иной, незнакомый сидит за рулем. На нее смотрели не затравленные, жалобные глаза, к которым она привыкла, а озорные, лукавые, приглашающие к игре, как бы говорящие: подключайся, вдвоем будет веселее. Она вспомнила: когда они играли в теннис когда-то давно, его глаза тоже становились такими же озорными и блестящими. Да, когда она была ребенком, они вместе играли в теннис, но какое значение это имеет сейчас? Никакого!
Борьба их взглядов продолжалась всего несколько секунд, и он первым не выдержал. Машина вильнула раз, два, Дина охнула, схватила его за руку.
– Влэд, ты что? Осторожнее, пожалуйста! – И потом, когда машина нашла дорогу, выровнялась на ней, Дина добавила: – А то мы так до озера не доедем.
На берегу они разложили подстилку, расставили складные стулья, маленький столик на непрочных ножках, кулер с шампанским, свертки с едой, нарезанный ломтями хлеб, фрукты. Разлили шампанское, Элизабет тоже налили, правда, лишь полбокала.
– Может быть, ей не надо? – неуверенно посмотрела Дина на Влэда.
– Да ладно, она уже взрослая, посмотри на нее, – усмехнулся Влэд и снова смерил Элизабет озорным взглядом: – К тому же такой день сегодня…
Они выпили, потом жевали бутерброды. Он ел быстро, жадно, Элизабет заметила, как энергично ходили желваки на его скулах. Она сама лишь отрезала кусок груши, откусила – груша была мягкая и сочная, но больше почему-то не хотелось.
– Ну что, пойдем купаться? – предложил Влэд и начал расстегивать рубашку. – Вы как, девочки?
Дина встала, стала стягивать через голову легкое платье, оголяя сначала полноватые ноги, колени, потом показались панталоны купального костюма почему-то красного цвета.
«Зачем она надела красный купальник? Он же ей не идет, только подчеркивает ее возраст», – подумала Элизабет.
Дина продолжала тянуть платье вверх; когда голова скрылась и потерялась в вороте, она замешкалась, какое-то время так и стояла с оголенными до бедер ногами в туфлях на высоких каблуках, неловко утопающих в песке, казалось, что голова, скрытая в складках материи, полностью отсутствует. Она выглядела не только неловкой, но и комичной – тяжелые бедра, опущенный зад, мягкие, слишком белые, лишенные мышц ноги. И в довершение всему еще и головы нет. Просто «всадник без головы» какой-то, усмехнулась про себя Элизабет и почему-то взглянула на «этого». И ей показалось, хотя возможно, только показалось, что на его губах, как всегда узких и растянутых, промелькнула быстрая усмешка. Мелькнула и тут же пропала.
– Я здесь посижу, – сказала Элизабет, когда Дина все же справилась с платьем и, согнувшись, расстегивала ремешки на туфлях. – Не хочу купаться.
– Почему? – спросила Дина, не поднимая головы, сидя на корточках.
– Пойдем-пойдем, – тут же поддержал «этот» и зачем-то похлопал Элизабет по плечу. – Там хорошо, прохладно.
– Неохота, – ответила Элизабет с искусственной ленцой и передернула плечами, освобождаясь от забытой на них ладони.
– Ну, как знаешь, – с показным равнодушием заметил «этот». – Ну что, Диночка, пойдем?
И они вдвоем пошли к воде – почти одинакового роста, только он значительно жилистее и шире в плечах. Элизабет вообще первый раз видела его без одежды. Оказалось, что у него сильное, плотное тело с густой порослью волос на груди, почти без лишнего жира, со смуглой, на вид грубой кожей.
Это не было гладкое, ровное, резвое тело юноши, в нем, несмотря на сухость и жилистость, чувствовались тяжесть и замершая, угрожающая усталость. Казалось, что они – тяжесть и усталость – могут быть разом сброшены и угроза сразу станет явной. Элизабет уже видела этот трюк там, на теннисном корте.
Он обнимал Дину за плечи, она тоже обвила рукой его талию, а потом он, вдруг нагнувшись, резким, неожиданным движением подхватил ее – сначала одной рукой под колени, потом другой, обхватив за спину, – поднял, чуть прогнулся спиной назад, наваливая ее большое тело себе на грудь.
– Отпусти, отпусти, я тяжелая. Надорвешься! – закричала мать в притворном ужасе, но «этот» склонил голову, что-то шепнул, Элизабет не услышала, и в ответ раздался слишком громкий, слишком молодящийся Динин смех.
Элизабет провожала взглядом эту нелепую, комичную парочку – широкий, коренастый мужчина тащит на себе немолодую, отяжелевшую дамочку с рыхлыми ляжками, с задорно болтающимися ступнями, поблескивающими свеженакрашенными ногтями, со слишком пышной грудью, наваливающейся на ее мягкий живот, при этом дамочка счастливо хохочет в полный голос. Элизабет даже поморщилась. Вспомнила свое тело, которое каждый день придирчиво изучала перед зеркалом – небольшую, аккуратную, чуть вздернутую вверх грудь, плотный, очерченный барабанной округлостью живот, два крепчайших полушария ягодиц, прогибом отделенные от спины.
«Я никогда не стану такой, как она, – подумала Элизабет и снова поморщилась. – Лучше уж умереть в молодости, чем стать такой коровой. Как он ухитряется таскать ее на руках, действительно ведь можно надорваться?»
«Этот» внес Дину в озеро и продолжал нести, пока вода не дошла им до пояса. Там Дина, хохоча и отбиваясь, все-таки вырвалась, соскочила с его рук, взвизгнула, видимо, от холодящей резкости воды. Потом они поплыли: Дина медленно, брассом, плавными ровными движениями, не погружая голову в воду, аккуратно держа ее строго вверх, боясь испортить прическу. Он плыл за ней, его сильные руки рывками разрезали воздух, снова уходили под воду, исчезали там надолго. Он умышленно плыл за матерью в метре позади, хотя казалось, одним взмахом руки мог догнать, накрыть, насесть на нее.
Они не оглядывались. Элизабет открыла кулер, достала наполовину заполненную бутылку шампанского, налила себе в бокал, отпила, снова налила, посмотрела, сколько осталось в бутылке. «Да ладно, не заметят», – сказала она и поставила бутылку назад.
Когда она снова посмотрела на озеро, на плоскую гладь воды, то разглядела только одну точку, да и то вдалеке, на середине озера, даже было непонятно, чья это голова – мужская или женская. Потом вверх поднялись две едва различимые черточки рук и голова исчезла. Элизабет присмотрелась: поверхность озера была совершенно пустая, сиротливая, как будто ее ничто не тревожило – ни сейчас, ни прежде, вообще никогда. Элизабет приподнялась на подстилке, села, вгляделась в блестящую, режущую глаза гладь озера. Ничего. Она почувствовала, как сердце неожиданно плеснуло в груди горячей, обжигающей волной и громко, торопливо застучало. «Где же они?» – подумала Элизабет и встала на ноги – так ей было лучше видно.
И тут голова над водой появилась снова. Кто это, мать или «этот», Элизабет не могла различить, слишком далеко, слишком много блестящих, слепящих бликов. Потом прошло еще несколько длинных секунд. Элизабет почувствовала страх, а потом сразу возникла догадка: «А что, если он утопил ее?» И тут же догадка сменилась уверенностью, полной, непререкаемой, словно иначе и быть не могло. «Конечно, он мог ее утопить. Она вышла за него замуж, он получил документы, и больше она ему не нужна. Мы ведь ничего не знаем про него, он всегда отмалчивается. И в его лице много странного». Мысли выстреливали с невероятной скоростью, одна наваливалась на другую и, не успевая раствориться, тут же поглощалась следующей. «Подплыл сзади… Поднырнул… Схватил за ногу… Утянул вниз… Придушил… А потом скажет – утонула». Страх разрастался и заполнил грудь, горло, сдавил свинцом ноги – Элизабет не могла пошевелиться. «Зачем ей самой нырять? Она же голову мочить боится». Страх проник в горло, ей стало тяжело дышать, она попыталась сглотнуть его, но он застрял в горле и стал подниматься к голове. «Мама, мамочка, ты где?» – Элизабет попыталась крикнуть, но у нее не получилось ни хрипа, ни даже шепота. «А потом он приплывет назад и сделает что-нибудь со мной, ведь я единственная свидетельница». Она оглянулась, обвела берег взглядом – нет, не единственная, вдалеке, на другой стороне озера были люди. Несколько… Элизабет пригляделась. Четверо… Похоже, семья… Двое взрослых и дети. «Может быть, надо бежать к ним? Кричать, просить о помощи. Может быть, они защитят».
Но она никуда не побежала – не смогла, лишь снова обвела взглядом лоснящуюся на солнце поверхность озера. И не поверила – головы было две, они приближались к берегу, увеличиваясь в размере, она даже теперь могла различить лица.
«Дура, – подумала про мать Элизабет, – так меня напугать. Что за идиотские игры?! Будто ребенок заигралась».
И действительно, теперь было видно, что они оба смеются – мать и «этот»; волосы у матери выбились из пучка и, мокрые, падали в воду, но она смеялась действительно как маленькая девочка. Никогда прежде Элизабет не видела ее такой счастливой.
«Дура, – снова подумала Элизабет, – чего так развеселилась? Из-за того, что „этот“ рядом? Тоже мне радость».
Она снова налила в бокал шампанского, выпила половину, страх тут же исчез, будто его смыло.
«А я тоже, что за глупые мысли лезут в голову. – Элизабет проглотила остаток пузырящейся жидкости из бокала. – Я тоже дура. – Она легла спиной на подстилку. Небо было такое же блестящее, как и озеро, и тоже голубое, вот только бликов на нем было меньше. Оно утомляло, это яркое вязкое небо, и Элизабет закрыла глаза. – Хотя вообще-то „этот“ может…» – просочилась последняя мысль, а потом все сразу отступило и покрылось абсолютно ничем.
Разбудило ее чужое дыхание. Она повернула голову, приоткрыла глаза: слева на подстилке лежал «этот» – рука поднята и заброшена за голову, щека примяла предплечье. Он смотрел на нее медленным, серьезным, внимательным взглядом, будто пытался найти в ее лице что-то новое, чего никогда прежде не видел. Элизабет не отвела глаз. Их разделяло всего пол-ярда, она чувствовала исходящий от его тела влажный, разбавленный в солнце запах озера. Они смотрели друг на друга долго, так и не сказав ни слова, а потом ей надоело, и она отвернулась и опять стала глядеть вверх на небо, которое сейчас было еще более голубым, чем тогда, до сна.
Элизабет лежала на спине, не отводя взгляда от неба, пытаясь хоть как-то вобрать в себя его бездонность, и знала, что он все так же лежит рядом и так же, подперев щеку рукой, неотрывно смотрит на нее.
А потом она почувствовала нити. Или нет – волны. Они тянулись от него, легко пронизывая разделявшее их пространство, и огибали ее тело плавной уютной волной, и укутывали его, пеленали, превращали в кокон. Она явно чувствовала их, они, словно живые, входили в ее поры, во все миллионы клеточек, заползали в глаза, рот… Наверное, именно поэтому она услышала свое дыхание – слишком шумное, неприличное, а еще неуместно вздымалась грудь, она тоже не умела скрыть волнения.
А он продолжал смотреть на нее и наверняка все понимал. Может быть, он тоже чувствовал эти нити, эти волны, может быть, они распространялись в оба направления и накрывали его тоже, – Элизабет не знала и не хотела знать.
– Гд е мать? – спросила она, сдерживая дыхание, загоняя его, разнузданное, внутрь.
– Переодевается, – раздался его голос, но Элизабет не повернула головы, она смотрела на нарезанное воздушными слоями небо.
– Ты зря не пошла купаться, – снова проговорил голос. – Вода очень теплая.
– Ага, – ответила Элизабет и замолчала. Потому что небо над ней закончилось и воздушная бесконечность закончилась тоже, все оказалось заслонено головой матери. Она склонилась над Элизабет, и той ничего не оставалось, как вглядываться в ее лицо, как до этого она вглядывалась в небо.
– Было так здорово, Лизи, – сказала Дина, улыбаясь. – Влэд нырнул и не появлялся целую вечность, наверное, минуты две. Я так испугалась, что сама нырнула, даже прически не пожалела. – Тут только Элизабет заметила, что голова матери повязана полотенцем. – А потом он вынырнул, представляешь, он может находиться под водой…
Элизабет давно не видела Дину так близко. Оказалось, что у нее морщинки под глазами, и неровная, мятая кожа на щеках, и очень мягкие, любящие, не скрывающие любви глаза. И вообще, лицо было родным и любимым до боли, до приступа разрывающей сердце жалости.
Именно такой она навсегда запомнила свою мать, именно «до разрывающей жалости». Потому что через две недели Дина исчезла, и вот такая – любящая, любимая, близкая, родная – больше не появлялась никогда. Во всяком случае, наяву.
* * *
В отличие от большинства пожилых дам я не истерична. Обычно я прагматична, расчетлива и… какое еще было слово… ах, да – цинична. Можно было бы назвать меня типичной стервой, но в типичные стервы я не подхожу по возрасту.
Но сегодня я проснулась не в своей тарелке – все тело болело, даже подняться с постели было непросто. Позвала Карлоса, но он не откликался. Тут я вспомнила, что вчера перед сном его тоже не было в наших апартаментах. Кобеленок, наверняка опять вскарабкался на какую-нибудь крепкопопую сучку. Либо на ту белокурую, молодящуюся, лет под тридцать немку, которая дефилирует повсюду в более чем откровенном купальнике, да еще на высоких каблуках, раскачивая в такт бедрами. Либо на француженку, которой и молодиться ни к чему и лифчик незачем.
Ну ладно, пусть только вернется, мой смуглокожий Дон Жуанчик, я ему за завтраком устрою еще одно удовольствие. Не менее продолжительное и интенсивное, чем ночное.
Пришлось вставать, разминать зудящие суставы незамысловатыми упражнениями – начиная с ног, потом живот, ягодицы, конечно… Хотя этим уже ничего не поможет. Поднимаемся выше по телу. Доходим до глаз – десять минут на разработку мышц глаз. Потом снова спускаемся вниз, к самому сокровенному – там ведь тоже кое-какие мышцы еще остались. Могла бы их и не тренировать, но в привычку вошло, практикую еще со времен бальзаковского возраста – потому и объемный Карлос все еще как-то чувствуется.








