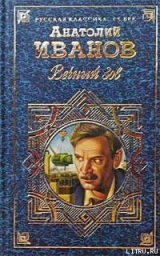
Текст книги "Вечный зов. Том II"
Автор книги: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
То ли потому, что Кошкин назвал его просто по имени, то ли оттого, что в голосе командира штрафной роты явственно прозвучала искренность, сердечность даже, Алейников вдруг опять разволновался, как мальчишка, почувствовал, что к лицу подступила вся кровь. И, еще больше смешавшись от мысли, что Кошкин заметит его состояние, торопливо схватил протянутую руку, но не пожал ее, а грубо дернул Кошкина к себе, обнял за горячие плечи.
– До свидания. Спасибо… Останемся живы – встретимся в Шантаре.
– Встретимся, Яков Николаевич, чего ж… – сбивчиво промолвил и Кошкин.
– Непонятно мне только: чего ж ты этого типа… этого Зубова не расстрелял? – неожиданно для самого себя проговорил Алейников. – Он же снова может…
– Не думаю, – ответил Кошкин, оправляя гимнастерку. – И как тебе сказать? Любопытен мне чем-то этот тип.
– Чем же?
– Ну как же… Ведь сын нашего классового врага, как говорится, царского полковника, колчаковского карателя, с которым мы в гражданскую дрались, – усмехнулся Кошкин. – Как-никак пусть под гнетом закона, но воюет за интересы, противоположные интересам его отца… Эта троица – Зубов, Кафтанов, Гвоздев – прибыла в роту давно. Участвовали уже в двух боях. И странное дело – ни один из них даже царапины не получил. Будто заколдованные. Все трое барахло человечье, конечно, но в боях вели себя по-разному. Кафтанов и Гвоздев все норовят в бою за спины других. А Зубов в самое пекло лезет. А он у них главарь… Что он, смерти ищет? Или что-то тут другое?
– Смерти-то вряд ли. На ранение рассчитывает.
Кошкин глянул на часы, машинально проверил, все ли пуговицы застегнуты на гимнастерке.
– Может быть, и так. Но люди, Яков, интересные, что ни человек, то… экземпляр. А в Валуйках, по-моему, он, стреляя в меня, промахнулся умышленно.
– Да? Зачем же тогда стрелял?
– Ну, у них, у воров, не как у фраеров, – усмехнулся Кошкин. – Надеюсь, жаргон их знаешь? Штрафники из уголовщины все считаются ворами. Остальные для них фраеры. А воры живут и здесь по своим законам… Возможно, Зубов провинился в чем-то перед другими, более могущественными ворами, а те приговорили его таким образом загладить вину. Может, задолжал кому. Или просто в карты меня проиграл. У нас ведь и такое бывает. Нынче весной двух командиров взводов таким образом потеряли. И виновных не нашли, к сожалению.
– Где ты находишь мужество… командовать этой ротой?! – воскликнул невольно Алейников.
– Н-да… А я вот тоже не могу тогда понять: где ты, Яков Николаевич, берешь мужество, чтобы в тыл к немцам ходить, в самое их логово? – И командир штрафной роты в третий раз глянул на часы. – Ну, извини, мне давно пора. Каждый бой для нас – это бой-прорыв, топтаться на месте, а тем более отступать мы не имеем права. Так что надо мне подготовить роту. – Кошкин взглянул на Алейникова и чуть изменившимся голосом, отчетливо выговаривая каждое слово, переспросил: – Значит, боялся попасть в командиры к штрафникам?
В глазах у Алейникова вспыхнули колючие искорки. Алейников это почувствовал сам и тут же притушил, спросил с грустной горечью:
– Смеешься?
– Да нет, Яков. Командовать штрафной ротой – не мед пить, – со вздохом ответил Кошкин. – Но приказали б тебе – и стал бы командовать. – Голос его дрогнул и посуровел, зазвучал жестче, на скулах вспухли и заходили желваки. – Идет война с жестоким, озверевшим врагом. Не на жизнь, а на смерть идет! И тут не до личных эмоций и желаний. Надо будет Родине – мы выполним любой ее приказ. Любой!
* * * *
Алейников, перебирая в памяти разговор с Кошкиным, спускался по тропинке к речке, где остался Гриша Еременко с машиной. Тропинка шла по косогорчику, заросшему травой, еще не пожелтевшей под солнцем, но и давно не свежей. Слева чернели две, одна возле другой, огромные воронки от тяжелых снарядов, в каждой яме могло бы спрятаться по танку. В траве и по краям белели искрящиеся шарики поспевших одуванчиков, и Алейников почему-то подумал: «Интересно. У каждого жизнь своя. Наверное, уж после того, как сюда упали снаряды, одуванчики успели расцвесть, созреть и дать семена…»
Все время, пока разговаривал с Кошкиным, у него было почему-то желание сообщить, что тут неподалеку еще несколько их земляков, и удивить, что один из них, Федор Савельев, предал Родину, служит у немцев карателем, но не сообщил, как-то не нашел для этого подходящего момента в разговоре и теперь жалел об этом.
Тропинка вильнула в низкорослый кустарник, выбежала из него на речную луговину, и там, у края кустарника, в жидкой тени, сидел Зубов и строгал перочинным ножом прутик. Метрах в двухстах от Зубова стояла на берегу речушки машина Алейникова, блестя под солнцем вымытыми стеклами. Еременко в одних трусах лежал рядом с машиной на траве, загорал. «Ишь химик», – с завистью, но без раздражения подумал Яков, вспомнил вдруг второй раз за сегодняшний день жену Галину и ее сына и то, как они все втроем ходили иногда на Громотуху и жена, накупавшись, подолгу лежала на песке или траве – она очень любила загорать. «Где она сейчас? – подумал он. – Врач же, на фронте, видимо. Жива ли?»
При мысли о бывшей жене сердце Алейникова тупо заныло. Он глянул на поднявшегося навстречу Зубова и как-то даже не удивился, что тот сидит здесь, прошел мимо, все думая о жене, о том, что Галина была ведь единственной женщиной, которую он знал как мужчина, она была хорошим человеком, но жизнь сложилась так, что он ее потерял навсегда.
– Товарищ майор, – услышал Яков и обернулся к Зубову, – разрешите спросить, товарищ майор?
– Спрашивай.
Зубов, подойдя, остановился, опустив длинные руки. И глаза опустил вниз, будто разглядывая кулаки, молчал.
– Ну, так что же вы? – проговорил Алейников, неизвестно зачем употребив это «вы». – У меня нет времени.
– Я давно хотел поглядеть на вас, – усмехнулся угрюмо Зубов и поднял глаза. – Еще там, в Шантаре, позапрошлой зимой. Да не успел – забрили нас. Вы ж, наверно, помните? А я специально тогда в Шантару приезжал…
– Какая честь! И что во мне такого интересного?
– Шрам вот этот на лице.
– Вон что! – Алейников с любопытством взглянул на Зубова. – Ну, и что же ты хотел спросить?
– Что? – опять усмехнулся Петр Зубов. – Да просто хотел вопросик задать: смысл-то жизни в чем?
– Та-ак… – Алейников вспомнил все, что говорил ему только что об этом человеке командир штрафной роты, с новым каким-то любопытством оглядел Зубова.
Гриша Еременко, заметив своего начальника, стоял, уже одетый, возле машины.
Зубов вынул перочинный нож, срезал прутик и начал его строгать.
– Вопросик! – сказал Алейников. – А может быть, мы несколько сузим эту тему? И, скажем, смысл-то чьей жизни? Твоей? Моей?
– Зачем суживать? Я спрашиваю вообще… – И рукой, в которой был зажат перочинный нож, Зубов описал перед собой круг.
– Ну если вообще… Вообще смысл жизни – в борьбе за счастье людей.
Слова эти не произвели на Зубова никакого действия. Он не торопясь, равнодушно срезал с прутика листочки один за другим. Потом поглядел в сторону – там неширокая речка больно сверкала на солнце, утекала за молодую рощицу из берез и осин. За рощицей поднимались какие-то жиденькие дымы и таяли, рассасываясь в летнем горячем небе бесследно.
Потом он усмехнулся.
– Я мальчишка был, но помню – отец мой также говорил, что он воюет за счастье людей, за судьбу России… Метку-то на щеке он вам, я слышал, оставил?
– Он, – кивнул Алейников. – По-разному мы с ним понимали счастье людей. И судьбу России.
– Ну да… Потому он тебе и прилепил этот шрам. А вы его, потому что по-разному, убили! Вы… ты лично виноват в его смерти! – прохрипел зловеще Зубов. – Я все знаю! Ты вывел тогда весь партизанский отряд из каменного мешка, куда загнал вас отец! Ты привел отряд на заимку. Я кое-что помню! Вы напали ночью на нас, сонных…
Алейников не испугался хрипучего и зловещего голоса Зубова, не оскорбило его и то, что этот солдат-штрафник вдруг начал говорить ему «ты».
– А что ж удивляешься? Он нас бил насмерть, мы – его… Тут уж кто кого! Борьба классов. Ты, понятно, за отца нам не простишь никогда, сердце все стонет. Ты в Кошкина, в командира своей роты, стрелял…
– Она не моя. Она штрафная! – ощетинился Зубов.
– И ты рано или поздно, при первом удобном случае, к немцам перейдешь… сдашься, служить у них будешь!
– Дурак ты, – негромко сказал Зубов.
– Что-о?! – вздрогнул Яков, точно его ударили, и рука сама собой скользнула к кобуре, хотя краем сознания он все же понимал, что, если выхватит пистолет, сделает глупость. Стрелять все равно не будет. За что же стрелять? Штрафник этот стоит себе спокойно с перочинным ножичком, строгает палочку. За оскорбительное слово? Хорош он тогда будет.
Зубов краем глаза наблюдал за Алейниковым, позы не изменил, только перестал строгать и окаменел весь, ждал… Рука Якова обмякла, опала.
– То, что слышал, – усмехнулся Зубов. – Меня, к твоему сведению, немцы еще в сорок первом из Курской тюрьмы освободили и должность в городской полиции давали. И если б я схотел…
– Чего ж не схотел? – спросил Алейников, испытывая к самому себе мерзкое чувство за то, что не сдержался и чуть не выхватил пистолет.
– Не знаю… А пушку свою ты бы все равно не успел вытащить, – еще раз усмехнулся Зубов и поглядел на свой скромный перочинный ножичек. – Вот эта штучка острее бритвы. Чиркнул бы по шее – и хрипел бы сейчас… Тогда-то мне бы уж ничего не оставалось, как к немцам.
Зубов тяжко и шумно вздохнул, с резким щелчком закрыл свой перочинный ножик, спрятал в карман.
– Ладно… Отца я жалею, конечно. Но сердце не стонет, перестало, – сказал он негромко. И, поймав на себе взгляд Алейникова, добавил: – Я и сам удивляюсь. Видно, делает время свое дело. И борьба классов – ладно. Я попытался кое-что и в этом вопросе понять, разобраться. Книги этого бородатого Карла Маркса пытался читать. И Ленина вашего…
– Ленина? И Маркса?!
– А что ж ты думаешь? Ну, понял я мало. Я несколько лет в гимназию ходил – и все. Остальное образование по тюрьмам получил. Тут я профессор. Но главную мысль насчет борьбы этих классов уловил…
Зубов склонил большую, давно не стриженную голову вниз и замолчал. Потом встряхнул головой.
– Бедные, богатые, капитализм, коммунизм… Все в мире как огонь и вода. В общем – кто кого зальет…
– Примерно так, – сказал Алейников.
– Чего примерно? – Глаза Зубова заблестели как-то странно, явственно проступила в них унылая и, кажется, застарелая боль. – Так и есть! И когда схлестнутся, пар до неба свищет. Кровавый.
– Кровавый, – согласился Алейников.
– Я мальчишкой был, и меня этот пар насквозь ошпарил. Да, к беде моей, не до смерти. И пошел я от злости куролесить. И еще – от бессилия, от тоски. Не поверите?
Взгляд Зубова, этого солдата-штрафника, был открытым, незащищенным каким-то, в зеленоватых глазах стояла все та же боль. И Алейников сказал не сразу:
– Что ж… Понять это я могу.
– А тогда это еще больше, чем поверить, – будто самому себе проговорил Зубов. – Только не подумайте, Яков Николаевич, что я помощи какой-то от вас хочу, из штрафной роты, мол, пытается выбраться… Это меня оскорбит, я гордый. Не-ет…
– Этого я, Зубов, не думаю… – И, глядя, как тот переломил и бросил свой оструганный прутик, добавил: – А разговор у нас, чувствую, долгий будет. Сядем тогда, что ли… – И он первый опустился на обочину тропинки, в бледную тень от редких кустарников. – Сколько у тебя сроку-то было?
– У меня – вышка, – коротко сказал Зубов.
– За что?
– За совокупность.
– Это как так?
– Когда взяли меня в Шантаре зимой сорок второго… Макар Кафтанов там автолавку какую-то пощупал, а я был ни при чем. Что я за птица, им было неведомо, но ясно, что фазан – взяли меня с оружием. Покрутили-повертели и отправили всех троих – меня, Кафтанова и Гвоздева в Новосибирск. Ну, а там я судился раза четыре. Подержали там месяцев шесть, раскопали всю мою скромную деятельность. Сроку у меня было ровно пятьдесят лет. Думал я, не все наскребут. Я и в Киеве судился, и на Кавказе… И еще кое-где. Война ж, думаю, кое-чего и не добудут. Нет, прояснили все до конца. Хорошо работаете. Пенсию не зря получать будете. Ну, и решили, видно: хватит валандаться, все равно из тюрьмы живым человек не выйдет, так и так хоронить за казенный счет – и приговорили к высшей мере… Я даже как-то и… не шелохнулся. Онемело все внутри только – и приятно стало: наконец-то, думаю… С тем и сижу в камере смертников. Но… – Зубов сплюнул в сторону сквозь белые и крепкие зубы. – Вот же проклятая человечья порода! Душа устала, тело покоя просит, а в мозгу, слышу, посасывать стало: неужели и вправду конец?! Короче, написал бумагу о помиловании. Биографию всю изобразил. Осколок, мол, человечий я… Про отца написал все, в общем. И еще на два момента упор сделал. У немцев, хотя они предлагали службу, не остался, мне, русскому, невмоготу видеть, как они нашу землю поганят. И что мокрых дел за мной не было.
– Не было?
– Ни одного, – сказал Зубов. – Не люблю я этого.
– Не любишь? Ты ж в Кошкина, в своего командира роты, стрелял!
– Ну и что? – Зубов как-то брезгливо дернул губами. – Живой же он… В общем, в помилование не верил и не ждал его. Таких, как я, с таким сроком, не милуют. Я ненавидел себя за слабость – я не люблю на колени становиться… А оно пришло, заменили мне вышку штрафной ротой.
В зеленых глазах Зубова плеснулась усмешка и тут же погасла, они снова стали пустыми и грустными.
– Скажи… ты умышленно стрелял в Кошкина мимо? – спросил Алейников.
Зубов, не поднимая головы, бросил на Якова взгляд исподлобья и тут же опустил короткие, выгоревшие на солнце ресницы. И ничего не ответил, только чуть заметно пожал плечами.
– Ну, а… почему стрелял? Что тебя заставило?
– Вам это очень нужно знать?
– Любопытно.
– По приговору.
– По какому? Как понять?
Зубов поглядел на стоящую неподалеку машину Алейникова, наблюдая, кажется, за шофером, который от нечего делать ходил вокруг эмки, постукивая сапогом в скаты.
– В Валуйках ротой и не Кошкин командовал, – хрипуче произнес наконец Зубов. – Был тогда в роте… – И вдруг оборвал себя на полуслове, поднял тяжелую голову. – Ваши дела, гражданин Алейников, должно быть, не сладкие. Я уж знаю… А наши еще страшнее. Может, не надо об них до конца-то?
– Я не слабонервный, – усмехнулся Алейников.
– Ладно, – уронил смешок и Зубов. – Был тогда в роте штрафник Мишка Крайзер по кличке Горилла. И по виду горилла. В зоопарке я только видел таких в железных клетках. Страшный человек, во всем преступном мире известный. Я против него птичка-синичка. Он и был верховным в роте… Такие дела творил! И на людей в карты играл… Прошлой весной командира своего взвода проиграл и в тот же вечер шею финкой просадил. Нож он бросал, сволочь, на тридцать метров точно в яблочко. Назначили другого командира – он и того проиграл.
– Во-он, оказывается, кто! – проговорил Алейников, вспомнив рассказ Кошкина.
Зубов всем телом повернулся к Якову, вопросительно поглядел, но ничего не сказал. И когда отвернулся, вздохнул, а потом только проговорил:
– Горилла мертвый. Но все равно мне за то, что я рассказываю, финарь полагается.
– Не бойся. Не выдам.
– Да я и не боюсь, – промолвил Зубов устало. – И в бою я ничего не боюсь – ни пули, ни снаряда. Только не берут, проклятые.
– И это я знаю. Мне Кошкин говорил.
– Кошкин… – повторил Зубов как-то бесцветно. – Он ведь тоже, кажется, против моего отца воевал?
– Он был в нашем партизанском отряде тогда, – подтвердил Алейников.
– Да-а… Застрели я Кошкина, вы бы все считали – за отца, мол, по классовым убеждениям. А дело по-другому было. За Гориллу Кошкина приговорили. Мы под Валуйками долго стояли, и Горилла со своими телохранителями – были у него такие – где-то трех женщин поймали в степи. Одна даже совсем девчонка, лет, может, пятнадцати-шестнадцати. Спрятали их в овраге, земляную дыру специально вырыли, охрану свою поставили… Ну, и, сами понимаете…
На сильной и черной от солнца шее Зубова напряглась, туго натянулась острая жила, потом мелко задрожала, причинив, видимо, Зубову боль, и он потер шею ладонью.
– Боже мой! Я подлец и сволочь, и вышку мне – правильно! Но почему таких, как Горилла, в живых держат?! Какая ему штрафная там! Его… ему…
Зубов не мог говорить, стал тереть ладонью об землю.
– Пошел я глянуть на них. Из любопытства, что ли. Мы втроем пошли – Кафтанов, Гвоздев и я…
– Кошкин… Кошкин знает? – Алейников хотел подняться, но Зубов мгновенно бросил тяжелую ладонь ему на колено, цепко и больно сдавил пальцами. И неожиданно спокойным голосом проговорил:
– Тихо… Сперва дослушай. Кошкин потом узнал. Не от меня только. От кого – не знаю. И всю обойму в Гориллу вылупил. Зверь это был, не человек. Кошкин стреляет, садит пули ему в спину, в затылок, в голову, а Горилла пытается с земли подняться. Хрипит, землю пальцами пашет и на колени встает, встает… Мы так и думали – встанет во весь рост и двинется на Кошкина. Нет, рухнул.
Глуховатый голос Зубова звучал теперь ровно, говорил он без видимых усилий, и только иногда чувствовалось, что какое-то слово дается ему нелегко.
Он умолк, помолчал с полминуты, и Алейников его не торопил, ждал терпеливо, понимая, что тот снова заговорит сам.
Зубов молчал долго. Гриша Еременко, удивленный, видимо, о чем это ведет такую длинную беседу его начальник, сел на крыло машины, закурил.
– Я думаю, что Кафтанов с Гвоздевым и капнули телохранителям Гориллы, будто я его заложил, – проговорил Зубов. – Но полной уверенности ни у кого не было, иначе бы они со мной не так… А здесь только и поручили мне «приговор» исполнить. За Гориллу они «приговорили» Кошкина в тот же вечер. Посмотрим, мол, как он, то есть я…
– И что ж ты?
Петр Зубов пожал плечами.
– Не обрадовался. Дураку ясно, за такое дело – расстрел. Откажусь выполнить «приговор» – тоже смерть. С той лишь разницей, что не знаешь, когда, где и как она наступит. То ли нож под ребро воткнут, то ли в кусты оттащат и голыми руками задушат…
Зубов поглядел на сожженное солнцем небо и уронил беззвучный смешок.
– Но и не испугался…
– Врешь, испугался, – неожиданно проговорил Алейников. Зубов вопросительно приподнял на него глаза. И Алейников пояснил: – Была у тебя вышка, но после ранения в бою мог быть свободен, все прошлое могло враз похериться. На войне только может такое быть… Разве не думал, не надеялся на это?
Зубов опустил глаза и несколько секунд помолчал. Потом вздохнул тяжко, глубоко и через силу будто промолвил прежнее:
– Нет, не испугался. А думать – что ж… Об этом у нас все невольно думают и надеются. И я, конечно… Сильно тоскливо мне стало просто, Яков Николаевич, а испуга не было.
Потянула откуда-то из-за реки тугая и душная струя воздуха, принесла горький запах сожженной земли. И Зубов, будто от этого запаха, поморщился. Опять пошевелил плечами, словно пытаясь что-то сбросить с них. И заговорил дальше, через силу сдерживая накопившееся где-то внутри раздражение:
– Да, напала тоска. Черт ее знает, что за штуковина это такая… И раньше было – нахлынет без всякой причины, как на сопливого интеллигента, ну хоть в петлю лезь. Водкой глушил ее. А тут… И вдруг все в невиданную злобу перешло. В звериную!
– К кому?
– К кому?! – Зубов сплюнул на землю. – Да, к кому? Это не так просто объяснить, если честно. К этому волосатому Горилле, хотя он уж был мертвый! К его телохранителям… На тактических занятиях подползают ко мне: давай, мол, вон Кошкин возле кустов маячит, ночь темная, не поймут, кто стрелял, а мы не выдадим… Кой черт, думаю, не выдадите?! Сами же руки и скрутите, едва прихлопну командира роты… Суют мне в руки пистолет. Оружие нам до боя не выдают, на тактических занятиях с деревяшками бегаем. Ну, да этого добра на войне прикарманить чего стоит… Тут-то и захлебнулся я злобой ко всему на свете! В том числе и к Кошкину. К себе, ко всей этой кошмарной жизни! Вырвал я пистолет… Опять же, хоть верь, хоть нет, поверх всего ошпарила мысль: в телохранителей Гориллы разрядить его! Да черт его знает, сколько в нем патронов, а их четверо… Ну, и лупанул в Кошкина.
Зубов замолчал, начал царапать всей пятерней грудь под гимнастеркой.
– Что ж дальше? – спросил Алейников.
– А дальше так и вышло, как я думал. Все четверо немедля навалились на меня, руки заломили: «Сволочь! Ты же не прицелился! Ну и подыхай! Это он, Зубов, товарищ капитан, хотел вас…» Это они уж подскочившему Кошкину кричат, подбежавшим бойцам. У Кошкина пистолет в руке дергается. «Про-очь!» – заорал он. Державшие меня Гориллины дружки брызнули в стороны, как тараканы. Я лежу, распластанный, на земле. «Ты?!» – прокричал Кошкин, поднимая пистолет. И тут я… понял я в какую-то секунду, что не выстрелит он. Приподнялся и сел. «Я», – говорю…
– Как же… понял?
– Э-э, Яков Николаевич… Как все объяснить? На какой-то миг Кошкин задержал зрачки на тех четырех, что отскочили от меня. А я заметил… Знает он нашу братию, за что и уважают его. Нюхом почуял, что не во мне тут дело. И я это понял. Да-а… А если б я сказал: «Нет, не я» – он бы выстрелил, я думаю.
– Безусловно, – сказал Алейников и поднялся.
Зубов тоже встал вслед за ним и потоптался, разминая затекшие ноги.
– Эти… телохранители где сейчас? Тут? – спросил Алейников.
– В последнем бою легли. Бой был – таких, Кошкин говорит, даже он не видывал. От роты осталось человек с полсотни… – И, видя, что Алейников пристально глядит на него, добавил с усмешкой: – Нет, не я их, немцы. Я еще раз повторяю – ни мокрыми делами, ни в спины людей, кроме немцев, не стрелял. Верь, не верь – мне это без нужды. Говорю как есть… И этих, Макара Кафтанова с Гвоздевым, не тронул, хотя они меня, сволочи, продали, больше некому.
Зубов умолк. Они молча стояли теперь друг против друга. Зубов глядел куда-то в сторону, а Яков Алейников словно ждал еще каких-то его слов.
– Ну что ж, прощайте, Яков Николаевич, – произнес наконец Зубов. – Извините, товарищ майор, что я… Мне просто хотелось… Хотя и не такой, может, разговор вышел, как я хотел. Главного вопроса я так и не задал.
– А ты задай, – сказал Алейников.
– А вы ответите?
– Если смогу, чего же…
– Ладно… – В прищуренных глазах его возникла почему-то неприязнь, они засветились злорадным зеленым холодком. – Он простой, этот вопрос. Завтра на рассвете у нас смертельный бой опять. И скорей всего я погибну – сколько судьбе закрывать меня? Но если случится чудо, заденет меня пуля, а живой останусь, смысл-то в этом какой будет? Если останусь, будет?
Алейников молчал, Зубов, помедлив, спросил несколько по-другому:
– От людей мне прощение может быть или нет?
– От людей? – переспросил Алейников, пораженный не тем, что подобный вопрос задает человек, приговоренный за преступления против общества к высшей мере наказания – расстрелу, и только чудом это наказание ему заменено пребыванием в штрафной роте, а чем-то другим, более сложным и глубинным, что стояло за этим вопросом и что прозвучало в голосе Зубова. – От людей?..
– Именно.
Пустынно и тихо было возле небольшой речушки, из которой пили, в которой смывали, конечно, грязь и пот, обмывали раны и немецкие, и русские солдаты, в которую падали немецкие и русские снаряды, берега которой размалывали колеса и гусеницы наших и вражеских машин. Израненные, искромсанные во многих местах эти берега, казалось, еще дымились, в яминах и воронках будто стоял до сего времени пороховой чад и дым. Свирепая и безжалостная битва не однажды подкатывалась к речушке, не однажды бушевала над ее слабеньким и неглубоким руслом, и Алейникову вдруг почудилось, что речонку сто раз могла уничтожить страшная война – завалить крохотную, малосильную полоску воды взрывами бомб и снарядов, затоптать колесами и гусеницами, – а все не уничтожила, не в силах была уничтожить, и упрямая речушка вот течет и течет, пробиваясь сквозь перепутанные, переломанные, обожженные кустарники и травы, вскипает под солнцем на маленьких своих перекатах, негромко позванивает слабенькой волной, а в крохотных омутах крутит травинки и листья, пока течение, не приметное даже и глазу, не выбьет их на существующий и у этой речушки стрежень и не понесет их куда-то дальше.
– Да от людей… – в третий раз повторил Яков Алейников. – Вот что я скажу тебе, Зубов. Есть разные… разные преступления против людей и против жизни. И я обо всем этом думал – уж поверь мне, – много думал и раздумывал! Одни преступления люди могут простить легко. Стоит, как говорится, покаяться – люди поверят и простят. Они добрые, люди. Прощение за другие надо заслужить делами. Иногда всей жизнью. – Алейников судорожно проглотил слюну. – Иногда смертью только можно это заслужить… Но бывают и такие преступления которые не прощаются. Никогда не прощаются, как бы ни старался потом. Тут хоть жизнь отдай. Ни при жизни, ни после смерти… Закон даже может простить, а люди – нет.
– Например?
– Например, измена Родине.
Алейников смотрел на Зубова, но тот стоял к нему боком, скрестив руки на груди и сжимая большими заскорузлыми ладонями плечи, смотрел куда-то в сторону сожженной войной деревни.
– Останешься живой – подумай обо всем этом. Ведь уцелеешь если, жить как-то придется.
– Выходит… если освободят меня после завтрашнего боя, выйдет, что не сам я прощения за свои преступления заслужил, а просто… закон мне простил?
– Так выйдет, – кивнул Алейников.
– А люди пока не простят?
На это Алейников лишь пожал плечами: я, мол, все сказал, что ж еще добавить?
– И по твоим рассуждениям выходит, что отца… моего отца ни закон, ни люди никогда не простят?
Алейников прищурил глаза, уголки губ его опустились вниз.
– Никогда. Он был наш классовый враг. Непримиримый и жестокий. Таким и остался до самой своей гибели. Как же могут его люди простить?
– Люди на блюде! – усмехнулся вдруг Зубов зло, едко, кажется, даже остервенело, уронил вниз руки. – Ну, прощевай еще раз, Яков Николаевич… Спасибо за политбеседу.
Зубов все с той же откровенно враждебной усмешкой секунду-другую глядел ему в лицо, резко отвернулся и пошел вверх по тропинке в сторону деревни, раскачивая широкими плечами, обтянутыми порыжелой гимнастеркой. Не останавливаясь, повернул вдруг голову, проговорил отчетливо:
– Не на блюде даже, а на горячей сковороде.
Никакой усмешки теперь на лице его не было.
… – С кем это вы, товарищ майор, долго так беседовали? – поинтересовался Гриша Еременко, когда они ехали изрытым проселком в расположение дивизии, соседней с 215-й: Алейников хотел поглядеть, нет ли там более удобного места для предстоящего перехода его группы линии фронта.
– Так… Любопытный человек, – ответил Яков и больше ничего объяснять не стал, лишь потрогал шрам на левой щеке, оставленный на всю жизнь шашкой полковника Зубова. «Не на блюде, а на горячей сковороде…» Алейников нахмурился и вдруг подумал: «А ведь Зубова, если он после завтрашнего боя останется живым, можно было бы, пожалуй, взять с собой в тыл врага. Смело можно было бы…»
Но мысль эта, мелькнув, пропала и больше не возвращалась. Другие дела и заботы нахлынули на Алейникова.
* * * *
Вчера вечером самоходка Магомедова, о которой Алейникову рассказывал начальник штаба дивизии подполковник Демьянов, смяв вражескую батарею, неслась среди толп бегущих куда-то немцев, давила их, разбрасывала тупым рылом, вздрагивала от каждого выстрела, и у Семена возникло ощущение, будто тяжелая машина всякий раз на секунду останавливалась, а потом стремительно бросалась дальше в свистящий дымно-огненный ад, сама распуская за собой желто-черный хвост дыма. Она горела уже давно, поджег ее какой-то рыжий немец, кинувший под гусеницы из окопчика гранату. Семен увидел немца, находящегося впереди и чуть сбоку, уже в тот момент, когда он размахивался, и невольно прикрыл на мгновение глаза. Граната должна удариться сбоку в левую гусеницу, точно посередине, Семен это почувствовал, она порвет траки – и тогда… Тогда грозная, не танк, конечно, но все равно грозная и могучая машина превратится в беспомощную стальную коробку, каких много вон торчит по всему полю и у подножия высоты, откуда била наша батарея.
Взрыв ухнул не страшный – сколько Семен пережил уже и таких взрывов, и прямых попаданий в броню снарядов и бомб! – гусеницы остались целы, но через какие-то секунды в машину потек едкий дым. Еще до того как он потек, Семен круто развернул самоходку и, сжав зубы, в звериной ярости бросил ее на окопчик. Он еще раз увидел того же немца, который теперь трясущимися руками хватался за край окопчика, пытаясь из него выскочить. «Идиот безмозглый!» – злорадно подумал Семен, увидев, что окопчик глубокий и, если бы немец остался в нем, упал на дно, ничего ему бы не сделалось, разве бы присыпало немного землей. Теперь же для него спасения не было…
– Куда эдешь? Куда эдешь? – заорал командир самоходного орудия лейтенант Магомедов. – Сержант! Назад!
– Горим! Команди-ир!.. – задыхаясь, прокричал в ответ Семен, круто разворачивая машину, подмявшую рыжего немца.
– Мы, кажись, врюхались, – послышался голос Ивана. – Слева нас танки отрезают!
– Шайта-ан! – визгливо воскликнул командир самоходки. – Ну ладно, ну ладно… Разворачивайся еще! Направо! Будем пробиваться назад, к своим!
– Да куда? И справа вон немецкая колонна прется! – опять прохрипел Иван.
Две-три секунды Магомедов молчал, затем обезумевшим голосом скомандовал:
– Вперед… к высоте! Пробьемся к нашей батарее!
Семен, подчиняясь приказу, бросил самоходку к высоте, которую обтекали вражеские танки. По ним били с холма наши пушки, а по холму яростно молотили из своих орудий немецкие танки, фонтаны из огня и земли делались все гуще, и скоро высота почти потонула в дыму и сухой, горячей пыли. Самоходное орудие тоже стреляло раз за разом, но попадал ли дядя Иван в немецкие машины, Семен не видал. Пламя, хлеставшее откуда-то сбоку, временами доставало уже его плечо.
– Боеукладка горит! – страшно прокричал Иван. – Счас рванет!
– Глуши мотор! Всем из машины!
Семен на землю вывалился мешком, глотнул полную грудь воздуха, который был не намного свежее, чем в машине, с дымом и бензиновой гарью, но все же им можно было дышать. Несколько мгновений он лежал, распластавшись, прижимаясь к земле грудью, чувствуя, как саднит обожженное плечо. Лежа, он ничего не видел из-за стлавшихся по высохшей траве дымов, только слышал всем телом, как от танковых гусениц и рвущихся снарядов дрожит земля.
– К высоте! Савельевы, где вы там?
– Ага, понятно… – зачем-то вслух пробормотал Семен, приподнялся, увидел в бело-грязном дыму бегущих к высоте дядю Ивана и Магомедова, бросился за ними. Но сзади, шагах, может, в пятнадцати – двадцати, там, где стояла горящая самоходка, рвануло небо и землю, в ушах зазвенело и засвербило, будто туда забилось по комару.








