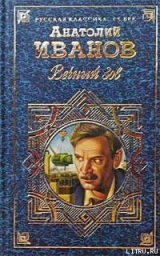
Текст книги "Вечный зов. Том II"
Автор книги: Анатолий Иванов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Товарищ подполковник! Командир переданной в оперативное подчинение вашей дивизии Сто сорок третьей отдельной армейской штрафной роты капитан Кошкин и агитатор роты старший лейтенант Лыков прибыли для получения боевой задачи.
Капитан докладывал не торопясь, отчетливо выговаривая слова. И каждое слово, казалось Алейникову, тяжелой свинцовой каплей падает на горячую землю, ему под ноги, и взрывается там. Он смотрел на широченную спину Кошкина, обтянутую порыжевшей от солнца гимнастеркой, на огромные лопатки, похожие на крылья большой и сильной птицы, и почему-то думал, что, если в эту спину и ударит пуля, она ни за что не пробьет ее, отскочит, как от танковой брони.
– Кто-кто? – переспросил подполковник Демьянов, выслушав доклад. – Как это понять – агитатор?
– Так у нас называется заместитель командира роты по политической части, – спокойно ответил Кошкин, не отрывая руку от пилотки, тоже старой, давно облинявшей.
– Вольно, – произнес Демьянов, с нескрываемым любопытством и даже удивлением разглядывая громадного капитана и старшего лейтенанта. Но те, видимо, давно привыкли к этому, стояли себе, ожидая дальнейших слов начальника штаба дивизии. Руку капитан опустил, но держался все же навытяжку.
Демьянов поглядел на Алейникова. Кошкин тоже скосил свои пронзительно черные глаза, скользнул ими равнодушно по его фигуре и опять стал глядеть в лицо подполковника. «Не узнал», – с облегчением почему-то подумал Яков, ясно понимая, что через какую-то минуту он сам подойдет к нему, поздоровается и все разъяснится. А какие первые слова скажет Кошкин, узнав наконец его, Алейникова? Что будет у него в голосе, в глазах? Удивление? Брезгливость? Презрение?
– Ну, и… сколько вас в роте? – спросил Демьянов как-то негромко, вкрадчиво. – Какова численность?
– Одна тысяча девяносто два бойца, не считая постоянного состава, – отчеканил Кошкин.
– Сколько?! – Демьянов даже отступил на пару шагов.
– Одна тысяча девяносто два бойца, не считая…
«А за что нас, Яков Николаевич?»– гудел в ушах Алейникова этот же голос, который докладывал подполковнику о численности штрафной роты. Тогда только этот голос был глуше, он был усталый и от усталости, видимо, равнодушен, хотя печальные, обреченные ноты прорывались в нем сами собой. Тогда он, Яков Алейников, зимней и лунной ночью тридцать восьмого арестовал вот этого человека и председателя Шантарского райпотребсоюза Засухина одним заходом. Ясно, будто это было вчера, Яков припомнил, как он стучался в двери сперва одного, потом другого, как из домов обоих доносился женский и детский плач, когда он их уводил… Потом этот вот капитан с колючими короткими усами, почти полностью поседевшими, тогда безусый, в сапогах, тужурке и старенькой меховой шапке, наблюдал, как дежурный камеры предварительного заключения расписывается в книге в приеме заключенных, и тут-то он негромко и спросил: «А за что нас, Яков Николаевич?»
Алейников, по-прежнему сидя на врытой в землю скамейке, поставил локти на колени, ладонями закрыл щеки и уши. Ладони были горячими, он услышал, как в пальцах толчками бьется кровь. А может, не в пальцах, а в висках…
– Что значит не считая постоянного состава? – будто издалека донесся голос Демьянова.
– Постоянный состав, товарищ подполковник, – это офицеры и сержанты роты. Мы с Лыковым, командиры взводов, помпохоз, старшина роты, медицинский персонал… Всего человек около тридцати, – ровно докладывал Кошкин, опять же нисколько не удивляясь вопросу подполковника. Голос командира роты то отчетливо доходил до Алейникова, то пропадал куда-то, проваливался. – А остальные – переменный, значит, штрафники, заключенные. У нас дело ведь такое: кровью смоет человек преступление – снимаем судимость, отправляем в обычные войска. А в роту поступают новые. Потому и переменный называется.
– Понятно, – сказал Демьянов. – Спасибо, капитан, за разъяснение. Извините уж.
– Это все обыкновенно, товарищ подполковник. Нам постоянно приходится объяснять…
Яков Алейников, чувствуя, как в груди разливается что-то неприятное и холодное, поднялся рывком и шагнул к капитану и подполковнику. Те одновременно повернулись навстречу.
– Здравствуй, Данила… э-э…
– Иванович отчество мое, Яков Николаевич, – так же неторопливо, как рассказывал о составе и численности штрафной роты, проговорил Кошкин. – Здравия желаю, товарищ майор.
– Ты… узнал меня?
– Так точно, Яков Николаевич. Еще из машины, когда подъезжали. Глаз у меня зоркий. Рубец-то на щеке у тебя памятный.
Демьянов с изумлением переводил глаза с одного на другого.
– Вы знакомы, выходит?
– Земляк это мой, – промолвил Алейников.
– Как? Еще один?!
– Что поделаешь! Земля, видать, тесновата стала. Значит, рубец? И тоже… по ночам я тебе снился, выходит?
– Никак нет, Яков Николаевич. Думать о тебе частенько думал. А чтоб сниться – нет. Нервы, должно, у меня крепкие.
Подполковник Демьянов слушал этот разговор и ничего не понимал.
* * * *
Спустя час капитан Кошкин, сильно размахивая тяжелыми, как гири, кулаками, нагнув голову, по-журавлиному шагал вдоль улицы деревеньки Малые Балыки, когда-то уютной, видимо утопающей в тополиных зарослях, а сейчас почти начисто стертой с лица земли огненным валом войны. Ступал он тяжело, из-под хромовых, порядком разбитых сапог тугими фонтанчиками брызгала пыль; Кошкин, кажется, с любопытством глядел на стреляющие из-под ног пыльные струйки и негромко рассказывал:
– До самой войны, Яков Николаевич, я сидел… Вместе мы с Засухиным были в лагере строгого режима. Помнишь Василия Степановича-то?
Кошкин поднял голову, глянул на Алейникова. Тот, наоборот, опустил свою.
– Ты прости, Алейников… Ты попросил рассказать, я и говорю.
– Ничего… Ты не жалей меня.
– Да мне что тебя жалеть? – усмехнулся Кошкин. – Ну вот… Лагерь большой был, на севере, в самой почти тундре. Скучать было некогда. Там, в тундре этой, и остался навсегда Засухин Василий Степанович… Воробьев, стой! – закричал вдруг Кошкин вслед обогнавшему их грузовику, замахал руками.
Машина остановилась, из кузова, заваленного какими-то мешками и тюками, выпрыгнул коротконогий старшина, подбежал, приложил руку к пилотке.
– Ты что, сам за «делами» заключенных, что ли, ездил? – Кошкин кивнул на грузовик. И, повернувшись к Алейникову, пояснил: – Это старшина нашей роты.
– Никак нет, товарищ капитан. Я попутно – проверить, не осталось ли какого имущества в эшелоне по разгильдяйству и недогляду. Ничего вроде…
По улице, меж развалин домов, обгоревших деревьев, сновали обыкновенные по виду бойцы – в гимнастерках, в пилотках, в кирзовых сапогах, занимаясь устройством на новом месте. Но они же были и заключенными. После боя, в который штрафной роте предстояло вступить завтра на рассвете, сюда приедет весь состав военного трибунала армии, будет на месте освобождать отличившихся. Таковым в первую очередь считается каждый получивший в бою хоть какое-то ранение. На них напишут боевые характеристики, заполнят справки об освобождении и кого отправят по санротам и госпиталям на излечение, других, с пустяковыми царапинами, откомандируют в различные армейские части. «Дела» погибших в бою будут отложены отдельно, запакованы, опечатаны, снабжены соответствующей документацией и отправлены в армейский трибунал… Мешки и тюки, в которые запакованы сейчас «дела» всего списочного переменного состава роты, сильно похудеют, а может, и вообще станут пустыми. Но это ненадолго, через несколько дней в роту прибудет пополнение.
– Склады ПФС прибыли?
– Так точно, товарищ капитан.
– Все заявки командиров взводов на обувь, портянки, обмундирование удовлетворить к вечеру.
– Удовлетворим, товарищ капитан. – Старшина был рыжеволос, лицо изрезано крупными морщинами, кулаки по-крестьянски большие, как и у самого командира роты. – Ручных пулеметов не хватает, товарищ капитан, процентов на тридцать, автоматов почти наполовину…
– Я знаю. Помпохоз уехал на армейские склады с нашей заявкой. – И Кошкин повернулся к Алейникову: – Оружие заключенным выдается у нас только перед боем.
– Вот как… – зачем-то произнес Алейников, хотя отлично это знал.
– В НЗ выдать по два сухаря, квадрату горохового концентрата, сахар. И по банке свиной тушенки на троих.
– Слушаюсь.
– Поскольку мы уже считаемся в наступлении, можно к ужину выдать по сто граммов водки.
– Слушаюсь.
– И мне фляжку сейчас. Вот встретились… с земляком.
– Сей минут, товарищ капитан, – опять кивнул старшина.
Кошкин и Алейников пошли дальше. Шли и молчали, обоим трудно было продолжать прерванный разговор. Яков Алейников засунул руки под мышки, будто ладони у него зябли, и с каким-то тупым раздражением на самого себя думал, что напрасно он увязался за Кошкиным, напрасно расспрашивает о прежнем… И вообще, встреча эта – лучше бы ее не было. Как в омут, нырнул он, Алейников, во фронтовое месиво огня и смерти в надежде, что все прежнее останется где-то там, в прошлой, далекой и страшной жизни, которая никогда не вернется, ни с кем из людей, так или иначе соприкасавшихся с ним на его прежнем жизненном пути, особенно с теми, для кого это соприкосновение кончалось так трагически, как для Кошкина, он не встретится. Ведь тысячи и тысячи километров фронта, десятки тысяч километров военных дорог, все постоянно движется, кипит и бурлит, как в котле, фантастические размеры которого невозможно и представить. Но именно в силу того, наверное, что все кипит и движется, он, Алейников, узнает вдруг – где-то рядом, не очень далеко, Федор Савельев. Потом из дивизионной газеты узнает о его сыне и младшем брате Иване Савельеве. И, наконец, Кошкин Данила Иванович, которого в партизанском отряде Кружилина звали Данила-громила. Об Иване, Семене, Федоре Савельевых Алейников только слышал, а Кошкин Данила – вот он, живьем, вышагивает рядом, как журавль. Изменился он, бывший заведующий райфинотделом, порядком – голова наполовину поседела, плечи сильнее ссутулились. Черты лица резко обострились, в темных глазах появился какой-то жесткий, пронизывающий свет. Но сколько пришлось ему пережить и перенести! Другой согнулся бы, сломался давным-давно, а этот…
Штрафная рота прибыла ночью эшелоном из-под Валуек, где она длительное время находилась на доукомплектовании. Так сказал еще в машине Кошкин. Завтра с наступлением темноты роте предстояло вступить в бой на стыке 215-й дивизии с соседом.
Отовсюду – из открытых окон уцелевших домов, из-за редких обгоревших и переломанных заборов и плетней, запыленных кустарников, где группами сидели, на земле или слонялись бойцы, – неслись крики, хохот, звуки губной гармошки, сочная похабщина. Кошкин на это не обращал внимания. Да и Яков Алейников тоже. Он знал, что такое штрафники. У них свой быт, свои песни, свои законы. В атаку они ходили не с криками «ура» – в воздухе стояла такая густая матерщина, что никли, казалось, кусты и травы. Немецкие солдаты и офицеры, говорят, заслышав такую «музыку», бледнели, у них возникала дрожь в руках и ногах.
Заметив двух офицеров, бойцы немного умолкали, с каким-то интересом и любопытством провожали взглядами Кошкина и Алейникова. Попадавшиеся навстречу солдаты вытягивались и отдавали честь по всем правилам. А это уже говорило о многом.
– Чувствуется, уважают тебя, – сказал Алейников.
– Ага, – ответил не оборачиваясь Кошкин. – Под Валуйками на ночных тактических занятиях дважды в меня стреляли.
– Вот как!
– Да. Хочешь, я тебе его покажу?
– Кого?
– А который стрелял.
Это Алейникова удивило. Любой боец штрафной роты, поднявший руку на командира, должен быть расстрелян на месте без суда.
– Любопытно, конечно.
– Да, тебе будет интересно на него взглянуть, – почему-то ответил Кошкин, свернул в переулок.
Через минуту вышли на окраину села, где кособочилась на земле сорванная взрывом соломенная крыша бывшего колхозного тока. Метрах в десяти от нее дымился костерок, на треноге висело закопченное кривобокое ведерко, в нем что-то парилось. У огня сидели двое бойцов в старых, замызганных пилотках, третий лежал на земле, на надерганной из крыши тока соломе. Он лежал на спине, руки заложил под голову, смотрел в небо и тянул унылую тюремную песню:
…Я помню тот ванинский порт
И борт теплохода угрюмый,
Как шли мы по трапу на бо-орт,
В холодные, мрачные трюмы…
Двое, сидевшие у костра, видели приближающихся к ним офицеров, но дела ли вид, что не замечают. Лежавший на соломе все тоскливо голосил:
…Пред нами стелился туман,
Вздымалась пучина морская.
Вдали нам светил Магада-ан,
Столица Колымского края…
– Вста-ать! – рявкнул Кошкин.
Двое сидевших у самого огня медленно и нехотя повернулись на голос, какое-то время смотрели на Кошкина так, будто не узнавали командира роты. Лежавший прекратил петь, тоже повернул голову.
– А-а, – протянул равнодушно один из сидевших и стал подниматься.
Он был высок, чуть сутуловат, и, когда встал, длинные руки его опустились чуть не до колен. Потом поднялся тот, который пел, – парень лет около тридцати, с красивыми смоляными бровями. Он не встал даже, а торопливо, с откровенно издевательской подобострастностью вскочил, вытянулся, обнаружив великолепную фигуру, бросил руку к виску.
– Здравия желаю, товарищ капитан. И товарищ майор. Извините, ослабли зрением. Должно быть, от долгого полового воздержания глаза у меня сохнут. А у Кафтанова с Зубовым и другие органы… хе-хе…
– Молчать! – опять крикнул Кошкин, на этот раз не очень громко. Но в голосе его было столько властности и металла, что даже у Алейникова где-то внутри возник, пробежал холодок.
Макара Кафтанова он узнал сразу, едва услышав фамилию, определил его по широким крыльям носа, как у его отца, Михаила Лукича Кафтанова, по закопченным глазам, как у его брата Зиновия, которого он, Яков, когда-то выследил в Громотухинской тайге и приволок в кабинет к Кружилину. И Зубова узнал – память на людей у него была цепкая.
Алейников не удивился теперь уже еще одной встрече с земляками, стоял и смотрел на Макара Кафтанова, потом на Зубова. Гимнастерка на Кафтанове была расстегнута, тощая грудь густо покрыта синими наколками.
– Который же стрелял из трех? – спросил Алейников.
– А вот этот. Это сын того полковника Зубова, который тебе метку на всю жизнь оставил. Помнишь?
– Ну как же. Старый знакомец.
Петр Зубов шевельнул ресницами, от чего кошачьи глаза его блеснули. Макар Кафтанов запустил руку под гимнастерку, почесал грудь, но под взглядом Кошкина начал гимнастерку нехотя застегивать.
– А этот, певец, кто?
– Фамилия его Гвоздев…
– А-а, – кивнул Алейников. – Тоже земляк. Слыхал…
– Ладно, отдыхайте. Пошли, Яков Николаевич.
Зубов с Кафтановым немедленно опустились на землю, а Гвоздев все стоял, хлопая ресницами, поворачивая голову вслед уходящим. Потом до Якова и Кошкина донесся удивленный его вскрик:
– Бра-атцы кролики! Это ж Алейников… Энкеведешник шантарский!
* * * *
– Василий Степанович Засухин от воспаления легких умер. Вместе мы схватили это с ним… На ветру, под дождиком осенним однажды недели с две вечную мерзлоту долбили. Что строили, не помню. Снизу мерзлая земля, мокрые ледяные глыбы. Опорки раскисли, ноги окоченели. А сверху ледяной дождь… Ну, в лагерный лазарет нас. На моих руках и отошел…
От выпитой водки капитан Кошкин чуть порозовел, на лбу выступили мелкие капли пота. Он вынул носовой платок, чистый, тщательно отутюженный, аккуратно сложенный вчетверо, промокнул лоб. На улице калило солнце, а в комнате полусгоревшего дома было прохладно. Когда к столу подходил ординарец Кошкина, молодой и по виду не обстрелянный еще солдат, у которого на груди, однако, поблескивала медаль «За отвагу», под его ногами пружинили и потрескивали пересохшие половицы.
– Помер он не от воспаления. Просто не выдержал больше старик. Быстро там износился. Остановилось сердце – и все. Это все до войны случилось, в сороковом…
В виски Алейникова больно долбила кровь. И это не от водки – Алейников пил и не пьянел. Водку он не любил, но был крепок на нее, а на фронте так вообще она нисколько почти не брала его. И чтобы избавиться от этой боли, вслух сказал, почти простонал:
– Пожил бы ведь еще! Пожил…
– Конечно, – согласился Кошкин.
Алейникову показалось, что слово это он произнес насмешливо и глядит сейчас на него тоже насмешливо, презрительно. С трудом, чувствуя, как ноют и будто скрипят шейные позвонки, поднял голову. Нет, в лице Кошкина не было ничего подобного, да и вообще он глядел куда-то в стену, думал о чем-то. И Алейников безошибочно определил – о завтрашнем бое.
В дверях появилась чья-то грузная фигура, вошел пожилой лейтенант-медик, распаренный, распухший от жары, в почерневшей от пота по краям пилотке, которая лежала на плоской голове блином, едва прикрывая лысину.
– Ну что у тебя? – спросил Кошкин. – Это начальник нашей санчасти.
– Палатки развернули, Данила Иванович. Двенадцать санинструкторов прибыло из запасного полка… Ничего, завтра мы справимся. А на чем тяжелораненых будем в армейский госпиталь увозить? – Начальник санчасти говорил это, пыхтя и отдуваясь. – Я дал заявки в дивизию и армию. Подполковник Демьянов говорит, что у них свои люди умирают, не могут вывезти. Не хватало, говорит, чтоб еще штрафников каких-то… А штрафники что же, не люди? И в штабе армии не обнадежили.
– Ладно. Сейчас пообедаю и займусь всеми делами… «Мыльников» много?
– Четверо, Данила Иванович. Двое из третьего взвода, по одному из четвертого и шестого.
– Сволочи… – И повернулся к Алейникову: – Мыло глотают некоторые умельцы перед боем. От этого прямая кишка выпадает – и месяц госпиталя. Судить подлецов!
– Да оформим, – сказал начальник санчасти вяло.
– Ладно, иди.
Лейтенант-медик ушел, Кошкин долго ковырялся в тарелке, потом бросил вилку.
– До чего только не додумаются! Вот, даже мыло едят… Смердят на земле, а жить тоже охота…
– А ты сам-то как на этой должности оказался?
– Да как? В самом начале войны еще на фронт добровольно пошел. – Кошкин усмехнулся. – Доброволец! В штрафную роту, конечно. И то еле-еле выпросился. До середины прошлого года штрафных рот почти ведь не было, потому не так-то просто было попасть. Начальник лагеря добрейший был человек, помог. Ходатайствовал. Уважал он нас с Василием Степановичем… Ну, в общем, зимой сорок первого меня уж и окрестили. Ранение, на счастье, пустяковое – мякоть руки навылет. Через две недели зажило. Боже мой, как я вздохнул! Из санчасти иду после перевязки и чувствую – воздух другой, люди другие. И снег… Оказывается, снег кругом сверкает. Будто не видел до этого, что зима. Вот ведь что свобода делает…
Кошкин крикнул, чтоб ординарец принес чаю, и долго сидел, зажав голову руками, будто она у него тоже, как у Алейникова, разламывалась от боли.
– Да… Ну, а потом обыкновенно. В штрафной роте и остался, как вот Михаил, – кивнул он на вошедшего с чайником ординарца. – Не захотел я в другую часть. Не знаю уж, почему… Командиром отделения попросился.
– Да это ж понятно, что тут объяснять, – подал голос ординарец.
– Ладно, ступай, – сухо бросил ему Кошкин. И когда тот вышел, проговорил: – Не смотри, что он такой благостный. До войны бандитствовал, подлец. Ну, сейчас-то уж не подлец.
– Не подлец?
– Не-ет, – мотнул головой Кошкин. – Штрафная рота тоже из дерьма людей делает… Ну вот, служил, воевал. Все в той же роте. Младшего лейтенанта за одно дело дали. Ну, и начал расти… У нас же год за шесть идет. Был потом и командиром взвода, и агитатором. А в прошлом году, в августе, эту роту получил… после приказа Верховного номер двести двадцать семь. Слыхал, конечно?
Алейников кивнул. Этот жесткий и единственный, может быть, в своем роде приказ Народного Комиссара Обороны и Верховного Главнокомандующего Сталина был вызван суровой необходимостью. Прошлым летом, когда он, Алейников, находился в Краснодарском крае, организуя вывозку скота, зерна и других сельхозпродуктов, докатывались слухи, что в некоторых частях Красной Армии, оборонявших Новочеркасск и Ростов, вспыхнули «отступательные» настроения и что эти города были якобы оставлены без серьезного сопротивления. Соответствовали ли слухи действительности, узнать не было возможности. А в конце июля или начале августа он уже читал этот знаменитый приказ, безжалостный в своей прямолинейности: «…Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа… После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба… Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину…»
Далее в приказе говорилось о необходимости повышения порядка и дисциплины в войсках, о ликвидации отступательных настроений. Надо, говорилось в приказе, упорно, до последней капли крови, защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности, ибо отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину, надо во что бы то ни стало, любой ценой, остановить, затем отбросить и разгромить врага.
Этим приказом предписывалось «безусловно» снимать с постов и предавать военным судам всех командиров, начиная с командующих армиями и кончая командирами и комиссарами полков и батальонов, допустивших без приказа свыше отход войск с занимаемых позиций. Старших, средних и младших командиров, политработников и рядовых бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, отправлять в штрафные подразделения, ставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать возможность искупить кровью свою вину перед Родиной.
Яков до сих пор помнит, как у него заныло, занемело от холода в груди, когда он читал этот приказ.
– Я боялся – после этого приказа меня в такое штрафное подразделение назначат, – проговорил он. – Вот тогда бы я уж не выдержал… Да, к счастью, обошлось.
Кошкин быстро взглянул на него, усмехнулся.
– Ну, выдержал бы. Раз надо. Человек – он своих сил еще не знает.
Алейников давно, с самой первой минуты встречи с Кошкиным, чувствовал какое-то большое и безграничное превосходство этого человека над собой.
– Выдержал бы, – еще раз сказал Кошкин. – Приказ этот правильный. Необходимый, если точнее. Война, брат, она ни с чем не считается. Ничего не попишешь.
Он вынул из лежащей на столе пачки папиросу, чиркнул спичкой. Жадно глотнул табачный дым, медленно выпустил. И, глядя почему-то на кончик папиросы, опять усмехнулся.
– Да-а, Яков Николаевич… Вот где мы встретились. При таких-то обстоятельствах… А ты, угадываю я, все маешься. А?
– Прошлое в памяти живет, не истребить его ничем, – проговорил Алейников. Он помолчал, вздохнул и продолжал: – Ты вот, ты кричал мне тогда, в моем кабинете: «В кого же ты превратился, Яков? У тебя руки по локоть в крови!» Что же… ты был прав. Засухин Василий Степанович погиб… Баулин Корней, бывший наш председатель райисполкома, доходили до меня как-то слухи, тоже умер… Значит, и их кровь на моих руках… Сознание это сосет, высасывает у меня все живое внутри. Разгрызает все. Я ведь тоже человек.
Командир штрафной роты смотрел на него, Алейникова, прищурив веки, и где-то в глубине его сузившихся глаз холодно и враждебно горели черные зрачки.
Потом злой огонь в глазах стал вянуть и быстро потух, на лбу то собирались, то исчезали морщины. Он раздавил на тарелке окурок и тотчас вынул новую папиросу.
Алейников налил в кружку из чайника, раза два-три хлебнул торопливо и со стуком отставил кружку.
– Позапрошлой зимой, когда я собирался сюда, на фронт, Кружилин мне врезал: «Нашкодил ты в жизни, а теперь в кусты?! А нам предоставляешь возможность исправлять твои грехи. Нет уж, давай, говорит, вместе объяснять людям, что произошло, давай вместе и исправлять…» Но как исправлять?! Тут, на войне, я не бездельничаю, не отсиживаюсь в прохладном месте… Сколько раз бывал в таких пеклах! В тыл к немцам ходил не однажды. И готов в самое кромешное, в самое кровавое месиво в любую секунду. Этого достаточно, чтоб исправить?
– Это просто наш долг с тобой, Яков, – сказал Кошкин. – Как и всякого нормального человека. Нашу землю фашисты топчут.
– Ага, значит, недостаточно! – прервал его Алейников. – Вот поэтому и маюсь… Но исправлять – ладно. А как, чем объяснить все же мою вину? Моей кровожадностью, что ли? Может, я ненормальный, может, я испытывал животное удовлетворение, когда тебя, Засухина арестовывал? И других… Не понимал я чего-то – было. Но я и сейчас многого не понимаю!..
– Чего кричишь-то? – остановил его Кошкин.
Яков обмяк, во всем его теле вдруг явственно обозначилась неимоверная усталость. Он тяжело поставил локти на стол и уронил в ладони голову.
– Тут закричишь.
Так он и сидел, пока командир штрафной роты не произнес:
– Ну, мне пора, Яков Николаевич.
На улице был прежний изнурительный зной. Неподалеку от дома, в котором они обедали, возле развалин какой-то постройки, стояли две распряженные лошади, яростно мотали головами, одурев, видно, от жары. Чуть поодаль дымилось две кухни, но людей ни возле разрушенного сарая, ни возле кухонь не было видно.
Едва они вышли, сзади неизвестно откуда возник ординарец Кошкина.
– Ну что?
– От Седьмого шифровка пришла, товарищ капитан, из узла связи звонили. Только что.
– Хорошо. Как расшифруют, пусть немедленно несут. Я провожу майора – и в третий взвод. И обзвони – пусть все командиры взводов туда собираются.
– Слушаюсь.
Ординарец исчез так же неожиданно, как и появился. Алейников только на мгновение отвел взгляд, и ординарца уже не было.
– Седьмой – это начальник штаба нашей армии. Наверное, новый комплект прибывает. – Кошкин усмехнулся. – У нас ведь так: один бой – и я остаюсь без списочного состава. С остатками – кого пуля или осколок не тронули – отходим на доукомплектовку. Остаток бывает, как правило, чисто символический.
– Да это понятно, – сказал Алейников.
– Освобождаем иногда и таких, которые в бою и царапины не получили, но отличились, проявили отвагу и бесстрашие. Но трибуналы на это идут неохотно.
Они шагали к берегу речки, протекающей на задах бывшей деревни. Там, под жидкими деревцами, переломанными колесами немецких и советских танков, грузовиков, повозок, остался Гриша Еременко с машиной – он попросил разрешения искупаться, постирать белье, портянки.
Унылая картина разрушенной деревушки – груды обгоревших бревен, развороченные взрывами постройки, торчащие среди пепелищ печные трубы – угнетающе действовала на Алейникова. Все это он видел десятки и сотни раз, но привыкнуть к таким картинам не мог, сердце у него всегда больно сжималось, и Якову чудилось, что обезображенная земля истекает своей земляной кровью и весь земной шар, как живое существо, тяжко, мучительно стонет от невыносимой боли.
Как только они вышли из дома, Алейников поднял с земли сухой прутик и всю дорогу нащелкивал себя по голенищу. Наконец он отбросил прутик и остановился.
– Знаешь, что мне хочется сказать тебе? Хотя ты вряд ли поверишь…
– Ты скажи, а я тебе честно отвечу, поверю или не поверю.
– Завидую я тебе. Всей твоей… судьбе.
Командир штрафной роты смотрел на Алейникова прямо, в его темных глазах не было ни удивления, ни насмешки, хотя Яков ожидал все это увидеть. Только уголки обветренных губ чуть шевельнулись.
– Я верю тебе, Яков, – сказал Кошкин тихо и грустно.
И именно потому, что он произнес это негромко, чуть раздумчивым голосом, Алейников убедился в его искренности, к горлу что-то подступило, он отвернулся и глянул зачем-то вверх. Косматое солнце больно хлестануло его по глазам, он закрыл их и потер пальцами веки.
– Мы, Яков, много там с Василием Степановичем Засухиным толковали о тебе… и вообще обо всех этих делах, – меж тем говорил Кошкин. – Светлая была у него голова. Ну, сладко ли там, горько ли нам было, сам понимаешь. Я в нашем горе тогда тебя во всем винил. Василий – больше Полипова, который был секретарем после Кружилина. «Вот это, говорил, страшный человек».
– Ну что ж… спасибо ему, Василию Степановичу, – с трудом, через силу вымолвил Алейников.
– Да-а… Больше – Полипова, но не во всем. А во всем, говорил он, люди разберутся рано или поздно.
– Наверное… Иначе как же? Что бы я ни отдал, чтобы дожить до этого времени!
– Доживем, Яков Николаевич! – убежденно произнес Кошкин.
После этих слов Алейникову сразу стало как-то свободнее и легче, будто тяжкий каменный жернов, незримо лежавший на плечах, вдруг неизвестно каким образом начал превращаться в песок и осыпаться вниз, к ногам. Яков радостно повел плечами, посмотрел Кошкину прямо в глаза.
– Не представляешь ты, Данила Иванович, как я рад, что судьба свела нас тут, что мы встретились. Поверь еще раз – я не могу и представить сейчас, как бы жил дальше без этой встречи…
– Да что ж, – проговорил тот, – я тоже, Яков, доволен…
Из-за порыжелого холма, который огибала спускающаяся из деревни вниз, к речке, дорога, показался ординарец Кошкина, увидел своего командира, побежал бегом.
– Шифровку расколдовали, – сказал Кошкин.
Ординарец, подбежав, бросил руку к пилотке, хотел что-то доложить, но командир роты опередил:
– Ладно, давай.
Он взял из рук ординарца листок, глянул в него, усмехнулся.
– Так и есть. Через три дня пополнение прибывает. Не могли повременить, черти. После завтрашнего боя у нас столько дел будет.
– Заботятся об нас, Данила Иванович… – с усмешкой вставил ординарец.
– Разговорчики! – оборвал его Кошкин. – Командиры взводов собрались?
– Так точно, товарищ капитан.
– Ступай. Я сейчас приду.
Ординарец повернулся и побежал обратно к холму.
– Славный парень из него получился. Два раза жизнь мне спасал.
Кошкин положил шифровку в карман гимнастерки, поправил пистолетную кобуру.
– Доукомплектовка под Щиграми будет… – Кошкин усмехнулся. – Веселое это времечко – доукомплектовка – у нас. Поездной конвой отбывает восвояси, а свежие штрафнички и начинают развлекаться. В основном грабеж мирного населения. Отлично знают, предупреждены, что за это расстрел на месте. Но такие есть артисты! Пока утихомирим…
– Да, представляю. Не представляю только, как справляетесь.
– Остатки от прежнего состава крепко помогают. Знаешь, штрафник, побывавший в бою, совсем другой человек. Удивительно порой, как несколько часов, иногда даже минут – хотя короткие бои у нас случаются редко – меняют людей. Такие уркаганы, что пробы ставить уже негде, вроде вон моего ординарца, человеческий облик обретают. А то и ягнятами становятся. Туда ведь, за край жизни, заглядывать страшно, там можно многое увидеть. И весь уркаганный лоск сразу лохмотьями слезает… Ну что ж, Яков… – И Кошкин протянул руку.








