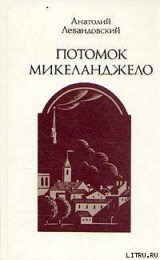
Текст книги "Потомок Микеланджело"
Автор книги: Анатолий Левандовский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
Еще до отбытия на Олерон Буонарроти написал префекту департамента Нижней Шаранты, прося объяснить, на каком положении им предстоит находиться в новом месте ссылки. Ответ пришел в то время, когда изгнанники оказались уже на Олероне. Заместитель префекта заверял новых колонистов, что они будут пользоваться полной свободой под общим наблюдением местной полиции, могут передвигаться по острову в любом направлении, жить в любом месте, но ни под каким видом не должны покидать пределов Олерона. Им было также обещано довольно сносное материальное существование: по распоряжению верховной власти им определялось денежное содержание в размере среднего жалованья младшего офицера флота. Здесь, правда, делалась «небольшая» оговорка, смысл которой ссыльные раскусили не сразу: «при условии, если морские власти пожелают это жалованье платить» (!). Разумеется, власти не пожелали. И поэтому, хотя в первые дни – по сравнению с фортом «Насьональ» и утомительной дорогой – новый остров всем показался раем, вскоре стало ясно, что в этом «раю» их ожидают не амброзия и нектар, а нищенское существование или голодная смерть, если не желаешь побираться.
Однако у Филиппа все кое-как устроилось.
Тереза имела небольшие сбережения, позволившие обосноваться в коммуне Сен-Пьер д'Олерон, близ города, в доме трудолюбивого фермера, семья которого вскоре сделалась для Буонарроти родной. Что же касается работы, то она быстро нашлась. Филипп стал учить детей местных жителей языкам, математике и музыке. Сначала это были частные уроки, затем он создал свою школу в городке Сен-Пьер и вскоре заслужил не только признательность родителей, но и благодарность местного муниципалитета. Тереза во всем ему помогала. Она постепенно оправилась от последствий шербурской неволи, стала более общительной и сговорчивой.
Конечно, не все изгнанники устроились так же хорошо, как Буонарроти. Их разбросало по всему острову, и большинству пришлось взяться за физический труд. Однако их положение тоже постепенно упрочилось, и к благотворительности префекта обращаться не пришлось.
Но не таким человеком был Филипп Буонарроти, чтобы довольствоваться узкой скорлупой семейного благополучия и частной жизнью, оторванной от большого мира. Прошло время, и ему стало тесно на острове. Обрывки сведений, доставляемые с континента, говорили, что Бонапарт, укрепляясь у власти, уничтожает одну за другой все иллюзии, которыми тешились накануне переворота. Власть бывшего революционного генерала приобретала все более диктаторский характер, хотя многие еще не хотели этого понимать. Но Буонарроти понял это давно и теперь все более укреплялся в своем убеждении. И он всеми силами начал рваться с этого острова, надеясь встретиться с единомышленниками, окунуться в борьбу и сделать все возможное, чтобы помешать тирану раздавить остатки революции и свободы.
Временами Филиппа охватывало столь жестокое томление, что он не мог ему противостоять. И тогда он замыкался, уходил в лес или начинал что-то лихорадочно записывать. В один из подобных моментов он и написал еще одно послание – на этот раз самому Первому Консулу, – страстное, негодующее, требовательное, весьма далекое от прежних петиций.
С возмущением напоминает Буонарроти: роялистам, врагам Республики, прощаются все их преступления, в то время как к истинным патриотам, защитникам свободы и равенства, правосудие остается «холодным, как мрамор». Им вновь и вновь твердят, что «приговор окончателен и пересмотру не подлежит». Но ведь режим, который впервые произнес эту кощунственную формулу, уничтожен, сметен с лица земли! Так в силу какого софизма формула, им созданная, сохраняет свою силу? «Довольно балансировать! – гневно восклицает Буонарроти. – Мы не желаем ни снисхождения, ни прощения – мы требуем правосудия и справедливости!..»
На это послание он ответа не получил. Но в один прекрасный день у дверей его жилища неожиданно возник Саличетти.
17Кристоф Саличетти… Старый друг, соратник в борьбе с Паоли на Корсике, потом, при Робеспьере, соратник в борьбе с контрреволюцией на юге, потом, при Директории, соратник в подготовке несостоявшейся для Филиппа экспедиции в Италию…
Он любил Саличетти. Любил за его бурный темперамент, за общность взглядов, симпатий и антипатий, за страстность в борьбе. Хотя… Он знал и слабости своего друга, слишком уж большую его приверженность «макиавеллизму правого дела», настолько большую, что порой она переходила дозволенные пределы, и истину становилось невозможно отличить от заблуждения…
Они крепко обнялись и расцеловались.
– А ты герой, – сказал Кристоф, – право же, герой. Выглядишь превосходно, бодр и подтянут, как всегда. Рад за тебя, старина…
– Нашел чему радоваться, – пожал плечами Буонарроти. – Скажи лучше, что привело тебя в эти неприветливые края?
Кристоф сделал удивленное лицо.
– Как – что? Что же, если не желание увидеть тебя?
– Это я понимаю. Но давай серьезно. Это официальная поездка?
– Полуофициальная. Кстати, – он оглянулся по сторонам, – никто не должен знать, что я был здесь.
– Инкогнито?
– Да вроде этого.
– Не беспокойся, о твоем посещении я не доложу ни мэру, ни жандармам. Но ты так и не ответил на мой вопрос.
– О деле потом. Я вижу, идет Тереза. Она все такая же красавица.
Тереза вскрикнула от неожиданности. Саличетти приложил палец к губам. Они вошли в дом.
На столе появился кувшин домашнего вина и нехитрая снедь. До позднего вечера предавались воспоминаниям, шутили, смеялись, каламбурили, как в годы прошлого. Потом Тереза постелила мужчинам и ушла к себе.
– Ты надолго? – спросил Буонарроти.
– Отбываю завтра рано утром. Спешу на Корсику, вершить государственные дела. – Последние слова Саличетти произнес с насмешкой. Но Буонарроти не принял этого тона.
– Ты что же, доверенное лицо Бонапарта?
Саличетти попытался уклониться от ответа.
– Ты бы знал, как я боролся против переворота 18 брюмера!
– Но потом спасовал?
– А что оставалось делать?
– Другие же не смирились.
– Я тоже не смирился. Во всяком случае, в душе.
Буонарроти искренне рассмеялся.
– Ладно, не будем развивать эту тему.
Кристоф почувствовал себя задетым. С обычной горячностью он возразил:
– Нет, почему же, тему можно и развить. Хочешь, я расскажу тебе о том, чего не говорил никому? Это было в Италии, в районе Генуи, во время первой завоевательной экспедиции Наполеона, в которую мы тщетно приглашали и тебя. Именно тогда я вполне понял этого лицемера и карьериста, понял, что добра от него не ждать. Так вот. Мы вдвоем шли по узкой тропинке вдоль обрывистого берега, высоко вздыбившегося над бурным морем. Вокруг ни души. Мы мирно беседовали. И тут вдруг молнией сверкнула мысль: а что, мой милый, если я чуть подтолкну тебя, ты свалишься в пучину, и вся история, быть может, пойдет по-иному?
– Ты так подумал? Но это странно. В то время сей субъект еще не делал истории.
– Поверь, был на подступах к этому.
– Так почему же…
– Я его не столкнул? Пороху не хватило. В этот момент он посмотрел мне в глаза и, возможно, понял мою мысль. Я думаю, впоследствии он мне прощал очень многое именно потому, что тогда понял: я держал его жизнь в руках и не воспользовался этим.
– Ну, ну, это уж ты слишком психологизируешь. Вряд ли он тогда что-то понял. Если бы понял, то, напротив, в дальнейшем не пощадил бы тебя. Но приведенный случай опять не в твою пользу – он говорит лишь о том, что ты струсил.
– Нет, то была не трусость, поверь мне. Скорее, какой-то гипноз. Но сейчас – другое дело. – Саличетти понизил голос до шепота. – Узнай же, что и сегодня он в моих руках. Я держу нити заговора, в котором участвуют известные тебе Арена и Чераки. Речь идет о жизни диктатора.
– Арена… Чераки… Нашел кого назвать! Люди горячие и настоящие патриоты – не спорю, но сколько легкомыслия! Думаю, они не способны на организацию серьезного дела… Но оставим все это. Скажи, зачем приехал.
Саличетти не ответил и опустил голову на руки.
– Держу пари, с поручением от тирана.
Саличетти протянул запечатанный конверт.
– Прочти-ка это письмо. Оно не было доверено почте.
– Понимаю. Для этого ты и приехал.
Буонарроти взял конверт и вскрыл его. Потом зорко взглянул на собеседника.
– Тебе известно содержание?
– Разумеется. Но читай же.
Письмо было коротким, деловым. Не тратя лишних слов, Первый Консул предлагал Буонарроти полное освобождение при условии сотрудничества с новым режимом.
Прочитав, Филипп собирался спрятать письмо.
– Стой, – схватил его за руку Кристоф. – Письмо должно быть возвращено. Вместе с твоим ответом.
– Ответа не будет, – сухо сказал Буонарроти.
– Я так и думал, – улыбнулся Кристоф. – Я слишком хорошо знаю тебя. Но все же подумай: не пожалеешь? Другого случая не представится.
– А я и не жду его. Не беспокойся, не пожалею.
Затем, после долгого молчания, добавил:
– Мне жаль, что так все получилось, Кристоф. Сейчас мы ляжем спать, а завтра к этому разговору возвращаться не будем. Я всегда любил тебя. И поэтому буду с тобой откровенен до конца: тебя не ждет ничего хорошего.
Саличетти грустно улыбнулся.
…Они простились на заре, почти без слов. Крепко обнялись и так стояли долго, словно стремясь продлить, закрепить это непрочное единство душ.
«Прощай, – думал Филипп, – прощай навсегда, мой старый товарищ. Чувствую, мы не увидимся больше. Чувствую и другое: тебя не спасет это жалкое лавирование. Тебе не простят его. И умрешь ты не в своей постели и не на поле брани…»
В тот момент он не знал и не мог знать, насколько точным окажется его пророчество…
18Много времени спустя, уже на острове Святой Елены, Наполеон вспоминал:
– Я раскаиваюсь, что не привязал к себе Буонарроти; он мог бы быть мне очень полезен. Впрочем, я сделал первый шаг: я его освободил. Не помню, чтобы Буонарроти поблагодарил меня за это или с чем-нибудь ко мне обратился. Возможно, ему помешала гордость… А может, он и писал, но я не обратил внимания…
Последняя фраза была явной ложью, результатом оскорбленного самолюбия поверженного властителя: он-то хорошо знал, что ответа на его заманчивое предложение не последовало.
19Приезд Саличетти обозначил резкую грань в пребывании Филиппа на острове Олерон.
Черта была подведена, мосты сожжены.
Он не мог не испытывать глубокого внутреннего удовлетворения: тиран все-таки обратился к нему. Обратился с весьма заманчивым предложением. И он, Буонарроти, это предложение отверг. Даже не отверг: он показал, что пренебрегает им. Это была пощечина Бонапарту и большая моральная победа его, Филиппа. Но этим он сжег мосты.
Теперь покончено с петициями, ходатайствами, обращениями. Пропасть между ними разверзлась во всю ширь. Тиран поймет, что он его враг – враг непримиримый, смертельный. И потачки ему не даст.
Ну что ж, оно и к лучшему. Он не хотел так быстро проявлять подлинных отношений, он думал, играя на «макиавеллизме правого дела», еще выторговать что-то (ничего себе «что-то» – свободу!), но коль скоро так получилось, оно и к лучшему.
Нет, путь Саличетти для него заказан. Он не пойдет на пресмыкательство перед тем, кого ненавидит – не личной ненавистью: лично ему Наполеон ничего худого не сделал! Он не пойдет на компромисс с тем, кто является – он давно понял это – врагом свободы, демократии, народа, врагом беспощадным, душителем всех революционных завоеваний прошлых лет.
Значит, и по отношению к нему, к Бонапарту, возможна только беспощадность. Борьба, которая закипит вскоре, будет борьбой не на живот, а на смерть.
Борьба? Не на живот, а на смерть? Смешно! Кто говорит это? Изгнанник-одиночка, бывший участник погоревшего заговора, командир без армии, ссыльный на вечные времена, сам отрезавший путь к своему освобождению!
И с кем же он думает бороться?
С властелином, подчинившим себе государство, армию, весь народ, с некоронованным королем, который не сегодня завтра получит и корону, с всесильным диктатором, перед которым трепещет Европа!
Право же, смешно! Лилипут против великана, комар против льва!
Нет, думал Буонарроти, не так уж и смешно, как кажется на первый взгляд. Тысяча комариных укусов может убить льва, лилипуты, если станут действовать дружно, могут скрутить и уничтожить великана. Нужны лишь сила духа и целеустремленность, бесстрашие и выдержка, умение объединить людей и правильно нацелить их. А этих качеств ему, Буонарроти, не занимать, он проверил их всей своей предшествующей многотрудной жизнью и полностью уверен в себе.
А если так, чего же бояться? О чем думать? Общее направление и конечная цель пути ясны, остаются подробности. Им-то и нужно отдать свои заботы на ближайшее время.
20Он успокоился.
Не было больше томления духа, ибо окончилась неясность.
Он занимался своим делом, учил детей и внимательнее присматривался к окружающему, к людям, с которыми жил.
Маленькая коммуна, некогда сложившаяся на острове Пеле, постепенно распалась. Из всех ссыльных Филипп теперь общался лишь с Жерменом да иногда с Моруа. Блондо, остывший в былой ненависти к «узурпатору», теперь занимался своими болезнями. Казен, работавший на ферме, страшно уставал с непривычки и сторонился прежних единомышленников. Да и Жермен вел себя как-то странно. Нет, он не охладел к учению Бабефа, он по-прежнему мечтал о «совершенном равенстве» и «всеобщем счастье», но при этом продолжал наивно верить в добродетели Бонапарта и посвящать ему свои нескладные стихи.
Буонарроти попытался было прощупать настроения простых людей, среди которых жил, и быстро понял: с этими он далеко не уйдет.
– А нам-то что, – отвечали фермеры на его осторожные вопросы, – какая разница – Робеспьер или Бонапарт? Была бы каша в горшке, да сборщики податей не драли трех шкур – и ладно.
Что же касается Бабефа, то о нем эти люди и вообще не слыхали ничего.
Он познакомился и был в добрых отношениях с мэром города Сен-Пьер, обучал его двоих сыновей и часто беседовал с ним. Это был старый республиканец, но человек умеренный и осторожный, ничем не выдававший своих политических настроений поднадзорному ссыльному. Единственно, что узнал от него Буонарроти, были кое-какие сведения о соседнем острове Ре. Этот остров, меньший по размерам, чем Олерон, был укреплен рядом фортов, принадлежавших к системе крепостей Ла Рошели и управлялся военной администрацией. Во главе администрации находился некий полковник Уде, о котором мэр выражался весьма туманно, но так, что можно было понять: человек этот был настроен критически к режиму, чего, видимо, не скрывал.
– Поговаривают, – обронил как-то мэр, – что Уде возглавляет филадельфов.
– А кто такие филадельфы? – загорелся Филипп.
Мэр, видимо, пожалел, что сболтнул лишнее.
– Кто их знает, – небрежно сказал он. – Какая-то тайная организация. Вроде масонов. Сейчас, говорят, их много развелось повсюду. Масонов и других. Впрочем, наше дело маленькое. Нас-то, слава богу, сие увлечение миновало.
С той поры Буонарроти заинтересовался филадельфами и Уде. Кто они? Чьи интересы защищают? И почему о них говорят с такой осторожностью?
Ему захотелось побывать на острове Ре и встретиться с необычным полковником. Но он понимал, что это невозможно. Во всяком случае, в ближайшее время.
Благодаря мэру он постоянно имел свежие газеты. Правда, теперь от этого толку было мало – Наполеон, уничтожив свободу печати, ликвидировал все оппозиционные органы прессы. И все же иногда кое-что просачивалось.
Больше давала корреспонденция, которую Филипп получал от столичных друзей. Конечно, и здесь приходилось прибегать к эзоповскому языку – письма перлюстрировались, – но все же главное, основное передать было можно. И ссыльный с жадностью глотал крохи этих известий.
Из них он узнал, что заговор Арены – Чераки, как он и ожидал, провалился и участники арестованы, что столь же безрезультатными оказались и другие попытки в этом же роде, что Саличетти сумел выйти сухим из воды, что правительство явно не хотело раздувать событий, преуменьшая, сглаживая увеличивающееся противостояние, не желая «выносить сор из избы».
Зато газеты вовсю трубили о новом итальянском походе Бонапарта, о блистательной победе при Маренго, о скором наступлении всеобщего мира в Европе…
Но тут произошли события, которые потрясли Францию и нанесли остаткам демократии еще один удар – быть может, самый болезненный после дней 18 – 19 брюмера.
21В Опере давали новую ораторию Гайдна «Сотворение мира». Это было событием в музыкальной жизни Парижа. Двести пятьдесят оркестрантов и участие лучших итальянских певцов удвоили цену билетов, но все равно достать их было невозможно.
Жозефина нервничала: они опаздывали.
Кареты поджидали у входа в павильон Флоры.
– В Оперу. Быстро.
Бонапарт откинулся на подушку сиденья и закрыл глаза. Он снова вернулся мыслью к тому, о чем думал целый день. Вновь и вновь старался оценить ситуацию.
Казалось бы, все прекрасно. Австрийцы разбиты, Россия согласилась на союз, причем император Павел I выдворил из Митавы старого попрошайку Людовика XVIII, восстановлены добрые отношения с США, не сегодня завтра мир будет заключен с англичанами. Тихо и внутри страны. Его прославляют, банкиры суют золото. Но все это на поверхности. А копни поглубже…
Стоило ему отбыть в Италию, и все они зашевелились. Враги? Враги – само собой. Но и «друзья» тоже. Господин Фуше, господин Талейран, господин Сиейс. Ну, Сиейс – понятно. Но Талейран? Но Фуше?.. Он поднял их из мрака забвения, сделал первыми людьми, обогатил, а они готовы его предать при любом подвернувшемся случае. Туда же и свои. Милые братцы – Жозеф, Люсьен; родная маменька, сокрушающаяся, что глава правительства не ее любимчик, Жозеф… Пустили слух, что он потерпел поражение, – и сразу же заговорили о перемене власти… Его опора – армия. Но и здесь… Моро, Журдан, Бернадотт, Ожеро, Массена – все это соперники и тайные недруги, а Моро – их знамя. Они готовы спеться с проклятыми якобинцами. И все новые заговоры… Того и гляди, грянет взрыв…
И, словно отвечая мысли Первого Консула, раздался оглушительный взрыв. Улица Сен-Никез, по которой неслись кареты, огласилась воплями. Он слышал, как в карете Жозефины посыпались стекла, слышал ее истерический крик…
– Гони во всю мочь.
…В Оперу прибыли вовремя. Он сидел в своей ложе, спокойный и надменный, как обычно. Жозефина – бледная, с заплаканными глазами – прикрывала лицо веером. Но вот весть долетела до театра. Певцов прервали. Публика устроила верноподданническую овацию Первому Консулу. Он чуть поклонился. Спокойный, непроницаемый – будто ничего не произошло.
Но, едва вернувшись в Тюильри, вызвал Фуше. И обрушил на него поток такой брани, какую едва ли когда еще слышали эти стены.
Фуше стоял вытянувшись в струну и слушал. Он ни разу не попытался вставить свое слово, не стал ничего объяснять. Он молча стоял и слушал.
– Мерзавец! – вопил Бонапарт. – Дерьмо, предатель… Я вытащил тебя за уши, вытащил из грязи, в которой ты увяз, я сделал тебя министром… Хорош министр полиции, который, вместо того чтобы охранять главу правительства, превращает его в подсадную утку, окружает убийцами, которым позволяет заминировать целый квартал…
Фуше молча слушал.
Наполеон задыхался от ярости.
– Ты, ты и есть главный заговорщик! Вожак всех этих бандитов! Провокатор! Разве я не помню, как вместе с якобинской сволочью ты расстреливал людей в Лионе? Тебя бы самого следовало расстрелять! Нет, раздавить, как клопа!..
Фуше не менял почтительной позы.
– Вон! – закричал Бонапарт. – Убирайся к черту! Завтра ты получишь мое предписание!..
Фуше поклонился и вышел.
22Взрыв «адской машины» на улице Сен-Никез 3 нивоза IX года[10]10
24 декабря 18 00 г.
[Закрыть], от которого лишь чудом ускользнул Бонапарт, стоил жизни двадцати двум и тяжелых ранений пятидесяти ни в чем не повинным людям. Несмотря на то что взрыв был организован эмиссарами Людовика XVIII (и это сразу выяснилось), Первый Консул решил использовать случай, чтобы свести окончательные счеты с левыми партиями.
– Это не аристократы, не шуаны и не священники, – безапелляционно утверждал он. – Это отребья революции, якобинцы и бабувисты, инициаторы всех прежних смут и заговоров.
Выступая на следующий день на заседании Государственного совета, он потребовал жестоких репрессий:
– Без крови не обойтись. Надо расстрелять столько виновных, сколько было жертв взрыва, а человек двести выслать, чтобы очистить Республику.
Когда один из членов Совета попробовал высказаться против высылки революционеров и напомнил об опасности, грозящей от роялистов, Бонапарт резко оборвал его:
– По-видимому, вам было бы угодно, чтобы я составил правительство в духе Бабефа? Толкуйте о «патриотах». Но эти «патриоты», несмотря на вашу защиту, вас же первого принесут в жертву, точно так же, как и меня и всех нас!..
К удивлению окружающих, он не уволил Фуше. Вместо этого дал министру полиции малоприятное задание – составить списки левых, подлежащих высылке.
Фуше попытался напомнить, что взрыв организован роялистами.
– Делайте, что вам приказывают, поройтесь в памяти и извлеките оттуда всех своих старых дружков, – измывался диктатор.
И Фуше выполнил его волю – списки были составлены.
К этому времени полиция арестовала виновников покушения на улице Сен-Никез. Ими действительно оказались роялисты – Сен-Режан и Карбон. Их, так же как и участников республиканских заговоров – Арену, Чераки, Топино-Лебрена и других, – приговорили к смертной казни.
Сто тридцать «анархистов» из списков Фуше, в числе которых находились видные политические деятели – Лепельтье, Дюфур, Фурнье, Россиньоль, Фион, Массар, Ваннек (в прошлом – все участники заговора Равных), – подлежали высылке. Те из них, кому повезло, попали на острова Олерон и Ре, остальные – на далекие Сейшельские острова, где большинству из них было суждено погибнуть от голода и болезней.
Столь массовых репрессий изумленные французы не видели давно. Проскрипции вступили в силу 15 нивоза[11]11
5 января 18 01 г.
[Закрыть].
Вскоре после этого Феликс Лепельтье и еще несколько «непримиримых» были доставлены на остров Ре.




































