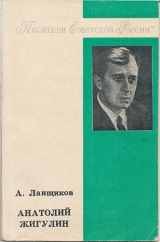
Текст книги "Анатолий Жигулин: «Уроки гнева и любви…»"
Автор книги: Анатолий Ланщиков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
Неличностное отношение никогда не может быть ни длительным, ни надежным, и это очень своевременно уловил А. Вознесенский: «Ура, эстрада! Но гасят бра. И что–то траурно звучит «ура». И стихотворение–то названо: «Прощание с Политехническим», и напи–сано–то оно в начале шестидесятых.
Конечно же, легче продекламировать прощание, нежели проститься всерьез и навсегда. «Тысячерукий как бог языческий Твое Величество – Политехнический!» Этот бог дал резонанс твоему голосу, и твой голос был услышан. Однако бог оказался временным, нужным, но временным. И как остаться со своим голосом наедине? Кто теперь услышит? Жутко. Непривычно. И здесь труднее всего пришлось тем, кого больше всех обласкал уходящий в отставку веселый языческий бог.
Тяжело было идти вперед, эстрада как бы прилипла к ногам, словно тяжелый пьедестал, и следовало или оторваться от нее и сразу же оказаться на непривычном уровне остальных, наедине со своим собственным естественным голосом, или остаться на ней, бронзовея в собственных глазах, но кричать свои стихи уже вдогонку…
Мне кажется, такой дерзкий по молодости Евтушенко на сей раз не рискнул, остался бронзоветь на месте, а потому его голос с каждым годом, несмотря на все его отчаянные усилия, звучал все глуше и глуше – вроде бы из далекого далека.
Анатолий Жигулин, как мы уже говорили, приехал в Москву в шестьдесят третьем году, когда литературный бум уже миновал свою пиковую отметку, хотя об этом подозревали пока еще немногие. Жигулин принимает активное участие в литературной жизни столицы, нередко выступает и на поэтических вечерах. Жигулин писал и читал свое, заветное, без оглядки на «тысячерукого бога», и каждый о чем–то задумывался, о своем, лично, и возникало к поэту личностное отношение. И для Жигулина сидящие в зале были не «джемперы», «пиджаки» или «свитерки», а люди, которых каким–нибудь краем да задела война и другие жизненные испытания. В стихах было все просто, почти буднично…
…А хлеб несли из хлеборезки.
Был очень точно взвешен он.
И каждый маленький довесок
Был щепкой к пайке прикреплен.
И в этой точности, в этой детализации чувствовалась не избыточность литературной наблюдательности, а подлинная страсть поэта, для которого боль минувшего никогда не становится минувшей болью. Вспоминалась война… При общей военной судьбе у каждого была еще своя судьба, и в этой личной судьбе никому не надо было напоминать, что хлеб есть жизнь...
О, горечь той обиды черной,
Когда порой по вечерам
Не сделавшим дневную норму
Давали хлеба двести грамм!
Прошли года…
Теперь, быть может,
Жесток тот принцип и нелеп.
Но сердце до сих пор тревожит
Прямая связь:
Работа – хлеб.
Простая, вечная, жестокая, но справедливая истина: работа – хлеб. Нелепость таится не в самом этом принципе, а в его искажении. Стихи Жигулина не возбуждали, но глубоко западали в душу. Немел «тысячерукий бог». А Жигулин продолжал рассказывать, все так же буднично и так же просто:
Обрушилась глыба гранита —
И хрустнула прочная каска.
Володька лежал в забое
Задумчив и недвижим.
Лишь уцелевшая чудом
Лампа его не погасла
И освещала руки
С узлами набухших жил...
Эти два стихотворения («Хлеб» и «Обвал») вроде бы никак не связаны тематически. В первом речь шла о цене хлеба, а во втором – о гибели молодого парня. Потом о нем будет сказано: «Володька был славный малый, задиристый и упрямый. Он даже в большие морозы ходил – нараспашку душа… А из далекого Курска Володьке прислала мама красивый, с оленями, свитер и вязаный теплый шарф…» Но это потом, а сначала: «И освещала руки с узлами набухших жил».
Нет, значит, не зря жил на земле
Володька, не зря ел хлеб…
Я думал о том, что все мы —
Хорошие, сильные люди,
Что здесь мы еще построим
Прекрасные города.
Отыщем счастливые жилы
И золота горы добудем,
Но вот возвратить Володьку
Не сможем мы никогда…
Самые сокровенные думы «не о золоте–серебре», самое дорогое на свете – человеческая жизнь. Построим прекрасные города, добудем горы золота… Все это нужно, но это не главное, главное – жизнь, главное – работа и хлеб, главное – справедливость. Но Жигулин не морализует, он не открывает вечных истин с глубокомысленным видом, он обнажает эти истины в нашей повседневной, будничной жизни и тем самым делает их доступными каждому в каждый час его жизни. В этом, наверное, и заключается подлинный демократизм чувств и мыслей художника. Вот это и было то новое, что шло на смену «Политехническому», прощание с которым было обусловлено самой жизнью, а не литературными интригами тех, на кого не распростер свою щедрую длань «тысячерукий языческий бог».
Я не принадлежу к числу тех критиков, которые видят теперь в литературном буме конца пятидесятых – начала шестидесятых годов один повальный грех, который нужно искупать неустанными проклятиями в адрес собственного прошлого и столь же неустанными молитвами нашему собственному сегодняшнему дню. Чтобы обрести истинное чувство народности, нам, вероятно, нужно было пережить деспотизм толпы и преодолеть его, чтобы почувствовать свои силы, нам, вероятно, до самозабвения нужно было возбудиться. Ребенку пристало кричать, он и кричит. Взрослый умеет регулировать свой голос, а потому редко его и повышает. Мы вдоволь и накричались, и нашумелись. Слава богу, развили свой голос. И в нашем возрасте крик – уже не аргумент. Не кричат о вещах и серьезных, а об иных вещах нам, по–моему, нет уже времени и говорить. «Сколько еще остается в запасе этих прозрачных стремительных дней?» Этот серьезный вопрос прозвучал в жигулинских стихах десять лет назад. Сейчас наше поколение никак не может считать для себя этот вопрос праздным.
Но я еще меньше разделяю взгляды тех критиков, которые никак не могут понять, что молодость – дар временный, и с неослабевающим энтузиазмом стремятся всех обрядить в те литературные мини–штаны и мини–юбки, которые не приличествует нам носить уже хотя бы по возрасту. Девять лет назад в одной из своих статей я писал: «Жизнь в свое время создала «эстраду», «эстрада» создала своих поэтов, но поэты вовсе не были злоумышленниками – они с «эстрады» служили времени. Беда некоторых из них в том, что они поверили, будто «эстрада» вечна, как жизнь, а некоторые критики с ненужным старанием укрепляют их в этом мнении.
По–моему, беда некоторых поэтов и критиков заключается в том, что они в свое время слишком уж фундаментально уселись на «эстраде», как на троне, забыв, что, сидя, нельзя идти, а жизнь–то – она идет, и довольно быстро».
Сейчас бы я к тем словам сделал небольшую поправку в том смысле, что подобного рода беда со временем оборачивается виной перед будущими поколениями. Нет, я не случайно разговор о творчестве Жигулина начал с возражений молодому поэту Александру Ткаченко, не преследовала меня тут и мания полемики. К тому меня побудило чувство вины, своей собственной и своего поколения. Рассуждения А. Ткаченко о поэзии своими наивностью и апломбом напоминают рассуждения выпускника средней (средней во всех смыслах) школы, обрадовавшегося появлению «своих» мыслей и еще не подозревающего о существовании «чужих». А ведь, вероятно, А. Ткаченко не так уж и отчаянно молод, если он своими ближайшими предшественниками считает поэтов–шестидесятников. Правда, на этот счет несколько успокаивает выступление его оппонента, тоже молодого поэта, Валентина Устинова, человека, судя по всему, зрелых мыслей и зрелых чувств. Однако заслуги наши пускай итожат другие, а вот вину свою мы должны ощущать сами. Правда, и здесь не все так просто, потому как наверняка не все мы придем к согласию, что считать нашей заслугой, а что виной.
А. Ткаченко с серьезным видом рассуждает о том, что если как следует поднатореть в точных науках, то можно будет создавать стихи из чисел. Можно–то можно, а вот нужно ли? Лет двадцать назад попытались применить числа в критике и литературоведении, и наше поколение было названо «Четвертым поколением». А что из этого получилось? Ровным счетом ничего. Число, оно безлично и бессущно. Сущность в литературе может быть выражена только лишь в слове или словом. И если уж говорить о нашем поколении, то я назвал бы его «спорящим поколением». У меня вообще создается такое впечатление, будто мы проспорили всю свою жизнь. Поэтому, отдавая себе отчет в том, что исчерпывающий литературный портрет написать невозможно, я считаю, приближенный к оригиналу портрет писателя моего поколения невозможен без того активного фона, которым является критика в литературе. Без этого фона не только блекнут краски самого портрета, но и теряется объемность изображаемого.
О стихах Анатолия Жигулина спорили и прежде, спорят о них и теперь, спорили доброжелательно, спорили и по–другому, спорили открыто, спорили и исподтишка.
Вот об этих спорах мне бы и хотелось поговорить отдельно, чтобы дать изображаемому определенный фон.
«ТИХАЯ» КРИТИКА…
(глава полемическая)
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…
Ф. Тютчев
Что бы там ни говорили, но самая тяжелая в литературе участь – это участь критика, и тут я имею в виду даже не общее равнодушие к критике: к этому в конце концов можно и привыкнуть. Каждый критик прекрасно знает, что любой писатель, даже и талантливый, ценит только тех критиков, которые пишут о нем, причем восторженно и много. Не чтобы стать, а чтобы остаться критиком, необходимо выработать своего рода иммунитет равнодушия к мнению о тебе тех, о ком ты пишешь, и тех, о ком ты по каким–либо причинам не пишешь. К примеру, не так давно я послал свою книжку одному писателю. В Книжке была глава и о его произведениях. Вскоре получаю письмо, в котором этот писатель благодарил меня за ту главу, в коей шла речь о его произведениях, хвалил за «тонкий анализ» и т. д. Дальше он писал, что когда–нибудь прочитает и остальные главы…
Обиделся ли я? Нет – сработал иммунитет. Разумеется, мнение о самом этом писателе у меня к лучшему не изменилось, а вот отношение к его произведениям осталось прежним. Однако жизнь иногда подбрасывает такие сюжеты, когда не помогает никакой иммунитет.
Я высоко ценю Вадима Кожинова как критика и литературоведа и люблю как человека. Познакомился я с ним и с его женой, Еленой Ермиловой, в конце шестидесятых годов. Не помню уж, какая конкретная нужда привела меня тогда – в конце семьдесят второго года – в «Литературную газету». Встречаю там критика Геннадия Красухина – сотрудника газеты. Зазывает он меня к себе в кабинет и просит тут же прочитать статью Елены Ермиловой о последних книгах Анатолия Жигулина.
Статья Елены Ермиловой пробудила во мне много самых разных чувств, в том числе, признаюсь, и чувство некоторой растерянности. Да и называлась она многозначительно: «Открытия и прописи».
Высказав несколько верных и интересных суждений о достоинстве стихов Жигулина, она перешла, так сказать, к главной теме своего разговора.
«Иногда кажется, – писала Ермилова, – что в Жигулине живут два поэта. Один так свободно и легко находит единственную, бесспорную интонацию:
Осень, опять начинается осень.
Листья плывут, чуть касаясь воды.
Начатое легким человеческим вздохом, стихотворение в конце так же естественно и ненавязчиво оборачивается снова к человеку. Здесь есть жизнь и движение.
Но возникает такое ощущение, что безошибочности своей поэтической интонации автор сам как бы не вполне доверяет. И вот тогда выступает другой Жигулин, с разъяснениями и комментариями, как бы специалист по двуединой теме осенней грусти и неиссякающей красоте жизни. Ослаблена «звенящая» струна, и та поэтическая атмосфера, которая присутствует в лучших стихах Жигулина, тает, рассеивается. «Нежность», которая сама сквозила в легком касании осенних листьев, кажется поэту недостаточной; она подменяется декларациями о нежности, сентиментальноописательными формулами…
Стихи в изобилии наполняются общими местами – небогатой «мудростью», риторическими формулами, имеющими с поэзией только внешнее сходство, никакой наблюдательностью не искупается банальность таких вот «философских» деклараций:
Ведь рядом с тихою печалью
О том, что жизнь кратка моя,
Торжественней, необычайней
Земная радость бытия.
Рядом с этими зарифмованными прописями тонут и бесспорные поэтические открытия – в сборниках в целом (особенно в «Чистом поле») и в рамках одного стихотворения. Одно из наиболее интересных стихотворений Жигулина начинается с такого бесспорного открытия:
Лает собака с балкона,
С девятого этажа.
Это та поэтическая «случайность», которая открывает «вдруг» целые пласты жизни. В несложном, как будто «бытовом» образе – лающей чуть не с неба собаки – отразилось одно из сложных противоречий жизни. Эмоциональная атмосфера стихотворения приносит что–то смутно–знакомое – из детства, из книг (дальний ночной лай собаки в деревне или в провинциальном городке):
Вспомнилась черная пашня,
Дальних собак голоса.
Маленький, одноэтажный
Домик, где я родился…
Но сколько между этими начальными и конечными строками вялых добавлений, риторических вопросов:
«Что ты там лаешь, собака? Что ты мне хочешь сказать?», ненужных пояснений того, что и без того ясно: «Кто–то высоко, однако, вздумал тебя привязать!»
Полная досказанность заглушает то, что действительно сказано на поэтическом языке, в ложном глубокомыслии тонет поэтическая мысль. В самой композиции появляется застылоеть, неподвижность…
Высшие достижения поэзии Жигулина, по нашему мнению, связаны с темой памяти о детстве: само чувство времени, его протяженность, неумирающей жизненности прошлого, его существования в настоящем – вот наиболее глубоко воплощенная тема поэзии Жигулина. Это «Углянец», «Утиные Дворики», «Дирижабль» и другие. Не то что «эпизод из детства», рассказанный сегодня, но атмосфера сегодняшнего воспоминания, сама память как поэтическая тема. Вот проплывающий над головой «огромный сонный дирижабль» с заклепками на обшивке, в своей неуклюжей реальности поэтически загадочный, нереальный, как сон, и исчезающий, как сон:
…И утонул за горизонтом
В дрожащей дымке —
Навсегда.
И – спасибо Жигулину! – не исчезнувший, оставшийся в его стихах вместе с нашим детством: «А я его так ясно помню, а я всю жизнь за ним бегу в мир непонятный и огромный с былинкой тонкой на лугу»…
Деталь обычно дает у Жигулина больше, чем все последующие разъяснения; когда он рассказывает о доме своего детства, сразу в первых строфах возникают: рассыпанный под водосточной трубой черный уголь, доносящийся с поля запах ржи, пыльный фикус, который выносили на летний дождь. Эти неповто–римые, так любовно и точно воскрешаемые черты и детали далекого прошлого сами говорят о том, как драгоценны для поэта воспоминания. А потом, в остальных строфах, автор многословно поясняет, как драгоценны для него эти воспоминания («А мне он так сегодня нужен, тот ранний мир моей души… Он где–то здесь, под пепелищем, в глубинах сердца, в толще дней…» – и т. д.). И эти разъяснения не только ничего не добавляют к поэтической мысли, но скорее обкрадывают ее, выпрямляя, вырывая из сложных связей поэтического контекста, придавая ей однозначный, плоский смысл прописи.
Вот это вмешательство «второго» Жигулина, как будто и не замечающего поэтических открытий «первого», не дает им прозвучать в полную силу, а порой топит в прозаических или условно–поэтических банальностях».
Прописи, прописи…
Вероятно, такая уж судьба у Анатолия Жигулина, что жизнь то и дело подводила его к краю, к роковой черте, даже в детстве. Не выскочи он тогда, летом сорок второго, из автобуса, в который только что так рвался, и через полчаса ниточка его жизни оборвалась бы навсегда. А сколько бомб пощадило его в то лето? Потом юность – и новые суровые испытания. Но вот трудные годы, кажется, остались позади. Радость бытия наполняет душу Анатолия Жигулина. Но тут подкрадывается другой неумолимый враг – болезнь. Острая форма туберкулеза то и дело загоняет его в больницу. Однако Жигулин не сдается, Жигулин борется.
При первой встрече с Жигулиным Твардовский сказал: «Вид у вас болезненный, но глаза веселые, живые. Верю, что вы выздоровеете!»
Вспоминается книга «Рельсы», изданная «Молодой гвардией» в 1963 году. Вернее, вспоминается портрет автора. Поражают глаза, действительно необычайно веселые и живые. Да и размах плеч ничего…
Интересна история самой этой фотографии. С Твардовским Жигулин встречался в ноябре шестьдесят первого года, а весной следующего года Жигулин снова слег и все лето провалялся в московской туберкулезной клинике, где его навещали и Владимир Цыбин, и Николай Анциферов, и Валентин Сидоров, и Николай Панченко, как–то навестил и приехавший в Москву Борис Ручьев. Однажды приезжает Панченко и говорит, что сборник «Рельсы» решили проиллюстрировать авторским портретом. Фотографии не было. Тогда Панченко подогнал к клинике такси, Жигулин прямо в больничном халате нырнул в машину… Но не сниматься же для книги в больничном халате! Панченко быстро разоблачился – отсюда и размах плеч, это «панченковские» плечи. А вот глаза – глаза жигулинские и именно такие, как о них сказал Твардовский, веселые и живые…
Болезнь в тот раз отпустила, но не отступила надолго. «Обещая сиянье сентябрьского дня, скоро хлынет заря – на больницу, на парк… Милый доктор! Домой отпустите меня. Я бы с сыном сегодня пошел в зоопарк». 1967 год.
В 1968 году Жигулин перенес тяжелую операцию.
За двадцать лет Анатолий Жигулин много раз и подолгу лежал в больницах, но у него всего лишь несколько «больничных» стихотворений, однако мысли и чувства, которые посещали его в долгие больничные дни, не могли не вплестись в его общее душевное самочувствие. И то, что другим еще могло показаться прописью, для него уже было истиной. Смерть – самая простая истина, и эта истина никогда не может стать банальной за вычетом лишь тех случаев, когда кто–то по легкомыслию вдруг начинает ею играть. Анатолию Жигулину тут было не до игр. Однако он никого не стращает смертью, он настолько тактичен и деликатен в этом вопросе, что никогда всуе не произносит самого этого слова. И между прочим, «пропись»: «Неужто когда–нибудь можно все это забыть навсегда…» – это не о возможной забывчивости, это о возможной смерти.
Я с удовольствием ответил бы на прочитанную мной статью, если ее автором был бы кто–нибудь другой. Это Геннадий Красухин прекрасно понимал, а потому и предложил мне с особым удовольствием написать «второе мнение». У меня нет, да и в тот момент не было никаких претензий к Красухину. По–моему, газетный (или журнальный) работник таким и должен быть: все знать, все ведать, а об остальном догадываться. Материал, который он даст в газету – это одно, а почему бы ему попутно еще не осложнить жизнь своим коллегам по литературному цеху… Конечно, я мог бы и отказаться (ведь на практике чаще приходится отказываться от предложений, нежели соглашаться), но я тогда сказал:
– Хорошо. Я напишу «второе мнение».
Мы договорились о сроках, и я далеко не в лучшем расположении духа отправился домой, неся в портфеле злополучную статью Елены Ермиловой.
Не с легким сердцем засел я и за работу – не с кем было ни поговорить, ни посоветоваться. Раньше я мог бы пойти к Вадиму Кожинову или Дмитрию Голубкову. Кожинов всегда мне давал, помимо советов, заряд какой–то бодрости, что ли, вселял азарт. После общения с ним особенно хотелось работать. Теперь это исключалось. Голубков давал успокоение, а если не бояться стародавних слов, то лучше сказать – чувство умиротворения, после общения с ним как–то светло думалось. Но не прошло еще и месяца, как трагически закончил свой жизненный путь мой недавний друг – Дмитрий Голубков. Может, еще и поэтому мне так хотелось «прикрыть» сейчас Жигулина.
Дмитрий Голубков был человеком абсолютной интеллектуальной честности. Моя короткая дружба с ним (в последний год его жизни) залегла мне в душу навсегда. Он мог, когда тому были причины, обижаться на товарищей, но он никогда эту обиду не переносил на их творчество. За месяц до своей трагической кончины он пошел работать в «Литературную газету». Желание у него было одно – печатать лишь талантливых авторов. Желание естественное и фантастическое одновременно. Он как–то стал называть мне имена поэтов и прозаиков, чьи произведения хотел бы опубликовать в газете, среди этих имен называлось и имя человека, на которого у него – это я точно знал – были все основания обижаться. «Но он же талантливый», – сказал мне тогда Голубков и тем самым как бы подвел окончательный итог своего отношения к этому человеку. Он всерьез относился ко всему тому, что писал сам, радовался, когда я говорил ему какое–то доброе слово о его произведениях, однако он относился к тому немногочисленному типу художников, которые мало говорят сами о своем творчестве, но зато могут часами говорить о работах других, причем не просто говорить, а искренне радоваться каждой чужой хорошей строчке и искренне огорчаться, если товарища постигла творческая неудача. В тот год мы не раз говорили и о Жигулине, вернее, о его новых стихах, особенно о его «осенних» стихах.
Но теперь эти разговоры навсегда ушли в прошлое. Я открываю журнал «Молодая гвардия», где была напечатана статья Дмитрия Голубкова о стихах Жигулина…
«И вот «Прозрачные дни» с их тихим светом, с благородно–сдержанным богатством живописи… Но – окаянная память современника, раненная всеми болями недавнего былого… но – душа, вышедшая победительницей из битвы со смертью и тьмой, душа истинного поэта наших дней, которому покой даже и не снится…
Может, настоящая поэзия – это не что иное, как кровное двуединство, состоящее из воспоминания и предчувствия? И разительность поэтического воздействия наиболее полна тогда, когда художнику удается живо ощутить в настоящем давнее или, наоборот, когда предчувствие с волшебной явностью воплощается в нынешнем, в сиюминутном? Это дается редко, немногим…»
К числу этих немногих Голубков относил и Жигулина.
Я знаю за собой такой недостаток: если я заранее настраиваю себя непременно написать «мягко», то мне крайне редко удается осуществить это на практике. Обязательно занесет. Так получилось и на сей раз. Даже в самом названии моей статьи уже чувствовалась некоторая агрессивность, а называлась она:
КОНЦЕПЦИЯ ИЛИ СХЕМА?..
В последнее время мы как–то стали терять интерес к авторской индивидуальности: вместо того чтобы серьезно осмыслить творчество того или другого поэта и найти его произведениям соответствующее место в общем ряду литературных явлений, мы, изрядно обстругав творчество своих «избранников», вталкиваем его в узкие рамки впопыхах построенной концепции и притом полагаем, коли стародавний схематизм называть концептуальностью, а слово «ярлык» заменять словом «термин», то от этого дела наши заметно изменятся к лучшему. Если внимательно присмотреться к некоторым дискуссиям последних лет, окажется, что вся их острота в основном держалась на терминологических недоразумениях… Появился термин «эстрадная поэзия», и вот уже поэты сгоняются в определенную группу – в таком положении они лучше поддаются счету и обзору. Затем, видимо в тех же целях, появляются «термины»: «интеллектуальная поэзия», «деревенская лирика», пророчилась какая–то «шумная поэзия». Нынче объявилась «тихая поэзия». Различного рода «поэзии» заслоняли собою индивидуальные творческие судьбы поэтов, и не только от читателей, но и от самих критиков. И вот что поразительно: ни один из этих «терминов» так и не был хоть сколько–нибудь прояснен, вероятно, и даже наверное по той простой причине, что наибольшее недоумение все эти «концепции» и «термины» вызывали у авторов, их породивших.
Теперь, судя по всему, в нашей литературе грядет какой–то час «тихой поэзии», в одну из первых жертв которой критик Елена Ермилова принесла творчество очень многогранного в своей внутренней жизни поэта Анатолия Жигулина, естественно предусмотрительно обстругав его поэтическое творчество. «Вновь открытый «врачующий простор» родной стороны, тишина, органические, неоспоримые ценности – все, чему посвящают в последнее время стихи многие наши поэты и что получило в критике суммарное прозвание «тихой» лирики, – пишет Е. Ермилова, – с наибольшей отчетливостью выразилось в поэзии А. Жигулина».
Не стану спорить ни с Е. Ермиловой, ни с Л. Аннинским, на которого она ссылается, когда речь идет о том, «что Жигулин нам сейчас необходим». Но вот вопрос: «Кому и какой Жигулин необходим?» В частности, самой Е. Ермиловой он видится так: «Мы можем с полной убежденностью повторить вслед за Жигулиным: «Вот и снова мне осень нужна…» – имея в виду не только те две «осени» – родной природы и нашей души, – но и третью, собственно «жигулинскую» осень, созданный им мир, с которым мы так хорошо знакомы по его лучшим стихам…»
Не упрекну моего оппонента в злонамерении, но тот «осенний» Жигулин, порой погружающийся в приятные детские «воспоминания», мне представляется литературной фикцией. Так, Е. Ермилова в общем–то сочувственно относится к жигулинской интонации, но вот природу поэтической интонации она понимает несколько своеобразно. Протестуя против декларативности некоторых жигулинских стихов, она в то же время впрямую выводит из строк «неудивленно и несильно дрожит душа в моей груди» довольно произвольное заключение, что в жигулинской интонации отсутствуют размах и сила, поскольку в ней «собралась, как в фокусе», тема «тихой лирики».
Нет, интонация определяется не темой, не является она и счастливой находкой, она выкристаллизовывается из общего духовного самочувствия поэта. Вероятно, можно подделаться под чужой стиль, манеру, ритмику, но вот интонацию перенять нельзя: если нет собственной интонации, то ее и нет.
Думается, биография Анатолия Жигулина в самых общих чертах известна всем, кто знаком с его творчеством. Поэт в молодые годы разделил тяжелую участь многих людей более старших поколений. Естественно, этот период нашел отражение в творчестве поэта, но эта тема представлена в стихах Жигулина удивительно тактично и ненавязчиво: «Мои обиды и прощенья сгорят, как старое жнивье. В тебе одной – и утешенье и исцеление мое» (это стихи о Родине). Вот из этого этического правила, в котором предельно отчетливо выражена самостоятельная гражданская позиция поэта, и выросла неповторимая жигулинская интонация, всех невольно пленившая, но не всеми до конца понятая.
Утиные Дворики – это деревня.
Одиннадцать мокрых соломенных крыш.
Утиные Дворики – это деревья,
Полынная горечь и желтый камыш.
Холодный сентябрь сорок пятого года.
Победа гремит на великой Руси.
Намокла ботва на пустых огородах.
Увяз «студебеккер» в тяжелой грязи.
Малыш хворостиной играет у хаты.
Утиные Дворики…
Вдовья беда…
Все мимо
И мимо проходят солдаты.
Сюда не вернется никто никогда…
Это стихотворение было написано в 1966 году, то есть спустя двадцать один год после описываемых в стихотворении событий. Тут, если говорить о внешней стороне дела, вроде бы и событий–то нет. Так, отдельные штрихи. Зарисовка… Но эти отдельные штрихи, объединенные исполненной внутреннего драматизма интонацией, способны вызвать в воображении читателей отчетливую картину разоренной войной деревни, а что самое главное, они способны, казалось бы, давно забытую боль ощутить как сегодняшнюю.
Не стану доказывать, а лишь замечу: громогласность не есть еще первый признак гражданственности и какой–то особой силы и размаха поэтической интонации.
При анализе жигулинского творчества Е. Ермилова лишь согласовала некоторые стихи А. Жигулина с собственным вкусом и собственным настроением, на основании чего и построила схему о «двух Жигулиных», отказав поэту в праве на философские раздумья и обобщения. По ее мнению, Жигулин–второй («Ведь рядом с тихою печалью о том, что жизнь кратка моя, торжественней, необычайней земная радость бытия») «топит в прозаических или условно–поэтических банальностях» Жигулина–первого («Осень, опять начинается осень. Листья плывут, чуть касаясь воды»).
Разумеется, утверждение поэта о «земной радости бытия» противоречит концепции «осейнего Жигулина», на этом основании Е. Ермилова и отбрасывает все то «лишнее», что мешает втиснуть сложное и многогранное творчество Жигулина в тесные рамки собственной концепции.
И дело тут не в количественных потерях, а в том, что авторское стремление к гармонии подменяется мотивами модного грустного уныния, то есть тот берег, от которого поэт отталкивается, выдается за тот берег, к которому поэт стремится.
Высшее достижение жигулинской поэзии мой оппонент связывает с темой «памяти о детстве», утверждая, что в этих стихах память выступает «как поэтическая тема». Но при чем тут память и при чем гут тема? В жигулинском творчестве живет время, которое вовсе не «утыкается» в воспоминания собственного детства. Не знаю, к какой памяти отнесет критик такие строки: «Неведомо, где голову сложил он – на плахе ль, в битве ль за немилый кров… Но слышу я: в моих упругих жилах стучит его бунтующая кровь» («Предок»), Или: «А над рекою с самого рассвета плывут удары, тяжки и глухи. Не знаю: бьют ли сваи или это мне слышатся Истории шаги» («На Острожном бугре»). Помимо перечисленных Е. Ермиловой прекрасных стихотворений о детстве есть у А. Жигулина и такие стихи, как «Приехала мать из Воронежа…» или «Значок ГТО на цепочках…», в которых вспоминаются не только собственное детство и собственная молодость, но и молодость родителей, молодость того поколения, на долю которого выпали основные тяготы войны. Впрочем, даже в стихотворениях о собственном детстве всегда тревожно звучит предощущение грозовых лет, и никогда личная судьба поэта во всей ее исторической протяженности не поднимается над судьбой Родины, а лишь вплетается в нее составной частью. Вот первые две строфы стихотворения «Винтовка СВТ», в которых поэт вспоминает свое далекое детство:
Когда–то ею на парадах,
Пока не грянула война,
Новейшей,
Десятизарядной,
Так любовалась вся страна!
О, ряд штыков —
Блестящих, плоских!
Он с детства памятен и мне.
И звонкий шаг у стен кремлевских,
И первый маршал на коне…
А заканчивается стихотворение двумя такими строфами:
Но почему–то так не просто,
Так странно стало на душе,
Когда тяжелый длинный остов
Нашел я в старом блиндаже.
Я этот ствол, стальной и ржавый,
Не мог спокойно обойти:
В нем наша боль,
И наша слава,
И веха нашего пути.
И если уж как–то определять жигулинскую поэзию, то ее следует назвать «серьезной поэзией» (естественно, не превращая это определение в термин), но вовсе не «тихой». Даже ранние детские воспоминания не носят у Жигулина замкнутого характера. Он говорит не «мне» памятен, а «и мне» памятен. В предпоследней строфе поэт выражает свое состояние, личное («Так странно стало на душе»), но дальше следует строфа, в которой судьба Родины, судьба народа как бы перекрывает личную судьбу («Я этот ствол, стальной и ржавый, не мог спокойно обойти: в нем наша боль, и наша слава, и веха нашего пути») (разрядка моя. – А. Л.).








