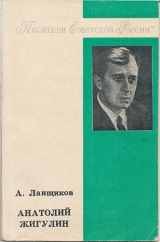
Текст книги "Анатолий Жигулин: «Уроки гнева и любви…»"
Автор книги: Анатолий Ланщиков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
«ЖИЗНЬ! НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ!..
(глава заключительная)
Итак, дав некоторый фон, хотелось бы сделать еще несколько легких уточняющих штрихов к общему изображению.
В критике уже говорилось, что поэзия Жигулина близка поэзии Есенина, Бунина, Блока, Тютчева, Коль цова. Все это справедливо, и тут возражения могут возникнуть лишь по частностям. И все–таки, думается, поэзия Жигулина ближе всего стоит к поэзии Александра Твардовского.
В самом начале нашего разговора мы заметили, что в период Великой Отечественной войны Твардовский пишет стихотворение и о «той войне незнаменитой», которая, откровенно говоря, совершенно стерлась в памяти современников в годы Великой Отечественной. А много лет спустя (1969), когда столько писалось о великих исторических событиях 1941–1945 годов, Твардовский вновь вернется памятью к событиям зимы 1939/40 года (заметки «С Карельского перешейка»).
Почти все, пишущие о творчестве Анатолия Жигулина, отмечают его необыкновенную память на подробности далеких лет. «Деталь обычно дает у Жигулина больше, чем все последующие разъяснения», – писала Елена Ермилова. Действительно, деталь у Жигулина дает очень много, но, разумеется, не больше, чем выраженное в стихах состояние души. Е. Ермилова причислила стихотворение «Дирижабль» к лучшим стихам Жигулина. Что ж, стихотворение действительно прекрасное, однако если к нему приглядеться повнимательнее, то нетрудно в нем обнаружить и «декларативность», и «прописи».
Один и тот же незабытый
Я вижу полдень вдалеке:
Бегу босой по теплым плитам
К нагретой солнечной реке.
Туда, где лодки пахнут краской,
Где на лугу стоит яхт–клуб,
Где довоенный мост Чернявский
С перилами из старых труб.
Бегу с бугра тропой полынной
В дремучей чаще лебеды.
В моей руке пятак старинный,
Позеленевший от воды…
«Теплые плиты», «перила из старых труб», «пятак… позеленевший от воды» – поразительно точные детали. По прочтении этих первых трех строф невольно уносишься в далекую даль детства. Однако пока перед нами только картинка, так сказать, почти всеобщего и несколько абстрактного детства. А Жигулин всегда автобиографичен, автобиографичен с точки зрения своего поколения.
И все доступно,
Все открыто,
И ничего еще не жаль.
И надо мной плывет, как рыба,
Огромный сонный дирижабль…
Вторжение дирижабля как бы датирует далекое воспоминание: предвоенные годы, то есть годы детства жигулинского поколения. Е. Ермилова восклицает: «И – спасибо Жигулину! – не исчезнувший (дирижабль. – т А. Л.), оставшийся в его стихах вместе с нашим детством…» Да, люди нашего поколения от души могут сказать Жигулину свое «спасибо» за этот дирижабль, зд такое пронзительное и достоверное воспоминание о нашем детстве.
Куда он плыл светло и прямо —
На дальний полюс, на парад, —
Забытый, вымерший, как мамонт,
Несовершенный аппарат?..
Между прочим, в этой строфе нельзя не заметить и определенной декларативности, и «пояснений». «Забытый, вымерший, как мамонт» – тут присутствует даже некоторая ирония, подчеркнутая откровенным прозаизмом: «Несовершенный аппарат». В принципе стихотворение «Дирижабль» можно было бы закончить и только что приведенной строфой: тонкое, с «легким касанием» воспоминание детства с ироничной концовкой по отношению к одному из атрибутов давних лет. В стихотворении можно было бы уловить и некоторое противопоставление вечного (солнце, река, лебеда, тепло и т. д.) – временному (дирижабль). Но это стихотворение продолжается следующими строфами:
Канатов черные обрывки
Под ним чертили высоту.
И было видно на обшивке
Ряды заклепок
И звезду.
Он пролетел над лугом желтым,
Где в лужах светится вода,
И утонул за горизонтом
В дрожащей дымке —
Навсегда…
Меня тоже поразила своей точностью деталь – ряды заклепок». Точнее не увидишь и точнее не скажешь – именно ряды. Вероятно, стихотворение могло закончиться и этими строфами, но в нем уже было бы запечатлено не противопоставление вечного и временного, а их согласие. Детализация этих двух строф как бы опровергает чуть возникшую иронию (выраженную декларативно). Впрочем, строфа «Куда он плыл светло и прямо…» легко изымается из стихотворения. Прочтем первые семь строф с вычетом пятой строфы и концовочной восьмой.
Один и тот же незабытый
Я вижу полдень вдалеке:
Бегу босой по теплым плитам
К нагретой солнечной реке.
Туда, где лодки пахнут краской,
Где на лугу стоит яхт–клуб,
Где довоенный мост Чернявский
С перилами из старых труб.
Бегу с бугра тропой полынной
В дремучей чаще лебеды.
В моей руке пятак старинный,
Позеленевший от воды.
И все доступно,
Все открыто,
И ничего еще не жаль.
И надо мной плывет, как рыба,
Огромный сонный дирижабль.
Канатов черные обрывки
Под ним чертили высоту.
И было видно на обшивке
Ряды заклепок
И звезду.
Он пролетел над лугом желтым,
Где в лужах светится вода,
И утонул за горизонтом
В дрожащей дымке —
Навсегда.
Прочитавшему впервые стихотворение «Дирижабль» в таком варианте, вероятно, и в голову не придет, что здесь изъяты две строфы. Вообще это стихотворение удивительно еще и тем, что его можно «монтировать» по–разному и каждый раз будет получаться законченное стихотворение. Я не стану приводить возможные варианты, а укажу лишь на возможную вариацию, строф:
I, II, III;
I, II, III, IV, V;
I, IV, V, VI, VII;
то же самое и VIII строфа;
I, II, III, IV, VI, VII;
то же самое и VIII строфа;
все строфы, кроме VIII.
Однако ни одна из возможных вариаций не даст точного совмещения по мысли и чувству с каноническим текстом стихотворения, оканчивающегося строфой:
А я его так ясно помню.
А я всю жизнь за ним бегу.
В мир непонятный
И огромный
С былинкой тонкой на лугу.
Каждая из вариаций пробуждает воспоминание о детстве, однако пробуждает отнюдь не одинаковые чувства. Воспоминание о детстве (или еще о чем–нибудь) погружает человека в определенное состояние, и такое состояние может стать содержанием целого стихотворения. В данном же случае перед Жигулиным стояла задача иного рода. Да, поэт хотел /пробудить в читателе воспоминание о детстве, однако это было лишь средство, при помощи которого он стремился достичь главной для себя цели – погрузить читателя не в определенное состояние, а в диалектику собственного чувства. В первых трех строфах поэт действительно погружает нас в воспоминаний нашего общего детства, отсюда и такие детали: «теплые плиты», «перила из старых труб», «позеленевший от воды старинный пятак». Далее неожиданно возникает дирижабль. Сначала выявляется сегодняшнее к нему отношение – чуть ироничное (сравнение с рыбой, с вымершим мамонтом и… «несовершенный аппарат»). Намечается противопоставление вечного и преходящего. Шестой строфой при помощи удивительно точных и достоверных деталей («канатов черные обрывки», «ряды заклепок») Жигулин спорит с предыдущей пятой строфой. Шестой и седьмой строфами автор как бы устанавливает согласие между вечным и преходящим, и вот эта «реабилитация» преходящего порождает неясное чувство тревоги, что–то в нас осталось от детства навечно, а что–то ушло навсегда («И утонул за горизонтом в дрожащей дымке – навсегда»). И это «навсегда», как и последующие строки («А я его так ясно помню. А я всю жизнь за ним бегу…»), только в буквальном смысле относятся к дирижаблю.
Никто не умирает таким, каким родился. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно мы что–то «находим» и что–то «теряем», без того невозможно никакое развитие. И Жигулин не столько жаждет находок, сколько печалится потерям, потому как именно в детстве мы вдруг обретаем чувство гармонии, когда вечность бытия распространяется и на наше общее самочувствие, еще не расщепляемое сознанием о диалектическом двуединстве мира, заключающего в себе вечное и преходящее.
Все приму, что мчится мимо
По дорогам бытия…
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.
И деталь для Жигулина важна не только в ее точном материальном воспроизведении, но и в ее духовной достоверности. Поясню это примером:
Воронеж, солнце, половодье.
Зеленый плавающий лед.
И солнце держит за поводья
Над белой тучкой самолет.
Военный – маленький, двукрылый, —
Защита грозная страны…
А вдалеке за рощей стылой
Поля озимые видны…
Вероятно, нельзя не обратить внимания на такие точные детали, как «зеленый плавающий лед», «поводья», «двукрылый самолет». Но здесь главное в другом. «Защита грозная страны» – вот чисто жигулинская деталь.
Сначала нам дается не только внешне точное, но и совершенно объективное описание самолета довоенной поры. Самому Жигулину, который во второй половине пятидесятых годов служил в авиационных частях, прекрасно известны тактико–боевые качества тех машин. И все–таки автор совершенно серьезно утверждает: «Защита грозная страны,..» и тем самым как бы переносит нас в то время, когда любой военный самолет именно так и воспринимался. Этим стихотворением Жигулин не только воскресил в нашей памяти прародителей нынешних сверхзвуковых реактивных самолетов, но и погрузил нас в атмосферу того давнего времени, когда мы всякие технические новшества в первую очередь воспринимали не с точки зрения возможных житейских удобств и удовлетворения личных потребностей, а с точки зрения укрепления обороноспособности нашей страны.
Медалью за Победу
Играет оголец.
С войны награду эту
Привез его отец.
Помнится, в первые послевоенные годы грудь многих вчерашних воинов украшали боевые ордена и медали. Увидишь человека, посмотришь на его грудь и невольно проникаешься к нему уважением – герой! Затем вместо красивых орденов и медалей стали в повседневье носить скромные орденские колодочки. Потом пришла мода на «скромность» – зачем, дескать, афишировать свои ратные заслуги? Сняли и колодочки. Что ж, нашему народу скромность свойственна. И вот уже мальчишки сделали своим достоянием отцовские боевые награды. Лет двадцать назад в одной из газет рассказывалось, что какой–то мальчишка поменял ордена и медали отца на марки. Разумеется, эта газетная заметка ничего не изменила.
Но мода на «скромность» приняла какой–то неожиданный поворот. Боевые ордена и медали носить перестали, зато повсюду замелькали самые немыслимые значки, эмблемы и даже надписи. Проходит в Москве, скажем, международный кинофестиваль, и вот уже то здесь, то там встречаешь гордо вышагивающих людей, на лацканах пиджаков которых красуются металличе–ские пластины, напоминающие отчищенные совковые лопаты, с крупными яркими буквами: «ПРЕССА».
Международный кинофестиваль не такое уж историческое событие и не так уж велики заслуги человека, обслуживающего это мероприятие, но гордости, сколько гордости у обладателя такой пластины… Да и чего греха таить, смотришь на эту пластину, пусть глаз твой даже и не упадет на лицо ее обладателя, и закрадывается в душу какое–то почтение то ли к пластине, то ли к ее носителю…
Или: идет по улице студент, студент как студент, вероятно, хороший парень. Съездил он со студенческим отрядом месяца на два куда–нибудь на стройку. Что ж, доброе дело сделал и себе, и людям. И пусть эта поездка ляжет первой строчкой в его трудовую биографию, потом лягут туда другие, более весомые строчки… Но так не хочется ждать этого «потом», и вот уже куртка превращается в красочный плакат, в вывеску собственного трудового энтузиазма.
Идет пожилая женщина. В студенческом возрасте она тушила зажигалки, рыла на подступах к Москве окопы, работала в госпитале или на каком–нибудь предприятии, причем по двенадцать часов в сутки. На груди ее тускло поблескивает медаль «За оборону Москвы». Головой все понимаешь, а в душе все равно шевельнется: «Чудачка какая–то…»
А впрочем, та победа
Девятого числа —
Не от отца, от деда
Ко внуку перешла…
Мы много испытали.
Но остаются в силе
И медные медали,
И слезы на могиле.
Смешались годы, даты
С бурьяном и травой.
Спокойно спят солдаты
Больших и малых войн…
Но Жигулин все это понимает не только головой, для него боль минувшего не стала минувшей болью, он с прежним почтением и уважением относится не только к боевым наградам, которых за свои подвиги были удостоены наши отцы и деды, но и к тем их усилиям, что в свое время отмечались более скромными знаками.
Значок ГТО на цепочках
На форменной куртке отца…
Кто сейчас помнит и тем более говорит о тех довоенных оборонных значках, которые с законной гордостью носили наши отцы и деды? Пройдет великая война, и забудутся и маленькие двукрылые самолетики, и оборонные значки, и многое другое. А вот поэт навсегда сохранит все это в своей чуткой памяти и не как внешние приметы давнего времени, а как вещественные признаки неповторимой духовной жизни прошлого, общим результатом которого является наш сегодняшний день. Как для Твардовского исторические события Великой Отечественной войны не заслонили полностью многие подробности «войны незнаменитой», так и для Жигулина ничто не могло заслонить ни довоенных дирижаблей и двукрылых самолетов, ни оборонных значков, ни прочих внешних устаревших атрибутов минувшей жизни, преходящность которых лишь подчеркивает вечность жизни духовной. Не общность тематики или общность формы сближают поэзию Твардовского и Жигулина, их сближает само поэтическое мирочувствование, в основе которого лежит неистощимая нравственная совестливость.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они – кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…
Вот это «все же» выявляет не вину, а то чувство вины, которое может посетить независимо от того, имеются ли действительные основания для самоупрека. И тут важна не столько истина, сколько высота нравственных требований к себе. Упрекать оставшихся в живых?.. На это ни у кого нет морального права. Но на самоупрек каждый имеет такое право. Вот это знаменитое «но все же, все же, все же…» Александра Твардовского отзывается в творчестве Анатолия Жигулина такой чистой и естественной нотой, что, говоря о близости поэзии Жигулина поэзии Твардовского, в первую очередь подразумевается не литературная схожесть поэтов двух поколений, а их духовное родство, обусловившее и до некоторой степени литературное сходство.
Так, мы уже указывали на некоторое родство лирического героя Жигулина (первой половины шестидесятых годов) и главного героя поэмы Твардовского «Василий Теркин». Тогда мы отметили бывалость обоих героев, теперь мы хотим обратить внимание и на другую сторону этого родства.
Василий Теркин, как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы, у лирического героя Анатолия Жигулина до медных труб дело не дошло, но всего остального он хлебнул полной чашей. И вот что поразительно, ни Твардовский, ни Жигулин не эксплуатируют реальные биографии своих героев и не оснащают речь своих героев тем словесным мусором, которого немало в нашей повседневной жизни и до которого так охочи многие наши литераторы. Ученые мужи этот мусор даже классифицировали: профессионализмы, жаргонизмы, вульгаризмы, и т. д. А у некоторых мужей, хотя и не очень ученых, но наделенных определенным художественным даром, прямо какой–то зуд оскорбить читательский слух такими словами, какими они сами никогда не пользуются в разговоре, ну, скажем, с высоким начальством или когда их, скажем, приглашают на телестудию.
От мусора язык не становится живее, от мусора он становится мутнее или грязнее, в зависимости от качества мусора. В конце концов одинаково легко можно замутнить или загрязнить как воду живую, так и дистиллированную, отчего последняя не приобретет достоинств первой. Чистый, живой литературный язык способен выразить все оттенки человеческих чувств и любую человеческую мысль. Этого взгляда придерживался Твардовский. Этого взгляда придерживается и Жигулин. Взгляд, конечно, для русской литературы традиционный. Теоретически его пытались опровергнуть многие, на практике его опровергнуть пока еще никому не удалось.
О теркинском юморе у нас писалось уже немало, а вот о юморе лирического героя Жигулина, кажется, говорить было не принято, а между тем юмор составляет неотъемлемую часть многих жигулинских стихов, правда, в отличие от открытого теркинского юмора жигулинский юмор сдержан и лаконичен. «Народ и хмурый и веселый в ту пору приезжал сюда – и по путевкам комсомола и по решению суда». Разумеется, смешного тут ничего нет, вернее, ничего смешного нет в самом этом факте, но при передаче его лирический герой стремится так поставить слова, чтобы вызвать нашу улыбку, и он этого добивается.
Бывалый человек – это прежде всего человек с достоинством, и юмор его исполнен достоинства. Бывалый человек не опустится до расхожих острот или хохм. У Жигулина есть стихотворение «Страна Лимонил», которая заканчивается такими строфами: «Страна Лимония – планета, где молоко, как воду пьют, где ни тоски, ни грусти нету, где вечно пляшут и поют. Там много птиц и фруктов разных. В густых садах – прохлада, тень. Там каждый день бывает праздник. Получка – тоже каждый день!..»
Вроде бы смешно, хотя и не очень–то ново – одна из вариаций на известную тему «страны Лимонии».
Пожалуй, это единственная расхожая острота в стихах Жигулина, однако лирический герой сам не опускается до нее, он ее вкладывает в уста какому–то пареньку: «Сгущался мрак в таежной чаще, темнело небо за бугром. Чумазый паренек, рассказчик, сушил портянки над костром». Вот этот паренек и расскажет нам байку про «страну Лимонию».
Хоть и просто повествует нам лирический герой Жигулина, но сам он не так–то прост, иногда его юмор звучит весьма язвительно: «Пусть нам завидуют счастливцы. Кто жил легко, писал легко, кто книги сочинял в столице, не уезжая далеко». В этом «не уезжая далеко» подтекст весьма суровый.
Но подобные язвительные выпады для Жигулина не характерны, чаще всего его юмор хотя и суров, но одновременно и мягок. Растрясли скрепером валежину. Откуда–то выскочил перепуганный насмерть бурундук:
А зверек заметался, бедный,
По коряжинам у реки.
Видно, думал:
«Убьют, наверно,
Эти грубые мужики».
Вероятно, «думы» бурундука не изменились бы й лучшему, стой перед ним не «эти грубые мужики», а розовощекие воспитанные тимуровцы. И дело тут, конечно, в думах, но только не бурундука.
Нет, пожалуй, я был неправ, жигулинский юмор был подмечен нашим пародистом Александром Ивановым, а пародия – это своего рода небольшая критическая статья в стихах. А. Иванов пишет обычно зло, иногда, как говорится, на грани дозволенного, но вот на жигулинские стихи он написал пародию в строгих рамках юмористического жанра, и черпал он вдохновение в самих жигулинских стихах. Приведу пародию полностью, поскольку уверен, что она не утомит читателя и не уведет в сторону наш разговор.
МЕДВЕДЬ
Как–то в чертовой глухомани,
Где ходить–то надо уметь,
Мне в густом, как кефир, тумане
Повстречался шатун–медведь.
Был он страшно худой и нервный
И давно, как и я, не сыт.
Я подумал:
«Убьет, наверно.
Он голодный как сукин сын».
Что ж поделать, такая доля.
Не такой уж я важный гусь…
Вдруг сказал он:
– Ну что ты, Толя,
Ты не бойся, я сам боюсь.
Под холодным и хмурым небом
Так и зажили мы рядком.
Я подкармливал его хлебом,
Он делился со мной медком.
Путь его мне теперь неведом,
Но одно я запомнил впредь:
Основное – быть человеком,
Даже ежели ты медведь.
Безусловно, тут характер лирического героя несколько шаржирован, однако шаржирован он в сторону тех его черт, выявление которых при всей их очевидности весьма затруднительно. Когда у А. Иванова читаешь: «Я подумал: «Убьет, наверно. Он голодный как сукин сын», то невольно хочется сказать о перефразировке строк из жигулинского «Бурундука»: «Видно, думал: «Убьют, наверно, эти грубые мужики».
Удачная перефразировка, только дело здесь не в конкретной строке конкретного стихотворения. Вспомним, например, «Кострожогов»: «Как огреет из автомата – и никто концов не найдет… И смотрю я в глаза солдата. Нет, пожалуй, что не убьет». Или у А. Иванова: «Я подкармливал его хлебом, он делился со мной медком». У Жигулина: «Каждый сытым давненько не был. Но до самых теплых деньков мы кормили Тимошку хлебом из казенных своих пайков» («Бурундук»). «И уходим мы лесом хвойным, где белеет снег по стволам. И махорку, что дал конвойный, делим бережно пополам» («Кострожоги»). Истинный юмор всегда рождается из истинного добра. Страх бурундука описан с юмором, потому что страх его оказался ложным. «Грубые мужики» его выходили и весной отпустили на волю. Страх лирического героя «Кострожогов» тоже оказался ложным, поэтому в стихотворение тоже привнесен юмор. Нечаянная радость в жизни всегда вызывает ответную улыбку души, однако перевести эту улыбку на поэтический язык, не исказив ее сдержанной во внешнем проявлении силы, чрезвычайно сложно.
Юмор бывает разный: открыто–веселый, заразительный, даже буйный, а бывает еще юмор смягчающий, снимающий напряжение. И Теркин балагурит не потому, что война ему представляется необычайно веселым мероприятием, своим юмором он постоянно стремится снять напряжение, столь естественное для суровых военных будней. Юмор у него открытый, заразительный, ибо он обращается к тем, с кем делит тяготы настоящего времени. Лирический герой Жигулина повествует о тяжелом прошлом, но он не стремится никого ошарашить, подавить своим повествованием, напротив, он смягчает его уместным для данного случая светлым неброским юмором. Сходство тут в главном: и Теркин, и жигулинский лирический герой снимают юмором ненужное напряжение.
Столь характерная для поэтики Жигулина сдержанность свидетельствует вовсе не об отсутствии «размаха и силы», а, скорее, об обратном, если в выражаемых стихами чувствах подразумевать не их однозначность, а обусловленную духовным опытом сложность.
Сложность зрелого поэтического сознания состоит в том, что оно складывается из бесконечного ряда жизненных впечатлений от первых поисков своего места в вещном мире до определения своего места в вечности и содержит в себе, пусть даже в очень трансформированном виде, все уже ранее бытовавшие представления об общем смысле человеческого бытия.
Мы уже отмечали, что личное открытие мира происходит по–разному в городе и в деревне и что эти первые впечатления навсегда откладываются в сознании человека. Раннее детство Жигулина прошло в деревне, однако было бы бесперспективным делом отыскивать в зрелой лирике Жигулина лишь запечатленные в слове достоверные картины далекого детства.
В 1963 году Жигулин пишет стихотворение «Рассвет в Бутугычаге» о работе в штольне на Шайтане.
…Мы отдыхали очень редко.
За рейсом – рейс, простоев нет.
На двадцать пятой вагонетке
Вставал над сопками рассвет.
Еще прожекторы горели.
Но было видно с высоты,
Как с каждым рейсом розовели
Молочно–белые хребты.
Еще таился мрак в лощинах,
Поселок тенью закрывал,
А на заснеженных вершинах
Рассвет победно бушевал.
Спецовки мокрые твердели,
И холодила руки сталь,
Но мы стояли и глядели
На пламенеющую даль.
Мы знали: чудо грянет скоро,
Однако долго ждать нельзя,
И мы опять входили в гору,
Вагон порожний увозя.
Но каждый знал:
Когда вернется
Из узкой штольни на простор,
Увидит огненное солнце
Над белой цепью снежных гор.
Конечно, в лирическом герое этого стихотворения можно угадать того деревенского малыша, для которого когда–то мир открывался и на осенней капустной грядке, как можно в том малыше угадать будущего автора строк: «Осень, опять начинается осень. Листья плывут, чуть касаясь воды. И за деревней на свежем покосе чисто и нежно желтеют скирды…» Но нельзя было предугадать, что через шесть лет после стихотворения «Рассвет в Бутугычаге» напишется вот такая пронзительная элегия. И все–таки при внимательном прочтении этой элегии мы почувствуем в ней голос души автора стихотворения «Рассвет в Бутугычаге». Больше того, без этого стихотворения, вероятно, потом бы и не возникли хрестоматийные жигулинские строки об осени. Есть в этих стихотворениях внутреннее духовное единство.
В первом стихотворении в трудную пору своей жизни лирический герой сверяет свою жизнь и свою трудную работу по самым точным и верным часам – вечной и живой природе. Во втором стихотворении природа выполняет ту же функцию: «Что–то печальное есть в этом часе. Сосны вдали зеленей и видней. Сколько еще остается в запасе этих прозрачных стремительных дней?» Только природа здесь уже не часы, а беспощадный календарь, с которого неумолимо, как осенние листья, осыпаются дни твоей жизни.
Пройдет еще семь лет, и…
Жизнь! Нечаянная радость!
Счастье, выпавшее мне.
Зорь вечерняя прохладность,
Белый иней на стерне…
Все приму, что мчится мимо
По дорогам бытия…
Жаль, что ты неповторима,
Жизнь прекрасная моя.
Это уже не Жигулин–рассказчик первой половины шестидесятых годов и не Жигулин–исповедник второй половины шестидесятых и начала семидесятых годов. Теперь уже Жигулин уносится памятью в те дали, в которых его собственное «я» еще только предопределялось. Пишутся стихи на историческую тему («Медали», «Флаги», «Из Российской истории» и др.), делается попытка выйти в жанр поэмы (поэма «За други своя»). Если когда–то собственное «я» уплотнилось до спасительного «мы» в его конкретном житейском проявлении (Жигулин–рассказчик), то теперь собственное «я» (Жигулин–исповедник) уплотняется в «мы» исторического масштаба. И я тут имею в виду, разумеется, не историческую тематику, как таковую, а то общее устойчивое самочувствие, при котором связь времен ощущается как живое дыхание вечной жизни.
На этом мы и оборвем свой разговор о творчестве Анатолия Жигулина. Поэт находится в пути. Ни направление самого пути, ни темп самого движения указывать мы ему не вправе. Одно из своих стихотворений, посвященных другу и жене Ирине, Жигулин заканчивает так:
Уже без вздоха и без мысли
Увижу я сквозь боль и смерть
Лицо, которое при жизни
Так и не смог я рассмотреть.
Вот в этой неокончательности открытий даже самых близких и дорогих проявлений жизни угадывается уже не зависящая от самого поэта и от внешних обстоятельств жизни невозможность остановки.








