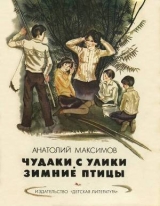
Текст книги "Чудаки с Улики. Зимние птицы"
Автор книги: Анатолий Максимов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Мишуткин хлеб
Солнечным утром по деревне наперегонки мчались Милешкины.
– Куда вы?.. – встретилась им соседка Степановна в чистом белом платке – шла из больницы – и погналась за Милешкиными.
Пробежала метров сто, схватившись за сердце, остановилась и погрозила пальцем вслед удальцам:
– У, баламуты! Хворую завихрили. Мне ли не знать вас, а туда же – бегу…
Резерв председателя колхоза летел на скотный двор за конем, чтобы отвезти хлеб из пекарни на помидорное поле.
Конюх Петруха Дымов повязал голову марлей – от комаров, – сатиновые шаровары заправил в олочи, сшитые из голенищ кирзовых сапог. В такой необычной одежде конюх выглядел ловким и подбористым. Он стоял на телеге и сбрасывал вилами свежее разнотравье: тут и привязчивый дикий горошек с синим бисером цветков, осока и вейник, пылящий пыльцой, сникшие рюмочки вьюнков… Две лошади пегой масти и два маленьких с короткими волнистыми хвостами жеребенка громко хрумкали траву, поглядывая на Милешкиных воронеными яблоками глаз.
– Это кто, паря, примчался? – удивленно спросил Петруха, не оставляя дело. – А, старый рыбак Васька, Фомка и Мишутка здесь!
Конюх всегда встречал Милешкиных радушно. Как встретит, сразу затевает разговор о рыбалке. Несут ребята на тальниковой рогульке улов – возьмет и подержит, расспросит, где удили да на какую наживку хорошо клевало, потом выдернет из фуражки крючок и подарит удальцам. Каждого мальчугана дед Петруха окрестил по-своему. Петрушу – Фомкой: мальчишку чуть было не задавил трактор, значит, он как бы заново народился, поэтому имя ему положено другое. А Василька конюх уважительно называл старым рыбаком или, когда особенно нравился ему Василек, рыбачком. Кроме дома Милешкиных, в деревне был еще один дом, в котором дневали и ночевали ребятишки – дом конюха Петрухи. Сам Петруха увлекался удочками, его бабка, толстая Любава, внук Витька, ровесник Василька, и семнадцатилетняя внучка Дина тоже слыли страстными рыболовами. В дождливую погоду в огороде делать бывало нечего и кони привольно паслись на лугу – все Дымовы отправлялись на речку с лесом удочек.
В детстве и девичестве Людмила часто хаживала с Дымовыми на речку и озера, теперь Василек и Петруша бегали за ними. Милешкины так и тянулись к семейству Дымовых, особенно к деду Петрухе. Может быть, оттого, что Петруха был какой-то не такой – особенный среди мужчин деревни, старых и молодых. Конюх выделялся приветливым отношением к детям и простотой в образе жизни. Были у Петрухи еще два брата: Илья, сколько помнит Людмила, в бригадирах полеводов ходит, другой – Павел, мастеровитый кузнец и механик, трактора и комбайны дошлый ремонтировать. Оба брата имели по мотоциклу с коляской, оба грузовые машины водили. Петруха вечно с лошадьми.
Когда-то, помнит Людмила, лошадей колхоз держал целый табун. С каждым годом все больше стали привозить машин – табун хирел, теперь осталось всего-то две кобылки, два мерина и один племенной жеребец вороной масти, злой как черт и неукротимый. Жеребца запрягает в легкую кошевку деревенское начальство и щеголяет по району. Кобылки год от года дарят весной Петрухе жеребят. Радуется старый конюх жеребяткам несказанно, глаз не сводит с игривых, разговаривает и забавляется, как с родными внучатами. Но потом, когда матки отвадят от молока жеребят, их продают на сторону. Последнюю ночь старый конюх сторожит и пасет жеребят, утром уходит с удочкой на Кур, просиживает там целый день – безмолвный и глухой.
Трудится Петруха как будто на задворках современной жизни, не то что его братья, однако Петруха самый уважаемый старик в деревне. Братья приходят к нему за советами, как управлять колхозным хозяйством и ладить с людьми, чужие – помочь устроить мир в семье. Особо важные дела в правлении никогда не решаются без Петрухи.
Запрягая коня в телегу, дед знал, что Людмила не загонит, не покалечит, не даст от жары и от паутов гибнуть животине. А кто бывал ласковым к животным, тот и для Петрухи друг.
Конь, серо-дымчатой масти, никак не уходил от вороха зеленой травы.
– Ну, трогай, – гудел конюх и тянул упрямого за повод.
Телега, погромыхивая, выкатилась из двора. Чужие ребятишки пытались на ходу заскочить на телегу.
– Марш домой! – зашумела на них Людмила. – Опять матери скажут, что я увлекла вас беспризорничать.
Дед сажал удальцов на телегу, на охапку душистой травы. Василек, как самый старший, широко расставив ноги, засвистел, закрутил над своей головой концами вожжей, и конь лениво побежал к пекарне.
Пекарня – бревенчатый дом на берегу Кура, возле пристани. Бывало, едешь по реке, домов не видно, а густой запах только что испеченного хлеба, смешанный с ароматом луговых и лесных цветов, дает знать о близкой деревне. Хоть и позарез некогда, однако все равно пристанешь из-за вкусного хлеба.
Милешкины лихо подрулили к пекарне. Из распахнутой двери так и валил хлебный жар. Две полнотелые молодые женщины, в коротких белых халатах и косынках, вынимали деревянной лопатой из жерла печи, вытряхивали из противней на полки золотистые булки.
– О, явилась бригада ахова! – Молоденькая подвижная девушка с веснушками по сдобным щекам подхватила Мишутку оголенными до локтей, сильными горячими руками.
– Вот где ты мне попался! Я тебя сейчас маслицем оболью и с маком поджарю, – и понесла Мишутку к печке.
Тому под потолком зажгло уши, от тела девушки так и пыхало зноем. Испугался парнишка: вдруг возьмет девушка и посадит его, ради шутки, в черную печь! Он остервенел – замолотил ногами, застучал кулачонками по высокой груди девушки. Она не отпускала Мишутку, безудержно смеясь, тискала да все ближе подносила к жерлу печи.
– Оставь мальчонку, Варя! – сказала другая пекарша, постарше. – Пора своих иметь.
Варя с сожалением опустила на пол Мишутку, тот стрельнул к двери и зло выкрикнул:
– Булка ты, вот кто!
В полотняный мешок наклали буханок и, ухватясь за него со всех сторон, поднесли к телеге, осторожно положили на траву. Варя погладила белой рукой горячий мешок: неохотно прощалась со своим творением, потом вынесла из пекарни самую румяную, большую булку и подала Людмиле:
– Это вам на дорожку хлебца крошку.
Солнце нещадно палило, как будто тоже подрядилось выпекать хлебы.
Милешкины подъехали к Улике, поставили коня в тень черноталов и, на бегу срывая с себя рубашонки, штанишки, сыпанули в воду. Людмила, раздеваясь, не отрывала глаз от искристых брызг, поднятых удальцами..
– Мама Мила, – подала голос Люсямна, – нас куда снарядил председатель? Хлеб в поле везти или купаться?..
– Сейчас, доча. Еще по разу бултыхнемся – и на телегу.
Ребятишки оделись, одна Людмила никак не могла оставить речку…
Телега затарахтела дальше. Удальцы сидели на ней резвыми цыганятами и за обе щеки уплетали пшеничную булку, подаренную Варей. Они ели пышный хлеб, и есть им хотелось все больше.
– Не довезут, слопают дорогой, – сожалели редкие прохожие. – И кому доверили – Милешкиным!
За околицей деревни потянулись густые заросли клена вперемешку с яблочником и орешником. После ливневого дождя песчаная дорога была гладкой. Милешкины ехали неспешно: им велели доставить хлеб к полудню. До обеда далеко, а поле близко. Василек, опустив вожжи, сидел на бровке телеги, свесив одну ногу, и слушал, как запальчиво стрекотали чечетки, мельтеша в кустах узкими нервными хвостами; на самом острие высокой лиственницы – крохотная птичка, черноголовый чекан.
«Чек, чек, чек!..» – подражал чекан звуку молотка, отбивающего лезвие косы.
Конь, дикий на вид, с непомерно разросшимся хвостом и гривой, незаузданный, топал сам по себе, хамкая придорожную траву. Люсямна и Людмила рвали на полянах желтые саранки, шелковистые банты голубых ирисов, какие-то былинки с нежно-белыми мелкими цветами. Мать с дочерью сплели себе по венку, не забыли надеть на голову венок и смирному Савраске. Нарядными они выехали на кочкастую марь, за марью – высокий лес, за лесом уже помидорное поле.
Перед топкой марью Савраска неуверенно остановился. Удальцы заспорили: куда ехать? Через марь несколько широких дорог, проторенных гусеничными тракторами. В глубоких колеях застоялась ржавая вода. Василек спрыгнул с телеги, побродил, тыча палкой туда-сюда, и озабоченно сказал:
– Застрянет Савраска!
– А ты погоняй, – посоветовала Людмила. – У коня-то целых четыре ноги. Пока одна завязнет, он другую успеет выдернуть…
– Ну, долго будем гадать да рядиться? – не сиделось Люсямне. – Ведь с нами солнышко не остановилось. Скоро обед. Нас шефы и колхозницы ждут.
Людмила поснимала с телеги ребят, поправила на Савраске красивый венок и велела Васильку переезжать марь. Василек раскрутил вожжи, заулюлюкал. Савраска переступил с ноги на ногу, оглянулся на возницу: дескать, что это ты, с ума сошел? Да чтоб я по болоту рысью побежал! Дудки! Конь зачавкал копытами не по дороге, куда направлял Василек, а целиной, редкой осокой. Он брел зигзагами, выбирая где покрепче. Милешкины толкали телегу сзади.
– Еще немножечко, еще…
Телега тонула в жиже почти до ступиц колес. Один раз конь заколебался, куда бы ему ступить. В этот миг красный овод, величиной с шершня, до крови ударил Савраску в пах. Савраска садану по оглобле задним копытом и, сердито всхрапывая, попер телегу, провалился, выскочил и вдруг лег брюхом в лужу, уронив цветочный венок.
– Но-но! – сгоряча кричал Василек.
– Не надо погонять! – испугалась Людмила. – Куда же он пойдет? Везде топко.
– Вот тебе и четыре ноги, – проговорил Петруша.
Милешкины окружили коня, беспомощно лежавшего с жалким и кротким выражением в круглых глазах, от растерянности не знали, что делать. Первой нашлась Людмила: развязала супонь, чересседельник, сбросила с коня дугу и хомут. Конь отдохнул и забился, застонал, обрызгав грязью Милешкиных, вырвал увязшие ноги, вскочил и подался в кочки, волоча за собой вожжи.
Конь стоит, встряхивает косматой гривой, хлещется мокрым хвостом. Милешкины, тоже по колено в воде, смотрят бестолково на Савраску, на телегу, на огромный мешок с хлебом и не знают, что им дальше делать. Домой бежать или как-нибудь дотащить хлеб до поля?
– Думайте скорее! – прикрикнула на братьев Люсямна. – Три мужика, а такие ляли…
– Что ж тут долго гадать, – проговорила Людмила, ополаскивая руки в луже. – Понесем на себе. Не оставлять же людей без хлеба.
Так и решили сделать. Василек отвязал от узды вожжи и понужнул коня – тот охотно подался назад, в деревню. Людмила завязала в свою косынку три булки и подала Васильку, Люсямне – две, а Петруше с Мишуткой в подолы рубах положила по одной. Оставшийся в мешке хлеб она взвалила на себя.
Брела Людмила первой, за ней гуськом удальцы. Над болотом дрожало душное марево, горячий хлеб жег Людмиле спину; волосы ее раскосматились, сама обливалась потом. Утопая по колени в болоте, мать кричала ребятам, куда нельзя ступать. Ребятишки отставали, часто приходилось ждать Мишутку. Булка припекала ему живот и с каждым шагом казалась все тяжелее. К тому же жгуче кусались оводы. Булку он, как ни берег, изрядно подмочил, а потом и сам окунулся с головой в лужу. Встал – весь в грязи – и заревел благим голосом. Людмила опустила мешок на кочки, вытащила из лужи Мишутку.
– Ну, хватит, хватит… – утешала она сынишку, промывая ему лицо.
Мишутка ревел. Вспомнил он веселую румяную девушку Варю, как она белыми быстрыми руками брала с полки булки, клала в мешок и приговаривала:
«Эту отдашь, Мишутка-Прибаутка, красавице, эту – лучшей работнице, а вот эту булочку – влюбленной девушке…»
Мишутка смотрел на Варю, слушал ее ласковый говор и проникался глубоким уважением и к Варе, и к горячим, душистым булкам. Когда нес он в подоле рубашки свою булку, то все время думал, как бы не упасть, донести до помидорного поля и отдать самой доброй и красивой тетеньке, а теперь что он принесет на табор? Братья, Люсямна и мама Мила обрадуют людей хлебом, а он, Мишутка, явится с пустыми руками. Вот почему мальчуган никак не мог успокоиться. Сидел на кочке весь мокренький, маленький, держал на коленях ком грязного хлеба и плакал навзрыд. Людмила пыталась по-хорошему уговорить его, но Мишутка не поддавался на ласку. Тогда мать в сердцах крикнула:
– Замолчи, чудо гороховое! Посмотреть бы в этот час, что поделывает наш Тимоха Милешкин на БАМе! – разозлилась Людмила. – В палаточке полеживает с папироской в зубах или рябчиков из мелкашки постреливает… Ему – чисто, светло танцевать, а тут… Ну скажите, удальцы, зачем нам такой отец сдался?..
– Без папы луж бы не было на мари и конь бы не застрял, – с иронией заметила Люсямна.
– Плохой у нас папка, – заикаясь, промямлил Мишутка.
– Ты еще не подпевал! – обрушилась на него сестра. – Ишь жук выискался, туда же – отца родного хаять… А чего расселись? Ну-ка вставайте. Солнышко голову печет – обед настал, а люди без хлеба… – И, взяв свой узелок с двумя булками, девочка подалась в сторону поля.

Пошли все, один Мишутка продолжал горемыкой сидеть на кочке.
– Пойдем, Прибаутка, – сказала Людмила. – Выберемся из мари, я тебе другую булку дам.
– Я счас хочу нести.
– Да ты опять искупаешься.
– Не пойду тогда… – запел Мишутка.
– Ну и дети у меня народились! Один другого краше! – взорвало Людмилу. – На тебе булку, на! Только попробуй ее замарать, я тебя тогда так окуну в лужу, что век не отмоешься!
Мать развязала мешок и выбрала самую маленькую булку. Мальчонка с радостью принял ее в подол выстиранной рубахи и побрел за братьями. Людмила замыкала шествие, не теряя зла на Милешкина. Удальцы, наконец, вышли на бугор, повалились с ног; немного отдохнули и потянулись сквозь релку на отчетливо слышимый гул тракторов.
Два трактора тянули полем многолемешные окучники. Женщины двигались вдоль гряд и поправляли цапками присыпанные кусты помидоров; где надо, подгребали, выдергивали траву и все посматривали на дорогу, в сторону села: им пора обедать, ждали хлеб. Увидев горемычных Милешкиных, человек десять заспешили к ним навстречу, остальные – к дощатому навесу, где дымилась кухня. Незнакомые женщины взяли у ребят хлеб. Мишутка никому не отдал свой, сам донес к табору. На таборе шефы, колхозницы и председатель Пронькин подняли смех: комично выглядели чумазые и печальные удальцы-молодцы.
– Ай да хорош мой резерв! – дергал белесыми бровями Иван Терентьевич. – Вас осталось только в кино снимать.
Милешкины молчком спустились к озеру. Накупались вдоволь в теплой воде, согнали с себя мрачное настроение, усталость и спокойными вернулись на кухню.
Шефы и колхозницы ели гороховый мясной суп и за обе щеки уплетали мягкий, еще теплый хлеб. Людмила смотрела на своих удальцов, и ей очень хотелось знать, что они чувствуют, глядя на душистые ломти хлеба в руках работниц? У ребят были удивительно красивые лица – какие-то добрые, осмысленные. Мишутка сидел за столом, положив подбородок на сложенные руки, смотрел и не мог насмотреться, как люди едят хлеб.
Заповедное озеро
На Цветочное озеро, где росли лотосы, готовились идти с вечера. Людмила отварила молодой картошки, набрала пупырчатых, словно озябших, огурцов, налила в литровую бутылку сладкого чая. Пока мать собирала в дорогу нехитрую еду, и ребята не дремали. Василек наточил бруском щербатый японский штык, похожий на длинный нож (штык он нашел под крутояром реки), Люсямна нарезала братьям марлевых платков, пришила пуговицы к рубашкам. Уже в потемках Милешкины закончили сборы и неохотно полезли на помост, боясь проспать утро.
Они взяли да устроили на черной кряжистой березе настил из досок и перила в одну жердину. Затащили сена, над ситцевым пологом натянули клеенку от дождя и росы. По лестнице, сбитой из осиновых жердей, сперва вскарабкивались Мишутка и Петруша, затем Василек и Люсямна. Людмила стояла внизу, готовая поймать падающего. Она взбиралась последней. На лабазе Милешкины долго галдели и шебаршились.
Струился теплый воздух, слегка колыша полог и перебирая утомленные в зное, черствые листья березы. Когда звезда спичкой чиркала по небу, ребята затихали, ожидая еще чего-то необыкновенного. Первыми успокаивались малыши, прильнув носами к материнскому Плечу. За ними и старшие. Людмила накрывала детей простыней и, как бы отделившись от неугомонной ребятни, думала о своих взрослых делах. Вечерами особенно тревожно вспоминался ей Милешкин.
И теперь, в теплую ночь июля, она вспоминала мужа. А звезды одна за другой летели из вечности, тонко раскраивая густо-синее небо. Береза вздрагивала, как бы от волнения в глубине земли, слегка раскачивалась. Древнее черной березы не осталось в Павловке дерева.
Дед Пискун, сосед Милешкиных, помнит березу молоденькой – с густой, зеленой шевелюрой стояла она на тонкой ножке, и золотистая кора была на ней в обтяжечку. Росла береза и хорошела из года в год. Дед Пискун, до последней возможности состарившись, заметил, что и береза перестала расти, кора на ней зачервонилась, топорщась заплатками. Береза вымахала огромной и приземистой. Начинала зеленеть поздно весной, и рано высыпались из ее кроны отмершие желтые листья.
Со времен молодости Пискуна в деревне не осталось ни одного дома, перемерли и друзья-ровесники. Теперь мог он до конца своих дней разговаривать о былом только с черной березой. До позднего вечера просиживал Пискун на скамеечке, чутко вслушиваясь в детский говор и смех на помосте, и казалось ему, что не все еще кончено, что ждет немало разного и Пискуна и черную березу.
Под березой, прежде чем уехать в поле, утрами собирались колхозники, играли ребятишки, гуляли в праздники. Под ней когда-то хрумкали сено и овес партизанские заиндевевшие кони, прощались солдаты с родными, уходя на великую войну. Всякого насмотрелась и наслушалась береза. Может, потому-то она так бережно баюкает удальцов: неизвестно ведь, какие лихолетья ждут их впереди…
В девичестве Людмила рвалась к Цветочному не столько за голубицей, как полюбоваться на дивные цветы, овеянные нанайскими сказками и легендами. Она до сих пор помнит, как девочкой первый раз увидела алое полыхание цветов. Помнит, как испытала страх и восхищение. Лежа под пологом, Людмила закрыла глаза и представляла себя на озере маленькой девочкой…
Дует теплый ветерок, над головой жаркое солнце; по светло-коричневой воде пробегают искрящиеся барашки. Листья лотосов лежат на воде большими овальными шляпами, по глянцевой поверхности крупным жемчугом перекатываются водяные шарики. Над широкими листьями пиками торчат бутоны, скупо показывая младенчески розовый цвет лепестков. Много лотосов уже цветет. На высоких, крепких ножках лепестки крупные, что крылья птиц, а в середине – пестики коронками, будто у маков.
Людмила не может оторвать глаз от цветов. То они кажутся ей белыми, с нежно-розовым отливом, а то сплошь светло-алыми… Запах от лотосов, как от солнечного, дождя и росных трав. Покойница мать говорила Людмиле, что в пасмурную погоду цветы сжимаются в крепкие кулачки, но если не держать на людей зла, стоя у озера, и улыбаться – лотосы и в хмурый день доверчиво расцветут. Девочке в тот час казалось, что она ровесница этих лотосов, и чудились ей бредущие от релки к релке в знойном мареве чудовища в панцирях. Гигантские звери канули в века, только и сегодня по-прежнему свежо цветут лотосы и Людмила девочкой стоит у озера…
А потом, в первый месяц замужества, Милешкин, в присутствии юной жены, не страшась коричневой пучины озера и змеевидного переплетения колючих толстых корней на дне, плавал для любимой за цветами. Испуганный и озорной, он приближался с цветком в зубах к Людмиле. Она робко тянулась за лотосом, и мох под ее ногами уходил куда-то в бездонность; вокруг шипело и чавкало. Жутко и притягательно было Людмиле вблизи древних цветов…
Нынче Милешкины навряд ли собрались бы к лотосам, если бы не зашла к ним нанайка Акулина. Закурила она свою трубочку на пороге и сказала:
– Я дак завтра на Цветочное еду: дюсиктэ – ягода голубица, однако, поспела.
– Поедешь, так возьми нас, – попросила Людмила. – Мы тебе в тягость не будем.
Нанайка подумала ровно столько, сколько понадобилось времени два раза пыхнуть из уголка рта сизыми кольцами дыма, и согласилась:
– Солнце выйдет за верхушку березы – приходите на Улику. Как раз и я буду на лодке.
Проснулась Людмила с зарей, разбудила первым Петрушу: он всегда поднимался долго и неохотно. Другие дети, услышав негромкий говор матери, подняли взлохмаченные головы, похлопали глазами, зевнули – и сон с их лиц как ветром сдуло.
Милешкины вышли из ограды гуськом. Людмила замыкала шествие, пересчитывая удальцов:
– Один, два, три, четыре…
От сизой росы сникла огородная осока. Светло-розовые цветы таволги в росе представлялись ребятам сочными и сладкими, будто ломти спелого арбуза.
Дед Пискун, в заношенном полушубке и валенках, сидел на скамье у калитки. Опираясь на палку, он с трудом поднялся навстречу Милешкиным.
– Желаю тропу вам гладкой скатертью, – отчего-то волнуясь, сказал он и как бы поклонился. – Я ведь тоже помню про цветы лотосы. Хорошо помню-ка… Ишо повидать уж не придется… Ты, Мишутка, пострел, ладом гляди на цветы. За деда Пискуна смотри, понял? А ему принеси хоть один лепесток понюхать.
Дед, стоя, провожал ватагу удальцов, пока не скрылись они за изгородью, перевитой кислицей и луносемянником.
Из-за тальников неслышно выплыла плоскодонка с загнутым носом. Акулина сидела в лодке спиной вперед и попеременно гребла двумя широкими веслами. Она не оглядывалась, однако лодка шла прямо к Милешкиным.
Удальцы торопливо заняли две поперечины, округлив глаза, чему-то улыбались. Людмила села за гребовые весла, Акулина взяла рулевое и прошла на корму.
Выбрасывая легкие весла далеко вперед, Людмила гребла неспешно, чувствуя податливую упругость воды. Она с уважением смотрела на старую нанайку, которой, казалось, ведомо какое-то большое знание о природе и человеке, поэтому, наверно, ее круглое лицо всегда так спокойно и одухотворенно.
Мишутка ловил водоросли, Василек хлестал по воде прутом. Акулина не одергивала их. Она будто бы не замечала непоседливости ребят, дымя трубкой, держала лодку на другую сторону речки в длинный залив, затянутый широкими листьями кувшинок, в россыпи мелких желтых цветов.
Помнишь ли ты, бабушка, – спросила Людмила, – когда первый раз увидела цветы на озере? Небось тебе интересно и страшновато было, да?
Акулина рулила, не вынимая из воды весло.
Как не помнить, – лицо нанайки посветлело. – В старости-то детство ближе к тебе… Привели меня женщины к озеру совсем маленькой, поставили далеко от берега. Смотри, говорят, а к воде не подходи, беда будет. Раньше верили наши люди, будто в озере живет пестрый дракон. Как выгнется дракон – бывает радуга. Цветы нанаи не рвали, в озере не купались. Пришли русские, стали купаться, цветы рвать. Мы думали, проглотит их змей. Русские парни плавали за цветами для невест, змей их не трогал, и цветы не пропадали. Каждый год цвели, поди, для молодых. Нанаи тоже маленько перестали верить в дракона, а в озере все равно никогда не купались…
Акулина гребнула веслом несколько раз и над чем-то призадумалась.
– Расскажи нам сказку про лотосы, – попросила старушку Люсямна.
– Сказок да много помню, – не сразу ответила Акулина. – Чо время терять зря, ладно, расскажу сказку короткую: осталось мало ехать, во-он дуб, там и остановимся.
Вот сказка Акулины.

Сотворил бог Мудур людей. Люди красивые, умные получились. Поднял он шелковое небо, вырастил тайгу, населил ее зверями и птицами. С сопок распустил по лугам и релкам быстрые речки, населил речки рыбой.
Долго работал бог Мудур – озеро чая выпил, мешок табаку выкурил. Однако природа почему-то не радовала его. Рядом с красивыми людьми тусклой казалась ему природа. Чего-то главного на земле не хватало. Но чего?.. Три года думал, ломал голову бог. Потом приналег хорошенько на память и вспомнил про волшебные цветы, способные много раз в день менять окраску: утром и вечером, в дождь и ветер; способные создавать хорошее настроение людям, наводить их на глубокие думы о жизни.
Акулина сбросила с весла тонкие нити резных листьев водяного ореха, свела глаза на тлеющую трубку, испытывая (терпение Милешкиных. Никто из них не проронил ни слова, опасаясь спутать мысли старушки, понимали, что сказка не закончена.
Захотел Мудур насадить редких цветов по всем старицам и заводям. Но не знал, в каком именно озере растут лотосы. Надо было найти их.
Отправил бог юношу, еще не замаравшего себя кровью птиц и зверя, искать лотосы по белому свету.
Три года ходил паренек, сто унтов изорвал, и все напрасно. Один раз, уже совсем измученный, забрел юноша на топкую марь и видит: тропы зверей тянутся куда-то в одну сторону. Пошел он по тропе и попал к овальному озеру среди мари. На озере цвели лотосы. Юноша потянулся за дивным цветком. «Вот, – подумал, – сорву, обрадую Мудура и сородичей!» Вдруг из коричневой воды выгнулся радугой под самое небо великий дракон, на спине зловещего змея загремели громом черные тучи, застреляли в парня молниями.
Вернулся в стойбище юноша без цветка, но зато, повидав лотосы, стал необыкновенно удачливым в тайге и на реке, девушки с первого взгляда влюблялись в него. Вот с тех пор, говорят старики, люди ходят на топкую марь к озеру, чтобы тоже быть счастливыми…
– В молодости и я ходила к озеру, – закончила свою сказку Акулина. – Всякого натерпелась в жизни, однако больше помню хорошего, и вам, арбята, надо посмотреть на цветы, потом сильными и фартовыми вырастете.
Лодка зашла в тупик залива. Людмила отправилась первой по краю релки, осыпая с травы росу. Люсямна с бидончиком семенила за матерью и засматривалась на цветы позднего лета. На релке разливы розовой леспедецы, венечной серпухи, в низкой траве ярко-красными звездочками огоньки, синие бубенчики какалии. Каждый день Люсямна видела эту радостную пестроту, но, шагая к озеру, она засматривалась на цветы с робкой пытливостью – ведь цветы у тропинки к лотосам! Высокие релки как бы плыли дымчато-зеленой марью. Заросшую тропинку в разных направлениях пересекали глубокие тропы зверей. Нанайка показывала Милешкиным свежие следы сохатых, изюбрей и кабанов, гнилые пни и муравейники, развороченные бурыми медведями. Сколько ни озирался по сторонам Василек, но самих зверей не видел. Акулина говорила, что звери напаслись ночью, набродились из релки в релку, напились целительной воды из Цветочного озера и теперь полеживают в чаще ерника и березняка.
Самый маленький, Мишутка, топал медленно по траве и лужам, а Людмиле не терпелось поскорее прийти к озеру – она понесла мальчонку на закорках. Василек спрашивал у Мишутки, не видит ли он с высоты каких-нибудь зверей. Мишутка, конечно, зверей не видел.
Весной выгорела марь, и Акулина огорчалась: неужели вокруг озера пропал голубичник? На глинистом пятачке нашли уцелевший рясный куст. Объели. Акулина повеселела: может быть, и возле озера попадутся редкие кусты…
Солнце начало припекать, из топкой мари поднималась духота, дрожала вдали синим газом.
Василек надоедал Мишутке, поминутно спрашивая, не видит ли тот, наконец, Цветочное озеро?
Мишутка вдруг закричал, что показалась узенькой полоской вода. Людмила тоже увидела озеро, потом Акулина, однако не могли они разглядеть знакомого с детства нежно-розового полыхания цветов. Людмила с тревогой в голосе тоже пристала к Мишутке: да неужели он еще так и не видит с ее плеч лотосы?
– Дайте Мишке очки, – съязвил серьезный Петруша.
– Может, еще не расцвели? – сомневалась Люсямна.
– Что ты говоришь, доча! – отмахнулась свободной рукой мать. – Самая пора. Мишутка-Прибаутка, теперь-то видишь цветы?..
Замученный вопросами, парнишка отвечал: перед ним чистое озеро. Да хоть бабку Акулину посади на плечи Людмиле, все равно ничего не разглядит…
Людмила остановилась на мшистом, пружинящем берегу. Надо бы ей снять с плеч сына, она стоит, держит его за коленки и смятенно смотрит на озеро – ни травинки, ни былинки… Она смотрит на релки – на то ли заветное место привела своих детей?
Перед ней знакомый овальный разлив озера, но лотосы как будто никогда не росли. В голову Людмилы запало сомнение: может, не видела она лотосов наяву, а приснились ей? Может, сказки Акулины представились ей былью?
– Были! Были!.. – с отчаянием твердит Людмила.
Подошли удальцы с Акулиной. Старушка присела на кочку и, отмахивая березовой веткой мошкару, выдохнула:
– А-на-на!..
– Акулина! – пристала Людмила к нанайке, спустив на мох Мишутку. – Ведь были лотосы? Мать твоя видела, ты много раз видела, и я лотосами любовалась. Ведь были, Акулина?..
Старушка смотрела перед собой, мошкару не замечала, не затягивалась трубкой; казалось, ее вовсе не трогала взволнованность Людмилы.
А релки всё плыли куда-то, и молчало озеро. Василек, глядя на затравевший гусеничный след, воображал, что грозный дракон не смог уберечь лотосы и, побитый, опозоренный, уполз в далекие релки умирать. Ничто не могло рассказать, какая трагедия случилась с древними цветами. Людмиле казалось: было непоправимое, настолько страшное, что она своим умом не в силах постигнуть. С лотосами погибло нечто державшее в крепкой спайке мир, дарившее вечность природе. А что же будет теперь?
– Вот и пришли к разбитому корыту, – промолвил Петруша.
Акулина по-старчески тяжело поднялась с кочки и отправилась берегом. Вернулась с черной коробочкой, похожей на перечницу. В коробочке стучали семена лотосов.
– Цветы, однако, ондатры съели, – глухо проговорила нанайка. – Корни у цветов крахмалистые, вкусные…
Людмила расширенными глазами уставилась на Акулину и вдруг нервно расхохоталась. Гигантские динозавры не слопали лотосы, мамонты не выловили своими хоботами, ледник не задавил, а маленькая зверушка, похожая на крысу, уничтожила…
Дети молча ходили у озера, к чему-то прислушивались, чего-то ждали. Сколько чудес рассказывала им мать о лотосе, а привела к пустому озеру. Мать видела живые лотосы, а дети ее, наверно, никогда не увидят, разве на картинке или в кино…
Людмила взяла у Акулины коробочку, потрясла над ладонью, семена из отверстий не выпадали. Тогда с хрустом раздавила и выбрала из скорлупы несколько сморщенных горошин. Она где-то прочла, что лотосовые семена могут веками лежать в иле, могут и неожиданно дать ростки. Мать раздала детям по горошине.
– Бросайте в озеро на счастье. Хоть одно зерно да взойдет. А мы сто лет будем приходить сюда, но дождемся, когда взойдут лотосы! – Ее горошина дробинкой плюхнулась в воду.
К лодке шли устало: донимал зной, и волшебных цветов не повидали, и голубики не набрали. Над травой порхали стрекозы, белыми куделями цвели рябинолистник и медуница. Природа была прежней, но для Людмилы и Акулины она опустела, стала скучной.








