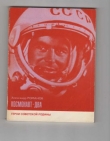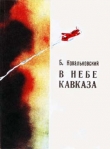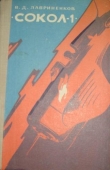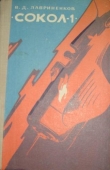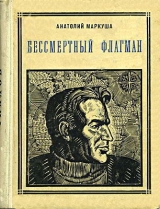
Текст книги "Бессмертный флагман (Чкалов)"
Автор книги: Анатолий Маркуша
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Наконец наступает 19 июня.
4 часа 42 минуты. Полюс позади. Кругом юг – впереди, слева, справа…
«АНТ-25» «скатывается» с вершины мира по 123-му меридиану. Беляков радирует: «Перевалили полюс – попутный ветер – льды открыты – белые ледяные поля с трещинами и разводьями – настроение бодрое».
Слово Г. Ф. Байдукову:
«Высота 5 тысяч метров. Лицо Чкалова выражает боль, он растирает сведенную левую ногу. Зная, как неприятно ощущение судороги, тороплюсь сменить его».
11 часов. Высота 5700. Температура – 30°. От каждого неосторожного движения самолет просаживается, теряя высоту. Снова облака, снова слепой полет. На крыльях нарастает ледяная корка. И выше нельзя, приходится снижаться до 3 тысяч метров. Впервые за 36 часов непрерывной работы мотор получает некоторую передышку.
Неожиданно на лобовое стекло что-то брызнуло, и сразу же стекло покрылось коркой льда. Байдуков финкой счищает лед, просунув руку в крошечную форточку. Поплавок, указывающий уровень жидкости в системах охлаждения, исчез. Есть опасение, что кончилась охладительная спиртовая смесь. Воды! Скорее воды в расширительный бачок, иначе ничего не стоит сжечь мотор.
Чкалов бросается к запасному баку. Вода замерзла.
Беляков взрезает резиновый мешок с питьевой водой. Лед…
К счастью, подо льдом обнаруживается немного воды… Заливают в бак, добавляют остатки чая из термосов. Поплавок показывается. Все в порядке…
Высота 3 тысячи. Облачность кончилась. Беляков определяется. Остров Бенкса. Это уже земля Канады.
Пройдено 6200 километров.
18 часов, внизу Большое Медвежье озеро. Байдуков радирует:
«Всем… Штабу перелета… Понимаем, как вы беспокоитесь. Но поймите и нас: полет проходит четко, но не так просто. Тяжких часов было немало. Над Канадой пока ясно и тихо. Трудное побороли, рады, что в основном уже выполнили задание своего правительства и своего народа».
И снова ухудшение погоды. Приходится сворачивать вправо и выходить к побережью Тихого океана.
Высота 5500. Кислорода остается все меньше и меньше.
Высота 6100.
Кончается 19 июня.
24 часа по Гринвичу. Беляков передает записку Чкалову: «Кислород кончился». Приходится снижаться.
И снова полет в облаках.
У Чкалова идет носом кровь. Беляков впадает порой в полуобморочное состояние…
Высота 4500. «АНТ-25» приближается к государственной границе Соединенных Штатов Америки.
20 июня. 15 часов по Гринвичу. Внизу Портленд. Экипаж находится в полете почти 62 часа. Дождь.
Байдуков заходит на посадку…
Слово Чкалову:
«Я первым вышел из кабины. Сделал несколько нетвердых шагов, закурил. Обращаясь к американским солдатам, по-русски говорю:
– Притащите колодку!
Меня, конечно, не поняли. Начинаю объяснять пальцами. Сообразили. Колодка принесена. Положили ее под правое колесо. Егор (Байдуков. – А. М.) завернул к ангару, подрулил к воротам. Ко мне подбежал офицер и с криком: „Здравствуйте!“ – стал жать мне руку».
Видите, как все просто, – здравствуйте, прилетели…
* * *
Важная подробность, мимо которой прошли почти все биографы Чкалова, и даже Георгий Филиппович Байдуков, видимо из скромности, упомянул вскользь: посадку на земле Америки выполнял второй пилот – Байдуков, а командир корабля Чкалов сидел в это время на масляном баке и волновался, и в последний момент крикнул:
– Газ! Газ давай!..
Не знаю, кто еще из командиров кораблей способен был бы отдать такуюпосадку после такогоперелета своему второму…
* * *
Лирическое отступление.
20 июня в 19 часов 30 минут по московскому времени чкаловский экипаж приземлился в Соединенных Штатах Америки. В этот день мне исполнилось шестнадцать лет и почти в тот же час, когда Валерий Павлович устанавливал первые контакты на Американском материке, жестами объясняя, что ему нужна колодка, совершилось мое практическое вступление в авиацию – я выполнил первый прыжок с парашютом… Надо ли говорить, какой гордостью переполнилось тогда мальчишеское сердце, сколь значительным казалось это ничтожное, как я теперь понимаю, событие – парашютный прыжок, и как я был счастлив, что начинаю именно в такой день!..
А спустя некоторое время я зашел в двадцать восьмую квартиру нашего дома. В этой большой неуютной коммунальной квартире в числе прочих обитателей жил Эммануил Ильич Гец. Был он худым, некрасивым, странноватым человеком: держал в своей единственной комнате большущий аквариум с золотыми рыбками, пушистую собачонку, кота, черепаху; над шкафом и столом свободно порхали штук пятнадцать волнистых попугайчиков, повсюду оставлявших свои следы. Почему-то все мальчишки нашего дома называли Эммануила Ильича запросто Моней, и ему это нравилось. Моня был печатником наивысшей квалификации, известным в своем мире специалистом. И вот я зашел к нему в дом и увидел: на круглом обеденном столе лежит огненно-красный альбом, к обложке его приклеен белый прямоугольник и в нем написано «Штурманский бортовой журнал самолета № 025». Нет, в обморок я не упал, но голова у меня пошла кругом. Вытерев руки об штаны, открыл бортжурнал и увидел:
«Вес самолета при вылете 11 180. На горке предполагали долить 65 кг (90 л) горючки, но не долили, так что конец горючего будет по показании 11 460 (наяда). Оторвались против главн. входа…»
Запись была выполнена фиолетовыми чернилами четким аккуратным почерком. В подлинности журнала я не усомнился ни на секунду. Глупо улыбаясь, спросил:
– Откуда это?
– Что, здорово сработали? Валерий Павлович одобрил, – довольным голосом ответил на мой вопрос Моня.
Оказалось, передо мной лежит полиграфическая факсимильная копия чкаловского бортжурнала – подлинный шедевр печатного искусства. Не помню, сколько экземпляров журнала было напечатано, кажется, штук сто, может быть, чуть больше…
– Станешь летчиком, подарю, – пообещал Эммануил Ильич.
И вот летчиком я стал, но в Москву попал не скоро – училище, война… А когда приехал, узнал – наш сосед, милый, добрый, чудаковатый Моня, умер. Спрашивать про журнал у вдовы мне показалось неудобным.
Вся эта история осталась в памяти каким-то сном – ярким и грустным. По прошествии многих лет я рассказал о ней седому заслуженному авиационному генералу. Рассказал потому, что пришлось к слову.
Против ожидания мой несколько сентиментальный и не очень складный рассказ вызвал совершенно неожиданную реакцию.
– Это что! Вот послушай, какая со мной штука приключилась. На войне дело было. Будит меня среди ночи адъютант и докладывает: с той стороны, через линию фронта перешла какая-то женщина. Требует старшего авиационного начальника. Говорит, принесла документ особой важности и может его вручить только самому главному начальнику. Сначала я ничего не понял, но приказал позвать женщину. Сижу зеваю. Входит. С лица – обыкновенная женщина, средних лет. В ватнике, в валенках, голова платком покрыта. Видно, замерзла. В феврале дело было – самые морозы. Короче говоря, достает эта женщина из-за пазухи пакет, разворачивает и кладет передо мной на стол книгу. Гляжу – «Штурманский бортовой журнал № 025». Представить можешь?
Рассказывает: в ее доме немец стоит. Майор. Тихий. Не обижает. Со всех концов таскает книги, больше старинные, церковные, и посылками отправляет в Германию. Женщина убирала в комнате майора, когда того не было дома, вдруг увидела, поняла – Чкалов! – и решила спасти журнал.
Сто двадцать километров пешком добиралась, все бросив: хозяйство, дом… Жизнью рисковала.
Ну, мог я сказать, что принесла она копию? Не мог. Убей – не мог. Наградил человека орденом: «за спасение документов особой важности», поблагодарил от лица службы и от себя лично…
Тут генерал помолчал, горестно вздохнул и еще сказал:
– Эх, годы-годы… вот и фамилию ее запамятовал… А с Валерием Павловичем мы служили вместе. Большого достоинства был человек…
Но это не все.
Прошло еще порядочно лет, общим счетом, больше тридцати со времени чкаловского перелета, я отдыхал на берегу Черного моря. Познакомился на пляже с женщиной, спокойной, рассудительной, нисколько не сентиментальной, и тоже, к слову, рассказал ей обо всем, о чем только что поведал читателю.
– Господи, чего только на свете не случается! – спокойно заметила моя знакомая и не спеша пошла в воду. Признаться, мне даже немного обидно сделалось – разве так должна она была отреагировать?..
А через несколько дней, уже в Москве, женщина эта позвонила по телефону и сказала:
– Подарок я вам приготовила, «Штурманский бортовой журнал», заезжайте…
Сегодня щедрый дар Татьяны Николаевны Погодиной лежит на моем столе. И когда в дом приходят мальчишки-лейтенанты, не износившие своих первых офицерских погон, я даю им взглянуть на этот журнал. И сто процентов попадания: у всех делаются круглые глаза, ни один ни разу не усомнился в подлинности журнала, ни один не остался равнодушным и все спрашивают с придыханием:
– Откуда это?
Как вы, надеюсь, поняли, это рассказ не обо мне, не о вдохновенном кудеснике полиграфического искусства Э. И. Геце, и даже не о той безымянной женщине, что совершила свой подвиг, перейдя через линию фронта, это рассказ о нем, о Валерии Павловиче Чкалове, чья биография началась задолго до рождения и продолжается сегодня, спустя тридцать пять лет после смерти. Уверен, что это не будет большим преувеличением: без малого двенадцать с половиной тысяч летчиков, удостоенных звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, самоотверженно продолжили жизненный путь девятого по счету Героя СССР – комбрига Валерия Павловича Чкалова, не говоря уже о многих тысячах менее или вовсе не прославленных рыцарей нашего неба.
* * *
Если попытаться характеризовать время, проведенное Чкаловым на земле Соединенных Штатов, одним-двумя словами, пожалуй, вернее всего будет назвать это время американским калейдоскопом.
Стремительно сменялись города, раскаленные, душные, потные, – стояло необыкновенно жаркое лето; мельтешили краски, во все нарастающем темпе проносились лица новых и новых людей: солдаты портлендского военного аэродрома, генерал ВВС, члены генеральской семьи, репортеры, репортеры, репортеры, седоголовые сенаторы, водители такси, белые и цветные, президент, величественный и гордый, человек с профессорской внешностью; знаменитые деятели науки, рабочие, миллионеры, ослепительные кинозвезды… Просто невозможно хотя бы приблизительно подсчитать, сколько рук пожали Чкалов, Байдуков и Беляков в первые же дни своего пребывания в Америке. А на сколько улыбок ответили улыбками, сколько произнесли речей, тостов…
Калейдоскоп нельзя «упорядочить» или привести в какую-нибудь систему – на то он и калейдоскоп. Единственное, что можно попытаться сделать, рассказывая о заокеанских встречах Валерия Павловича, – это поставить его в центр событий и представить Аллерику как бы вращающейся вокруг нашего героя, что, кстати сказать, не будет особенным преувеличением.
Перелет чкаловского экипажа действительно отодвинул все прочие сенсации на второй, третий и даже десятый план.
Первый дом, порог которого переступили наши летчики на американской земле, был домом генерала Маршала. Здесь летчики умылись, побрились и уселись обедать. Одеты они были явно не по этикету. Дело в том, что генерал был человеком сухощавым и чрезвычайно высоким и любезно предложенные брюки из генеральского гардероба, по свидетельству Чкалова, «доходили мне до шеи»… Этот пустячный эпизод развеселил хозяина дома и гостей и, кажется мне, послужил прекрасным камертоном, настроившим Чкалова на столь дорогой его душе непосредственный лад.
Позже, на массовом митинге, когда появление летчиков было встречено пронзительным свистом тысяч американцев и растерявшийся на какой-то миг Чкалов спросил у сопровождавшего летчиков работника советского посольства: «Чего это они свистят?» – и получил ответ: «Приветствуют и одобряют. Тут так принято». Валерий Павлович моментально сориентировался – засунул два пальца в рот и засвистел столь оглушительно, как мог засвистеть только василёвский мальчишка, сорвиголова с берегов Волги. Знай наших!
И зал грохнул, зал содрогнулся от общего хохота и яростно зааплодировал совсем по-европейски.
Каждое слово Чкалова подхватывалось репортерами, каждое слово повторялось в газетах, по радио, разносилось молвой, приобретая особое значение. Хотел того Валерий Павлович или не хотел, он говорил, улыбался, шутил от имени Союза Советских Социалистических Республик. Это была для него совершенно новая, незнакомая прежде работа – дипломатическая. Чкалов вполне справился с этим весьма ответственным поручением Родины.
* * *
Америка вращалась вокруг Чкалова. Америка швыряла ему в глаза громадные лозунги и транспаранты: «Слава мировым героям!», «Победителям магнитных джунглей привет!», «Да здравствуют советские летчики – победители Северного полюса!»
И Чкалов радовался этим приветам. Радовался, конечно, за себя, за своих товарищей, а еще больше за нашу страну, совсем незадолго до этого официально признанную Соединенными Штатами. Эта радость воодушевила Валерия Павловича на слова, произнесенные перед многолюдным собранием:
«На крыльях своего самолета мы несли привет от ста семидесяти миллионов нашего народа великому американскому народу! В моей стране поют хорошую песню. Есть в этой песне слова:
Как невесту, Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать…
Вот мысли и чувства моего народа! И никакие циклоны, никакие полярные штормы не могли остановить нас, выполнявших волю своего народа… Примите привет и дружбу, которую мы вам принесли!»
На другом массовом митинге, организованном журналом «Советская Россия сегодня», куда явилось десять тысяч человек, где летчиков встретил стометровый плакат: «Америка приветствует советских первооткрывателей трансполярного воздушного пути!», Чкалов сказал:
«Друзья! Товарищи наши! Мы, три летчика, вышедшие из рабочего класса, можем работать и творить только для блага трудящихся. Мы преодолели все преграды в арктическом перелете, и наш успех является достоянием рабочего класса всего мира!»
Летчик Чкалов, до сей поры утверждавший образ мыслей и идеологию своего народа только работой – полетами, риском в воздухе, оказался и на земле достойным представителем СССР.
«Не стремление к наживе, не честолюбие и тщеславие побуждает советских людей к героическим подвигам. Народ, уничтоживший эксплуатацию и построивший социализм, движим чувствами, выше и благороднее которых нет у человека… стремление к общечеловеческому счастью – вот что делает наш народ непобедимым!..» – так говорил летчик Чкалов, буквально в считанные дни ставший своим человеком на чужой земле. И его вера, его убежденность, его открытое людям сердце встречали понимание у многих тысяч слушателей.
* * *
Глубокое впечатление произвело на Чкалова приглашение в Клуб исследователей. Прежде чем попасть в стены этого почтенного учреждения, чкаловский экипаж проделал немалый путь по Америке: Ванкувер, Портленд, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк остались позади; трижды прозвучал в честь наших летчиков пушечный салют… И вот Клуб исследователей. Здесь Валерия Павловича подвели к громадному глобусу, на котором были прочерчены маршруты самых выдающихся экспедиций и стояли собственноручные подписи Фритьофа Нансена, Роберта Пири, Руала Амундсена, Вильямура Стифенсона, Уайли Поста, Ричарда Бэрда, Отто Шмидта, Амелии Эрхарт…
Волнуясь – и было от чего, – Чкалов взглянул на самый свежий маршрут, свой маршрут, проложенный по бело-голубому полю северного полушария Земли, и расписался.
Но вот что любопытно: позже, вспоминая об этом знаменательном дне, он, конечно, с гордостью будет говорить и о торжественном приеме, и об историческом глобусе, но особо подчеркнет другое: «Самым замечательным событием дня было то, что среди гостей на обеде присутствовал единственный среди приглашенных белых негр, Мэттью Хэнсон, живой участник экспедиции Пири к Северному полюсу». Характерно, очень характерно для Чкалова: реликвии – прекрасная вещь, но живой человек, участник великого события, важнее, дороже, значительней. Человек!
* * *
В эти дни адмирал Бэрд писал: «Разрешите принести мне самые сердечные поздравления народам Советского Союза в связи с завершением величайшего в мировой истории авиационного перелета». И эти слова были восприняты Чкаловым как величайшее признание. Ведь они исходили от Летчика, одного из самых достойных Пилотов земли. От человека, ответившего однажды на вопрос: «Что приносит вам постоянную удачу в самых рискованных предприятиях?» – «Мною предводительствует Жюль Верн».
И еще Чкалова взволновала телеграмма Амелии Эрхарт: «От всего сердца поздравляю с великолепным достижением. Надеюсь скоро увидеть знаменитых русских героев и лично пожать вашу мужественную руку».
Знаменитая американская летчица Амелия Эрхарт находилась в это время на одном из первых этапов своего кругосветного перелета.
Чкалов понимал, конечно, что своим прилетом в США несколько «повредил» прославленной американке. Ну, хотя бы тем, что занял своей персоной воображение ее соотечественников; тем, что невольно оттеснил сообщения о ее полете на вторые и даже третьи полосы шумных американских газет. Тем более приятно было получить от нее дружественную телеграмму.
Увы, Эрхарт не пожала руки Чкалова.
Совершив вынужденную посадку в открытом океане, она уже никогда не вернулась к людям. Исчезла без следа. И хотя была некоторая надежда на спасение, она быстро улетучилась: начался унизительный торг, жалкая возня – кто должен спешить на помощь: фирма, организовавшая перелет, государство, друзья летчицы? Пока шел этот беспардонный торг, время оказалось упущенным. И когда в конце концов авианосец с шестьюдесятью четырьмя гидросамолетами на борту вышел в океан, было уже поздно…
Чкалов помрачнел. Потускнела в его честных глазах Америка. Поблекла. Он видел и высоко оценивал великолепную американскую технику – ее высокие, как пирамиды, здания, ее элегантные машины, ее многотоннажные суда, ее прекрасно оборудованные самолеты; он отдавал должное деловитости и предприимчивости народа, но не мог примириться с разобщенностью людей, с тем, что здесь каждый «сам по себе»… Вспомнил есенинское: «Железный Миргород» – и, кажется, именно в этот день сказал впервые:
– Пора домой. Хватит.
Но до дому было еще не близко.
* * *
В нескончаемом потоке приветствий, поступавших из СССР, от рабочих коллективов, школ, воинских частей, детских садов, учреждений, от многих частных лиц – товарищей, друзей, просто знакомых и вовсе незнакомых, Чкалову совершенно неожиданно блеснул особенно теплый, радостный лучик, заметно приободривший Валерия Павловича.
«С большой радостью узнала о выполнении вашей заветной мечты. С далекого острова Чкалов мы следили за вашим полетом. Сообщаю, что слово свое сдержала – учусь. Эту телеграмму писала сама. Фетинья Смирнова».
Это была весточка от той самой тети Фоти, с бывшего острова Удд, где завершился первый арктический перелет Чкалова; от той милой, хлопотливой хозяйки, которую всего год назад так искренне и старательно срамил Чкалов:
– Живешь в Советском Союзе, и неграмотная. Ну не стыдно тебе?
И вот, пожалуйста, писала сама. Следила за перелетом. Поздравляет!
* * *
Горевать вместе с друзьями способны многие. Это естественное свойство человека. Радоваться вместе с друзьями и за друзей умеют только лучшие из настоящих людей. Чкалов умел.
14 июля, покидая США, столь торжественно и радостно принявшие чкаловский экипаж, уже находясь на борту «Нормандии», Валерий Павлович узнал: только что завершили свои полет через Северный полюс М. М. Громов, А. Б. Юмашев, С. А. Данилин.
Пройдено 10 300 километров. Экипажу Громова удалось то, что Чкалову, Байдукову и Белякову помешала совершить погода, – они побили мировой рекорд дальности.
И Валерий Павлович ликовал.
Наша взяла! Наша в его понимании значило – Россия.
Для того флагманы и прокладывают первые пути в океанах, чтобы те, кто идет следом, шли дальше, опережая время, приближая будущее – «вперед! и выше!», как сказал Горький в год рождения Валерия Павловича.
Именно так: вперед! и выше!
* * *
Прежде чем «Нормандия» достигнет берегов Европы, хочу возвратиться еще к одной подробности американского калейдоскопа.
Посол СССР в Америке А. А. Трояновский передал Чкалову, что ему поручено правительством Союза приобрести для экипажа самолета «АНТ-25» три автомашины – в премию, так сказать.
Посла интересовало, какую машину хотел бы иметь Валерий Павлович.
– А для чего нам машины? У нас же есть…
– Я получил распоряжение и должен его выполнить…
– Ну, если так… если приказ… надо купить что-нибудь подешевле.
– Мы еще не очень богаты, но и не настолько бедны, чтобы покупать своим героям какое-нибудь барахло. Это тоже политика, Валерий Павлович!
– Раз политика, тогда решайте сами…
Куплены были три «паккарда».
Но это не конец. В Москве, дома Чкалов никак не мог примириться, что сделался обладателем двух личных автомобилей. И успокоился только тогда, когда нашел применение для своего «газика» – подарил машину Василёвскому Совету.
* * *
Испытание всегда испытание. И проходит его человек в первый, или во второй, или, скажем, в десятый раз, все равно трудно.
Слава, не надо, не трогай живых,
Что ты о людях знаешь?
Даже сильнейших и лучших из них
Ты иногда убиваешь…
Чкалова ждала Родина, его ждало еще одно тяжелейшее испытание – испытание славой.
Жаркий летний день. Главная улица Москвы переполнена народом. Движение остановлено. Такое ощущение, что вот-вот должна начаться праздничная демонстрация. Нарастает и катится гул от Белорусского вокзала к площади Маяковского: едут!
Над городом поднимается метель – форменная метель. Тысячи листовок, словно гигантские снежинки, кружат над улицей Горького и медленно опускаются на асфальт. В этом феерическом вихре плывут открытые автомобили, и тысячи москвичей кричат: «Ура!» Кричат: «Чкалов!..»
Новые награды, звание комбрига, восторженное обожание людей – иначе не скажешь! – получил Валерий Павлович в первые же дни возвращения на Родину.
Сколь велика была популярность Чкалова, можно судить хотя бы по тому, что 30 процентов мальчиков, родившихся в 1939 году в городе Горьком, были наречены Валериями…
За тридцать лет существования музея Чкалова через его скромные комнаты прошло около одного миллиона посетителей! И поток этот год от года не убывает, а постоянно и неизменно увеличивается…
Сегодня все автобусы, курсирующие между городом Чкаловском и городом Горьким, несут на лобовой части кузова портрет Чкалова и на бортах надпись: «Чкаловец». Все! И совершенно невозможно установить, как родилась эта традиция, когда, по чьему почину…
Трудно, очень трудно было Валерию Павловичу остаться самим собой: не возгордиться, не вознестись, не поверить в свою исключительность. Для этого надо было родиться и сильным, и умным, и, главное, абсолютно цельным человеком.
Чкалов устоял против всех соблазнов славы. Впрочем, судите сами.
К Валерию Павловичу пришел человек. Незнакомый. Рабочий. Пришел с жалобой (к тому времени Чкалов был уже избран депутатом Верховного Совета). Жалоба была нехитрая: человеку не выплатили часть зарплаты. Что-то вовремя не подписали, кому-то не передали ведомость… Словом, случилась довольно обычная, совершенно банальная история.
Валерий Павлович выслушал посетителя, побарабанил пальцами по столу, хмуро спросил:
– А сколько они тебе должны остались?
– Да сто пятьдесят рублей… Но не в деньгах дело, Валерий Павлович, обидно…
– Ясное дело – обидно. – И, смущенно достав бумажник, отсчитал сто пятьдесят рублей. – Держи…
– Что вы? – растерялся посетитель.
– Возьми-возьми, и плюнь ты на своих бюрократов. Получишь – вернешь. – И смущаясь еще больше: – Я ж тебе не из своих, из депутатских даю.
* * *
В гости к Чкалову пришли испанские ребятишки, жившие в одном из московских интернатов. Дети республиканской Испании, героически сопротивлявшейся фашистскому половодью, захлестнувшему Пиренейский полуостров, пользовались в те годы необычайным вниманием и заботой решительно всех русских людей. Чкалов долго разговаривал с маленькими испанцами, поил их чаем, угощал конфетами, увлеченно играл с ними. И в какой-то момент заметил: ребятишки все время тайком поглядывают на великолепно выполненную модель самолета. Модель была подарком рабочих ЦАГИ. Действительно роскошная вещь, подношение тех, кто строил самолет, тому, кто пронес его над миром.
Когда пришло время прощаться, Валерий Павлович взял модель в руки, поглядел на самолет, на ребят и сказал:
– Нате, владейте. На память.
Кто-то из друзей спросил потом Валерия Павловича:
– И не жалко тебе было? Все-таки это твой самолет и тебе в подарок…
Чкалов не возмутился вопросом и не стал ничего объяснять, только произнес задумчиво:
– Дети…
Маленькие испанцы не остались в долгу: они, в свою очередь, подарили Валерию Павловичу огромного плюшевого медведя.
Прошли годы. У бывших испанских детишек появились внуки. Трагически окончился земной путь Чкалова. А потертый плюшевый медвежонок цел и улыбается из-за стекла мемориального чкаловского музея. Улыбается задумчиво, грустно, вроде хочет сказать новым ребятишкам, тысячами приходящими в этот дом: – Вот так, вот такие дела…
* * *
В канун Нового года Валерий Павлович разбирал почту на своем столе: поздравления, поздравления, поздравления, добрые слова незнакомых людей, приветствия от организаций, проза, стихи…
Вдруг увидел: «Дорогой Игорь Чкалов, Дом культуры приглашает тебя на новогоднюю елку, которая состоится…» Нахмурился. Вскрыл еще конверт и опять: «Товарищ Чкалов И., мы приглашаем тебя быть нашим гостем…»
Позвал сына:
– Тут вот тебе приглашения пришли…
– Знаю. У меня вон сколько. – И мальчик показал отцу целую пачку пестрых билетов.
– Дай сюда. – И строго: – Запомни, Чкалов – я, а ты пока что только И. Выбирай один билет. Советую в Колонный зал. – Позвонил лифтерше и, когда та явилась, передавая ей пачку приглашений, сказал:
– Тетя Нюша, тут через Игоря разные организации пригласительные билеты на елку прислали, раздай ребятишкам, пожалуйста. – И назвал тех, кто жил в их доме и давно был известен Чкалову.
* * *
Чкалов оставался самим собой.
Уезжая на аэродром, он распихивал по карманам несколько пачек папирос. И не надо было спрашивать: зачем столько? А если б спросили, он, наверное, ответил бы что-нибудь в таком духе:
– Что я, один курю?..
Он любил угощать людей, любил приносить людям радость в большом и в пустяках.
Начиная с тридцать второго года и до последнего дня жизни Валерия Павловича возил шофер Филипп Иванович Утолин. Чкалов говорил Утолину «ты», но и Филипп Иванович обращался к нему тоже на «ты». Так было и иначе быть не могло. Для Чкалова, разумеется, не могло. Он не забыл привезти Филиппу Ивановичу подарки из-за океана. Одному из первых вручил ему свою фотографию с нежной надписью (это в пору, когда за чкаловскими фотографиями буквально охотились сотни поклонников авиации и еще большее число любителей автографов).
Но, пожалуй, самый характерный эпизод вот: Чкалов неожиданно застрял в Доме актера, куда приехал на полчасика, и Филипп Иванович прождал его допоздна в машине. Валерий Павлович долго извинялся перед Утолиным за непредвиденную задержку, а потом без всякой рисовки сказал:
– Когда тебе подавать машину завтра? (На другой день Утолин был выходным. – А. М.). Весь день буду возить, отработаю…
* * *
Чкалов был по-настоящему демократичен, ему не приходилось делать над собой насилия, играть в доступность, в простоту, в открытость. С этими качествами он родился, и сидели они в нем прочно, неистребимо, как цепкие корни сидят в земле.
Чкалов любил и хорошо играл в бильярд. В летной комнате, где летчики отдыхали между полетами, было заведено сражаться на «под стол». Тот, кто терпел поражение, должен был забираться под стол и сидеть там всю следующую партию, громко понося себя и всячески восхваляя своего победителя.
Комбриг Чкалов (по теперешним понятиям, генерал-майор) проигрывал редко, страшно злился и всерьез переживал поражение, но уж коль скоро такая неприятность случалась, не нарушал традиции и безропотно отправлялся «отбывать наказание» под бильярдным столом.
Такой стиль, такая манера поведения Чкалова далеко не всем нравилась, но сам он просто не представлял себе, что может быть иначе.
Летчик – среди летчиков. Человек – среди людей. И всегда, в любых, даже самых неожиданных обстоятельствах – Чкалов!
* * *
И он по-прежнему летал. Летал много, напряженно. Вел новую машину Николая Николаевича Поликарпова.
Как всякий опытный самолет, новый аппарат брыкался, подносил сюрпризы и конструкторам и испытателю, но это было обычно, как всегда, и Чкалов работал с увлечением.
В один из вечеров, вернувшись с аэродрома, Валерий Павлович решил пойти в цирк. Он искренне любил этот самый демократичный вид искусства и с детской непосредственностью переживал за акробатов-полетчиков, восхищался смелостью укротителей, радовался праздничной атмосфере манежа.
И в тот день все шло превосходно: музыка, яркий свет, великолепные наездники и жонглеры… Все было превосходно, кроме выступления клоунов.
Клоуны из кожи вон лезли, а публика не смеялась, не принимала номер. Галерка начала даже шикать…
Валерий Павлович расстроился и в антракте сказал приятелю, сопровождавшему его в тот вечер:
– Пойдем к ребятам, надо их поддержать…
И пошел и долго утешал совершенно незнакомых ему до этого вечера людей, сравнивал их труд со своим ремеслом: всегда на острие ножа, всегда в напряжении…
И ушел только после того, как не без труда сумел успокоить неудачливых клоунов.
* * *
– Что ж, – вправе спросить читатель, – так он и жил, вовсе не чувствуя своей исключительности?
Нет, конечно. Чувствовал. Сознавал. И гордился отношением народа, всеобщей любовью тысяч и тысяч людей. Просто он никогда не злоупотреблял своим признанием. Во всяком случае, всерьез.
Борис Ливанов, Николай Доронин, Борис Чирков и Лев Свердлин, сияющие и счастливые, шли по улице Горького. Только что в Кремле им вручили правительственные награды. Неожиданно столкнулись с Чкаловым. Узнав, в чем дело, Валерий Павлович немедленно пригласил всех четырех в гости:
– Прошу всех сейчас ко мне. На пельмени. – И распахнул дверки машины.
Актеры, хотя всем хотелось принять чкаловское приглашение, запротестовали: Ольга Эразмовна их не ждет, неудобно…
– Садитесь все!
– Так все не влезем. Оштрафуют вас, Валерий Павлович…
– Меня? Не оштрафуют! Меня милиция любит, – сказал и смутился.
* * *
В дни выборов в Верховный Совет кандидат в депутаты Валерий Павлович Чкалов выступал семьдесят два раза. Его видели и слышали шестьсот тридцать тысяч человек. И это за двадцать дней.
Стояла зима, было очень холодно, выступать приходилось большей частью на улице, никакие залы не вмещали всех, кто хотел видеть и слышать Чкалова. Под конец он простудился и заболел. Но продолжал выступать, превозмогая температуру, с трудом напрягая голос.