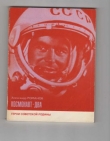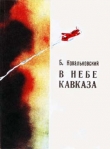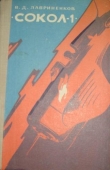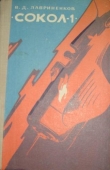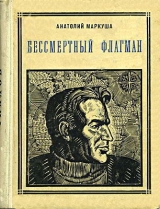
Текст книги "Бессмертный флагман (Чкалов)"
Автор книги: Анатолий Маркуша
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Нам
пить в грядущем
все соки земли,
как чашу,
мир запрокидывая… —
это сказал Владимир Маяковский.
* * *
За необыкновенно щедрый подарок судьбы надо было отплачивать. Чкалов понимал это, чувствовал и беспокоился – никакой сверхпилотаж на самом новом, самом скоростном истребителе не казался ему достойной благодарностью; нужно было что-то большее, не столь скоротечное, что-то оставляющее след в небе и на земле.
Давно уже установлено – случай ищет достойных, удача выбирает наиболее подготовленных, и находит только тот, кто ищет.
Чкалов искал.
И случай самолично явился к Валерию Павловичу на квартиру, в дом № 76 по Ленинградскому шоссе; пришел однажды вечером без предварительного предупреждения, пришел в лице старого товарища по НИИ Георгия Филипповича Байдукова, исполнявшего в полете С. А. Леваневского обязанности второго пилота «АНТ-25».
В доме Байдуков ничего говорить не стал, вытащил Чкалова «прогуляться». Бульвар был освещен тускло, кроны старых лип затеняли редкие фонари. Едва слышно лопотали на ветру совершенно черные листочки. Байдуков усадил Чкалова на скамейку и без лишних слов изложил суть дела, с которым пришел к нему.
Леваневский от «АНТ-25» отказался. Свои дальнейшие планы Сигизмунд Александрович связывает теперь с четырехмоторным кораблем конструкции В. Ф. Болоховитинова.
Самолетов «АНТ-25» построено два. Одной машиной занимаются М. М. Громов, А. Б. Юмашев, С. А. Данилин, второй «АНТ-25» пока свободен.
Если Чкалов возьмет дело в свои руки, ему и «АНТ-25» и перелет безусловно доверят.
Что касается машины, он, Байдуков, в машину верит и за нее ручается.
Разговор был долгим, разговор затрагивал множество подробностей, технических прежде всего и не технических тоже, но суть его сводилась к тому, что изложено здесь в нескольких строчках.
И Чкалов согласился.
Действительно, машину Валерию Павловичу доверили, но маршрут перелета изменили: вместо Москва – Северный полюс – Сан-Франциско чкаловскому экипажу предстояло, вылетев из столицы, подняться по меридиану далеко на Север, миновать арктический остров Викторию, пройти над Северной Землей, далее до Петропавловска-на-Камчатке, и отсюда следовать в южном направлении, пока хватит горючего и насколько позволит погода…
* * *
20 июля 1936 года в 2 часа 45 минут по Гринвичу Чкалов оторвал перегруженный краснокрылый «АНТ-25» от стартовой дорожки Щелковского аэродрома и начал свой первый арктический перелет.
Но прежде были месяцы подготовки, дни напряженных тренировок, раздумья над графиком предстоящего полета, изучение и уточнение навигационных карт, отладка радиоаппаратуры, подгонка полярного обмундирования, опробование спасательных средств, проверка бортовых пайков… Словом, как перед каждым новым взлетом, была обстоятельнейшая и весьма будничная работа на земле и в воздухе.
И не все шло гладко, особенно в последние дни, когда, казалось бы, не должно было возникать никаких неожиданностей.
14 июля во время тренировочного полета, когда экипаж, оторвавшись от земли, приступил к уборке шасси и электромотор подъемника старательно наматывал трос, подтягивая колеса к крыльям, послышался глухой удар. Стойки застряли в полуубранном положении.
Экипаж несколько часов кружил в районе аэродрома, пытаясь устранить неисправность.
А. В. Беляков, штурман, вспоминает: «С земли предполагали передать нам с другого самолета, если необходимо, инструменты, приборы и пр.».
Находившийся на аэродроме М. М. Громов собирался уже садиться в свою машину, чтобы осуществить этот весьма рискованный, не запланированный ранее эксперимент, когда чкаловскому экипажу с огромным трудом удалось наконец буквально вытянуть одну стойку шасси в посадочное положение…
Можно представить, какие мысли одолевали в эти часы Чкалова, какого труда ему стоило делать то, что следовало, и не прийти в отчаяние.
Но вторая нога так и не вышла.
И тогда командир корабля принял решение: «Буду производить посадку на одну ногу».
По поводу этого чкаловского решения А. В. Беляков весьма сдержанно замечает: «От этой посадки зависел вопрос, состоится ли перелет в 1936 году». Полагаю, что от этой посадки зависело много большее.
К счастью, Чкалов безукоризненно приземлил машину на две точки и аккуратненько в самом конце пробега опустил обезноженную консоль на зеленую траву…
Это было 14 июля.
Наземные службы работали день и ночь. Неисправность была устранена, механизм уборки шасси заново отрегулирован и тщательно проверен. 16-го экипаж провел последний тренировочный полет.
* * *
Стоит ли теперь, когда о перелете написано множество статей, книги, стихи, еще раз пересказывать все перипетии экипажа в воздухе? Думаю, не стоит. Любознательный читатель сумеет, если заинтересуется деталями, найти нужный ему материал в любой библиотеке. Поэтому скажу сразу: через 56 часов 20 минут, пройдя 9374 километра, из них 8774 по маршруту и 600 в обход циклонов в районе Северной Земли и Охотского моря, Чкалов приземлился на острове Удд.
Дело было сделано. Хочется проследить и попытаться понять, как это грандиозное дело удалось, благодаря чему?
Основа успеха – и едва ли это может вызвать у кого-нибудь сомнение – машина «АНТ-25». Летательный аппарат для своего времени выдающийся, уникальный. Но, как известно, самолеты сами не летают.
Заглянем в записи штурмана перелета А. В. Белякова:
«Было решено, что каждый из нас работает 12 часов и 6 часов отдыхает. Чкалов 12 часов пилотирует, 6 отдыхает. Байдуков 6 часов пилотирует, 6 часов несет штурманскую вахту и занимается связью, а затем 6 часов отдыхает, я 12 часов несу штурманскую вахту и работаю по связи, 6 часов отдыхаю. Такая очередность позволяла не утомляться и после каждых 12 часов работы иметь 6 часов отдыха» – сказано деловито, буднично, и двенадцать часов непрерывного пилотирования объявляются само собой разумеющейся нормой, хотя просидеть не отрываясь за штурвалом полдня, даже в наиболее благоприятных условиях, ой-ой-ой какая нелегкая задача!
Однако жизнь внесла в этот напряженнейший распорядок серьезнейшие поправки.
20–21 июля вахта Белякова продолжалась 21 час без единого перерыва. В это время Чкалов и Байдуков поочередно единоборствовали с мощнейшим циклоном.
Слово Г. Ф. Байдукову:
«В районе Северной Земли „АНТ-25“ попал в сильный арктический циклон с многоярусной облачностью. В течение пяти с лишним часов экипаж пробивался на высоте более 4 тысяч метров слепым полетом при лобовом ветре, временами доходящем до 70 километров в час, при обледенении самолета».
Значит, перелет удался благодаря выдержке всех членов экипажа, благодаря безупречному взаимодействию и полному единодушию.
Запомним это и еще раз послушаем А. В. Белякова:
«…мы решили обойти циклон… слева, с севера и северо-востока.
Путь самолета в это время представлял собой ломаную линию. По моим записям мы изменяли курс 19 раз (!). Учитывая, что в этом районе имеется большое магнитное склонение, доходящее местами до +40 и +50° (обычное склонение в средних широтах редко превышает 9–12°. – А. М.), и что сведения об этом склонении были недостаточно достоверны, можно себе представить, насколько была затруднительна штурманская работа» – снова спокойствие и деловитость сквозят в каждом слове штурмана. А ведь какой адов труд была эта самая штурманская работа!
Значит, перелет удался благодаря высочайшему профессиональному мастерству экипажа и великолепной собранности.
«В 8 часов 45 минут, пробивая облачность вниз, мы вышли к восточному берегу Сахалина. Сличая карту с местностью, я отметил, что самолет уклонился от маршрута к северу на 30 километров. (Даже на уровне сегодняшних навигационных возможностей это более чем отличный результат, – А. М.).
Мы летели над землей всего в 100 метрах. Затем, когда самолет вышел к морю около северной части Сахалина, высота уменьшилась до 50 метров, а затем до 30 (определенно напрасно ругали и наказывали молодого Чкалова за пристрастие к бреющим полетам! – А. М.). Начался дождь…
Полет на высоте 20–30 метров над разъяренным морем, в дождь, при низкой облачности и сильном ветре был чрезвычайно утомителен…» – снова очень спокойно, я бы сказал, очень буднично пишет А. В. Беляков. Очень! А ведь подвиг уже совершился. И не будет преувеличением сказать, что перелет удался благодаря самоотверженности всего экипажа.
Надо заметить особо: радиосвязь в перелете работала неустойчиво, мучали помехи, временами слышимость исчезала вовсе. Волей-неволей все решения командиру корабля приходилось принимать самому, лично, без подсказки и помощи земли. Все, кроме одного.
«Приказываю прекратить полет… Сесть при первой возможности… Орджоникидзе».
* * *
Остров Удд – крошечный клочок суши, затерянный в океане. Сесть на него было мудрено, но Чкалов сел, и сел безукоризненно.
Появление краснокрылого самолета с нерусскими буквами на борту – NO 0–25 – вызвало немалый переполох среди местных жителей, ничего о перелете не знавших, существовавших без радио и общавшихся с внешним миром только от случая к случаю. Но все скоро выяснилось, и экипаж получил приют в гостеприимном жилище Фетиньи Андреевны Смирновой (запомните имя этой женщины!).
Да, все скоро выяснилось, все, кроме, пожалуй, самого главного, – как взлетать?.. Узкая галечная полоска приняла самолет, но выпустить его ни за что бы не выпустила. Но бойцы отдельного строительного батальона, переброшенные на остров Удд из Николаевска-на-Амуре, за одни сутки изготовили бревенчатую взлетную полосу и обшили ее дощатым настилом.
Всякий подвиг непременно имеет продолжение.
* * *
По дороге в Москву «АНТ-25» приземлился в Хабаровске для дозаправки горючим и детального осмотра машины. Здесь состоялась первая торжественная встреча участников перелета. Но мне хочется рассказать не о цветах, оркестрах, овациях и пламенных речах – все это было, а об одном небольшом, на первый взгляд даже малосущественном происшествии, тем не менее весьма ярко характеризующем Чкалова-человека.
Среди множества встречавших «АНТ-25» людей был и Лев Борисович Хват, специальный корреспондент «Правды» и давний приятель Валерия Павловича. Трудно понять, каким образом это ему удалось, но факт остается фактом – дотошный, цепкий репортер, а Хват был первоклассным газетчиком, сумел уговорить Валерия Павловича взять его на борт «АНТ-25» пассажиром до Москвы. Много лет спустя Лев Борисович с удовольствием рассказывал мне, как он ликовал, вырвав обещание у Чкалова, как заранее радовался, предвкушая возможность поставить под очередной коротенькой информацией – «Борт самолета „АНТ-25“». И было чему радоваться, было чем гордиться – завтра Хват должен был стать единственным в мире пассажиром такого корабля!..
И вот это обещанное Чкаловым завтра наступило. Взлет, набор высоты… В кабине – четверо.
1 тысяча метров – облака не кончаются, 2 тысячи – не кончаются, 4 тысячи – не кончаются…
Этого никто не ожидал. Экипаж надевает кислородные маски. Масок, естественно, три…
5 тысяч – облака…
Байдуков обращает внимание Чкалова на состояние его приятеля: Хват ежится в своем летнем плащишке и как-то странно глотает воздух, судорожно, открытым ртом… Правда, при этом он старается улыбаться…
6 тысяч метров – облака…
Человек без кислорода, даже хорошо натренированный в высотных полетах, на б тысячах долго продержаться не может.
Кислорода на борту было мало, если делиться с корреспондентом, по очереди отдавая ему свои маски, на всех не хватит.
И Чкалов принимает решение: ложится на обратный курс и возвращается в Хабаровск.
Его ждала столица, его, без преувеличения, ждал весь народ. Но он, подчиняясь элементарному благоразумию, все-таки вернулся.
Однако самое интересное впереди.
Очутившись вновь в Хабаровске, Хват впал в черную меланхолию – ясное дело, во второй раз Чкалов его на борт не пустит. Чкалов, конечно, Чкалов, но ведь с него и так спросят – почему вернулся, и, надо думать, когда узнают истинную причину, спасибо не скажут.
Но на следующий день погода изменилась, и Чкалов снова взял Хвата на борт и доставил до самой Москвы.
Таким уж он был человеком – верным. Верным, как компас.
* * *
24 июля 1936 года Валерий Павлович Чкалов, Георгий Филиппович Байдуков и Александр Васильевич Беляков были возведены в ранг Героев Советского Союза.
В их честь был дан прием в Кремле, их приветствовали тысячи, сотни тысяч людей, их засыпали телеграммами, письмами, мальчишки охотились за героями – хоть взглянуть!..
И в эти дни пьянящей радости, подлинного ликования Чкалов, выступая перед руководителями партии и правительства, просил, как награду, разрешить его экипажу новый полет – через полюс…
Именно так: он просил разрешить новый полет, как награду, потому что был убежден «нас не трое, а тысячи, которые могут выполнить любой маршрут», тысячи рядовых пилотов, готовых принять любое бремя ответственности перед своей страной, перед своим народом.
* * *
В августе 1936 года специальным решением ЦК ВКП(б) Чкалов Валерий Павлович был принят в члены Коммунистической партии.
* * *
Как ярко светило солнце в конце этого удивительного лета, как разнообразна, как переполнена стала жизнь Валерия Павловича.
Художник М. О. Штейнер писал его портрет. Приходилось позировать в меховой летной одежде, дома. Жарко, утомительно. Но Чкалов не роптал, и не потому, что так уж хотел быть «увековеченным», нет, просто он уважал чужой труд и отчетливо понимал – это необходимо художнику.
Чтобы скрасить утомительные сеансы, Валерий Павлович включал «музыкальное сопровождение» – заводил патефон, и в комнате снова и снова звучали голоса Козловского, Шаляпина…
Чкалов всегда тянулся к искусству: он дружил с Иваном Михайловичем Москвиным, Василием Ивановичем Качаловым, Михаилом Михайловичем Тархановым, Михаилом Михайловичем Климовым, Алексеем Николаевичем Толстым; Чкалов охотно встречался и со многими другими актерами, литераторами, художниками.
* * *
Чкалову приходилось теперь много выступать: в заводских клубах, на многолюдных собраниях, в воинских частях, перед студентами, перед детворой. Он очень уставал от этих встреч, но не отказывался, понимал: народ хочет видеть, народ хочет знать своих героев.
Все, кто слышал Чкалова, единодушно подтверждают: Валерий Павлович был наделен врожденным ораторским даром, он выступал свободно, без шпаргалок, говорил легко и образно, воодушевлялся сам и воодушевлял аудиторию. Он был агитатором в самом лучшем, изначальном смысле этого понятия, рожденного от итальянского слова agite, что значит волновать…
* * *
В то лето Чкалов особенно сблизился с И. А. Менделевичем, работавшим над скульптурой Валерия Павловича, которой волею судеб суждено было стать первым и лучшим памятником летчику.
И. А. Менделевич в своих воспоминаниях оставил такую запись:
«Особенно характерно было его лицо, как бы созданное для лепки: скульптурное по объему и по форме.
Все в нем было выразительно: лоб, светлые мягкие волосы, сильный нос, ярко очерченные губы и упрямый подбородок.
Отдельно надо сказать о глазах: казалось, что они видят все далеко вокруг. Построение глаз и орбиты очень напоминало могучий глаз сильной птицы. Эти любопытные, полные жизни глаза, с преждевременными морщинками вокруг, пристально изучали человека».
Художник очень верно схватил главное в лице Чкалова, очень точно описал его внешность. Пожалуй, к этому наброску следует добавить лишь одну существенную деталь – его зоркие, любопытные глаза бывали гневными и даже яростными.
Однажды Ф. И. Панферов, посетивший Чкалова в Василёве на отдыхе, задал ему, прямо сказать, не слишком глубокомысленный вопрос: что он, Валерий Павлович, собирается делать дальше? (При этом в интонации писателя отчетливо улавливался подтекст – не пора ли, мол, кончать с испытаниями, не пришло ли время поберечь себя?)
Чкалов ответил одним словом:
– Летать! – остальное досказали его глаза, сделавшиеся совершенно бешеными. Досказали столь выразительно, что далеко не робкий человек Ф. И. Панферов смутился.
Ни почести, ни слава, ни дальние планы не могли оторвать Валерия Павловича от главного дела его жизни – от обыденной ежедневной работы летчика-испытателя.
Правда, иногда ему приходилось переключаться на другие, не испытательные полеты.
24 августа 1936 года Чкалов со своим экипажем пролетел на «АНТ-25» над ликующим, праздничным полем Тушинского аэродрома и сбросил приветственный вымпел…
В конце года Валерий Павлович отправился на «АНТ-25» в Париж, на Всемирную авиационную выставку.
Г. Ф. Байдуков рассказывает:
«Густые туманы нависли над Европой. Мы вылетели из Москвы в самую отвратительную погоду, какую только могла приготовить кухня природы. Все же на парижский аэродром Ле-Бурже „АНТ-25“ прибыл в точно заданное время».
Здесь разобрали машину. Кстати, чтобы провезти громадные крылья знаменитого самолета в выставочное помещение, кое-где на парижских улицах пришлось временно поснимать фонарные столбы – иначе крылья не проходили.
На два месяца «АНТ-25» превратился из действующей, живой машины в безмолвный, но тем не менее весьма красноречивый экспонат.
В Париже у Чкалова было неважное настроение. Он вообще плохо себя чувствовал вне России, вдали от Волги, тем более в тридцать шестом году, в пору, когда над Пиренеями уже занялось зарево гражданском войны, когда близился Мюнхен, когда фашисты открыто готовились к генеральному наступлению на мир…
В эти дни над летным полем Научно-испытательного института ВВС, ставшего для Чкалова уже прошлым, стремительно всходила новая яркая звезда – Анатолий Константинович Серов, будущий герой испанского неба, талантливый преемник чкаловских традиций.
* * *
Серов о Чкалове:
«Каждому полету он отдавал свое горячее, беспокойное сердце. Он понимал существо машины и чувствовал, что собой представляет самолет.
Заслуга Чкалова в том, что он испытывал самые современные машины, делая сложнейшие фигуры, которые не выполнялись за границей лучшими пилотами мира. Он воспитал новое поколение крепких и смелых пилотов…»
* * *
Чкалов рвался на Родину, хотя отлично понимал, что его присутствие на Всемирной авиационной выставке вовсе не развлечение, а весьма ответственная миссия. Он безропотно облачался в смокинг, присутствовал на деловых встречах… Но хотелось ему влезть в комбинезон и подняться вовсе не на смотровую площадку Эйфелевой башни, а в свое, настоящее синее небо Подмосковья.
В Париже, долгое время бывшем столицей авиации, в городе Луи Блерио, Анри Фармана, Губера Латама, Жо Шавеза, Адольфа Пегу, Роллана Гарро и многих других славных авиаторов, Валерий Павлович успел побывать еще раз, годом позже, возвращаясь из Соединенных Штатов.
После своего второго, краткого пребывания в столице Франции Чкалов, отчитываясь перед народом, скажет:
«Все цветы Франции, полученные нами, мы возложили на памятник французским летчикам, погибшим при исполнении служебного долга» – и это тоже очень характерно для Чкалова. Цветы погибшим коллегам не жест со стороны удачливого пилота, не снисхождение живого к мертвым, это сердечная дань уважения ко всем крылатым людям Земли.
1936 – 17.7; 26.7; 3.8; 21.8; 7.9; 11.9; 15.9; 16.9; 20,9; 28.10; 1.11; 11.11; 20.11; 8.12.
1937 – 25,4; 22–25.5; 26.8; 23.9; 24.9; 7.10; 8.10; 9.10; 15.10; 24.10.
1938 – 24.5; 2.7; 23.7; 2.8; 23.9; 24–25.9; 27.9.
Эти дни Валерий Павлович считал лучшими и самыми радостными днями своей жизни.
В эти дни товарищи его, друзья, ученики и последователи – военные и гражданские летчики СССР – превысили мировые и международные рекорды. И это только летчики и только на самолетах! А ведь был еще каскад великолепных достижений мирового и международного класса наших парашютистов и планеристов; были еще и выдающиеся, хотя и не рекордные, полеты.
Советская авиация с успехом справлялась с поставленной перед ней задачей: «летать дальше всех, летать выше всех, летать быстрее всех». Это была не простая задача – и она решалась не только ради рекордов, а прежде всего ради безопасности страны: военная угроза нарастала, фашизм наглел, и чем дальше, тем откровеннее рвался к мировому господству.
* * *
Долгое общение человека с машиной не проходит бесследно для пилота. Посмотрите, как передвигаются летчики по земле – энергично, стремительно, будто спешат на перехват противника; как они водят обыкновенные автомобили – мягко, уверенно, с особой элегантностью; как разговаривают друг с другом – непременно помогая себе руками, развернув напряженные ладони, изображая ими недостающие людям крылья…
Чкалов писал: «Мне приходилось летать на всяких самолетах: „вуазене“, „фармане“, „авро“, „ньюпоре“, „моране“ и многих других. „РД“ оказался по счету шестьдесят шестой конструкцией, на которой я летал».
Чкалов поднимал в небо истребительные машины, стремительные и верткие; он уверенно пилотировал тяжелые бомбардировщики, инертные, «тугодумные»; он не миновал, естественно, учебно-тренировочных самолетов, тихоходных и доступных в управлении каждому новичку; шестьдесят шестой тип летательного аппарата, попавшего в его руки, оказался редкостной, уникальной машиной. Каждый самолет – свой характер, свой норов, своя, если угодно, мелодия. Но решительно все машины на крыльях объединяет одна общая черта – неспособность останавливаться в полете, замирать над какой-то определенной точкой.
Аэропланный полет – это скорость, это – постоянное движение вперед. Вперед! – пока бьется моторное сердце…
Вот эту самую главную особенность всех решительно самолетов и перенял Валерий Павлович – ему не сиделось на земле: вперед, дальше, выше… Летать, летать, летать, и никаких гвоздей!
* * *
Официального разрешения на новый арктический перелет долго не было. Тем не менее «АНТ-25» исподволь готовили – поставили на машину новый двигатель, ввели кое-какие конструктивные усовершенствования, сделали доработки, заменили часть приборов и оборудования.
Экипаж – Чкалов, Байдуков, Беляков – занимался своим основным делом: летчики испытывали самолеты, штурман преподавал в академии, а «в свободное от работы время» они готовились к новому маршруту. Готовились, по выражению самого Валерия Павловича, «контрабандой».
21 мая 1937 года в районе Северного полюса под общим руководством академика Отто Юльевича Шмидта была высажена первая в истории Арктики полюсная экспедиция. Была открыта дрейфующая станция СП-1 – «Северный полюс».
И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов заступили на годичную полярную вахту…
Только теперь экипаж «АНТ-25» по-настоящему понял и оценил, чем была вызвана так беспокоившая Чкалова и его товарищей неопределенность. Дрейфующая станция в районе полюса по замыслу руководства должна была стать опорной точкой их перелета в США.
СП – что еще одна радиостанция на пути через белое безмолвие Ледовитого океана, это люди, способные прийти на помощь в случае вынужденной посадки на лед… Это пусть и не очень значительное, но все же повышение безопасности сверхдальнего перелета.
К новому маршруту экипаж готовился с особенной тщательностью.
Конечно, первый полярный перелет наградил экипаж Чкалова опытом, вселил в него уверенность, но вместе с тем самым наглядным образом подтвердил: Арктика – суровая, враждебная человеку страна, шутки с ней плохи, и лихим кавалерийским налетом полюс не одолеть.
Думаю теперь, перед новым полетом они совершенно иными глазами прочли строчки Руала Амундсена: «Человек есть человек, и в глубине души таится тревога. Увидимся ли снова? И если увидимся, то при каких обстоятельствах? Следующий раз – от нас столькое отделяет».
Амундсен перелетел через Северный полюс на дирижабле «Норвегия», Амундсен дошел до Южного полюса, Амундсен погиб в высоких широтах Арктики. Он, как никто в мире, имел право предостерегать своих отважных последователей…
* * *
В том году были опубликованы стихи Николая Заболоцкого, посвященные Георгию Седову, человеку высочайшего мужества, человеку долга и чести, трагически погибшему на пути к Северному полюсу. Были в этих стихах такие строки:
И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек, —
Отчизна воспитала нас и в тело
Живую душу вдунула на век.
И мы пойдем в урочища любые,
И, если смерть застигнет у снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.
Читал ли Чкалов эти стихи или не читал, неизвестно. А Седова чтил и материалы, связанные с его экспедицией, изучал тщательно – это известно доподлинно…
Впрочем, о возможности неудачи Валерий Павлович не распространялся, хотя, вероятно, и думал. Он был общительным человеком, но не слишком разговорчивым и переживания свои умел скрывать или прятать за броней легкой иронии.
* * *
Вечером 1 июня Чкалов перегнал «АНТ-25» из Москвы в Щелково. Начались самые напряженные дни подготовки к перелету. Летчики почти безвыездно жили на аэродроме.
«Инженеры, техники, астрономы, радисты, метеорологи, географы, врачи, портные, работники арктических зимовок помогали нам готовиться к перелету», – свидетельствует Чкалов.
Беляков и Байдуков тренировались в передаче радиосигналов по специальному коду.
Чкалов сидел над навигационными картами.
Комната, примыкавшая к той, где разместился экипаж, медленно, но верно превращалась в склад, несколько напоминавший отделение рачительного интендантства: сапоги, рукавицы, примус, походная печка, кирка, топор, ракеты, патроны, весла, аптечка странно соседствовали друг с другом.
«Запас аварийного продовольствия был уложен в резиновых мешках. Каждый мешок с едой обеспечивал питание экипажу в течение трех дней, а все десять мешков, таким образом, образовали тридцатидневный запас», – сообщает Чкалов.
Для погрузки на борт самолета было подготовлено 115 килограммов продовольствия. Забегая вперед, скажу: почти все продукты остались нетронутыми, и предприимчивые американцы, когда перелет был уже успешно завершен, настойчиво предлагали Чкалову организовать распродажу запасов, «побывавших над полюсом». Американцы уверяли, что это будет прекрасный бизнес и сулит он серьезный доход…
Кроме всего прочего, в самолет были погружены шелковая надувная палатка, спальные мешки из собачьего меха, спасательные пояса, канадские лыжи, кое-какая посуда, два охотничьих ружья, револьверы, финские ножи – словом, целая куча аварийного имущества…
На случай вынужденной посадки во льдах штаб перелета разработал детальнейший план помощи экипажу. Все самолеты и ледоколы, находившиеся в высоких широтах, получили приказ быть в полной готовности. Все полярные радиостанции перешли на круглосуточное дежурство, всем предстояло слушать передачи «АНТ-25». Днем и ночью, от взлета до посадки без перерыва…
Полет готовился чрезвычайно тщательно. Полет должен был убедительно «доказать практическую возможность сообщения по воздуху между СССР и Америкой по кратчайшему пути, – говорил Чкалов. – Мы знали, что полетим по самому трудному, небывалому в мире пути!»
Теперь, когда Арктика обжита, когда в Антарктиде постоянно работают люди, когда над Атлантическим океаном беспрерывной чередой, и днем и ночью, с интервалами, не превышающими порой десяти минут, идут и идут рейсовые пассажирские самолеты, когда нога человека ступила на поверхность Луны, трудно представить и ощутить всю значительность предстоявшего чкаловскому экипажу полета.
Но слава Юрия Гагарина, как бы велика она ни была, не умаляет заслуги Христофора Колумба: первые остаются первыми. Навсегда!
Пионеры, Разведчики человечества, его бессмертные Флагманы. Честь им, и уважение, и светлая память во веки веков.
* * *
18 июня в 01 час 06 минут по Гринвичу Чкалов вновь оторвал перегруженный «АНТ-25» от взлетной полосы Щелковского аэродрома.
Слева остался канал Москва – Волга. В этот день он еще не был сдан в эксплуатацию – по всей трассе велись доделочные работы. Но к моменту возвращения чкаловского экипажа из Америки домой канал уже действовал. Волга пришла в Москву, и событие это породило строки, которые очень нравились Валерию Павловичу:
Мы сдвигаем и горы и реки,
Время сказок пришло наяву,
И по Волге, свободной навеки,
Корабли приплывают в Москву.
Поэзия, возникавшая из действия, была вообще близка Валерию Павловичу. И это верно почувствовали его наследники. 2 июня 1970 года молодые грузинские поэты записали в книге отзывов чкаловского музея, расположенного теперь на самом берегу рукотворного Горьковского моря: «Чкалов – это поэзия! Пусть его вдохновение будет примером для нас – поэтов».
* * *
На высоте 1200 метров прошли Череповец, тот самый Череповец, в котором он мальчиком начал свое приобщение к технике, к стремительному движению своего века. Привет из далекого детства.
7 часов 30 минут. Масломер показывает 80 килограммов. Беляков поднимает тревогу: откуда-то бьет масло. Пол штурманского отсека в черных потеках.
Качают масло вручную. Уровень в расходном баке не повышается.
Возвращаться?.. Спокойно! Без паники. Пока еще угрозы нет. Проверить масломер. Слава богу, подвел прибор, а не сама масляная система. Масло выбило через дренажную трубку, сами перекачали… Ясно, можно спокойно лететь дальше…
Характерно: пока возились с насосом, пока занимались прибором, пока тревожились и гадали – как быть? – самолет продолжал лететь на север, и земля принимала радиограммы: «Все в порядке. Полет продолжается». К счастью, все действительно оказалось в порядке.
Чкалов сосет трубку, подаренную летчиком-испытателем Василием Андреевичем Степанчонком, тем самым, что несколько лет назад продолжил чкаловскую работу с авиаматкой, первым на всем белом свете осуществил подцепку истребителя к бомбардировщику в воздухе.
Внезапная тряска винта нарушает спокойное течение полета. Обледенение.
– Антиобледенитель на винт! – кричит Байдуков, пилотирующий в это время машину. И Чкалов берется за насос, качает спасительную спиртовую жидкость. Байдуков на полных оборотах двигателя лезет на высоту. 2500 метров, облачность медленно, неохотно отступает. Вырвались!..
Тринадцать часов полета остаются позади. Высота – 3 тысячи метров, внизу – белая овчина, вверху – яркое, слепящее солнце, впереди – неизвестность.
Темнеет. Высота – 4 тысячи метров. Снова облака. Температура в кабине падает, – 24°. Чертовски холодно, холодно даже в меховой одежде. И снова слепой полет, и снова обледенение – самый страшный враг всех летчиков, а полярных в особенности. Кажется, будто время останавливается, будто оно тоже замерзает.
19 часов по Гринвичу. Самолет летит в ослепительных солнечных лучах. Беляков определяется. Скоро Земля Франца-Иосифа.
Высота – 4300. Чкалов ведет машину точно по 58-му меридиану. На север.
Встречный ветер, как показывают штурманские расчеты, достигает 50 километров в час. Это немало, а для «АНТ-25», крейсерская скорость которого не превышает 165 километров в час, это даже очень много. Падает путевая скорость, горючее убывает куда быстрее, чем хотелось бы.