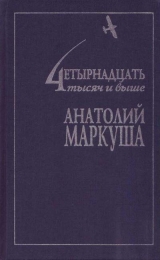
Текст книги "Умру лейтенантом"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Надо! Обязательно надо. Войну кончим, Гитлеру капут сделаем, можно будет и за меня приниматься.
– Напрасно зубоскалишь, Ефремов. Если доживешь до победы, так приблизительно и будет: ты очень опасный нарушитель. Подумай.
Завалившись под плоскость, подсунув под голову парашют, я честно старался сосредоточиться на моем прошлом, на той питательной среде и обстоятельствах, что сделали меня таким, какой я есть. И в памяти поплыли, сменяя друг друга, вот такие фрагменты.
В первый раз меня разжаловали, когда я врезал с плеча капитану Новикову, застав его роющимся в вещах погибшего Толика Волкова, моего лучшего друга.
– Мародерство – отвратительно, согласен, – говорил командир полка, – однако никто не давал тебе права на расправу.
– Поймите, товарищ майор, он же хотел Толика фотоаппарат утащить, тихарем свести…
– Понимаю и, поверь, даже сочувствую, но и ты постарайся понять: какой это будет пример остальным, если я оставлю тебя безнаказанным?!
Короче говоря, меня снизили в звании.
А я все думал: допустим, все повторилось бы, снова я увидел вороватый оскал Новикова, вздрагивавшие его пальцы в вещах Толика, когда тот, еще не похороненный, лежал в санчасти, как я повел бы себя? И не мог вообразить, чтобы иначе. Разжалование состоялось, но чего-чего, а благоразумия оно мне не прибавило.
Прошло с год времени. Вступился за девчонку. Она была старший сержант. Понятно, на нее распространялись все уставные положения. Но ведь ее начальник не мог не понимать – перед ним не подчиненный, а подчиненная… Согласен, пистолет мне вытаскивать не следовало, только чем еще я мог пугнуть этого интендантишку? Ведь что делал, изобретатель, мразь: протянул от стены к стене своей землянки веревку, толкнет на нее девчонку, подхватывает за ноги… И что та на весу, да еще раскачиваясь, сделать может?..
Меня снова разжаловали и предупредили: еще отличишься – штрафбат.
Ясно, актив у меня тоже был: вылеты, разведки, сбитые… только почему-то всегда выходило: если все идет хорошо – а как может быть иначе?! Так и должно! Стоит «отличиться», сразу – взыскать по всей строгости военного времени.
Сегодня у командира полка ведомым летал. Ведомый – кто? Не знаете! А на войне одна формула была: ведомый щит героя! Прилетаем с задания, спрашиваю, как полагалось:
– Разрешите получить замечания?
– Нормально, – скажет мой герой и пойдет. Другой раз обернется, уточнит: – Сказал же – нормально! Чего тебе еще?
Думал я думал, как комкор велел, только ничего такого особенного не нашел в себе, а время – тик-тик: конец самокритике, время мне лететь.
Заканчиваю пилотаж в зоне. Машина «Лавочкин» – зверь! Пусть тяжеловат малость, но если правильно» ее отрегулировать, так и ходит за ручкой, а как высоту берет.
И тут попался мне на глаза По-2. Сначала тень его увидал – бежит черным крестиком по земле. Пригляделся – совсем низко чешет, будто тайком хочет к аэродрому подкрасться.
Долго не рассуждая, ни о чем особо не раздумывая, опрокинул я своего зверя через крыло, чуть довернул на пикировании и по всем правилам имитирую атаку низко летящей цели.
Захватить По-2 в перекрестье прицела большого труда не составило, скорость у него была каких-нибудь сто, ну, сто двадцать километров в час. Однако простой атаки мне показалось мало: а вот если впутать его в струю «Лавочкина», вот перепугается парень. Отвернул в сторону, отстал, снизился чуть не до самых макушек редкого лесочка и проскочил я Под этим «противником», значит. Проскочил и резко полез вверх. Как его там тряхнуло, разглядывать не стал. Время мое было на исходе, поспешил на посадку.
Сел, не испытывая никаких угрызений совести, подумаешь – или повеселиться немножко нельзя?
Прошло так с четверть часа, над аэродромом прострекотал По-2, развернулся и сел рядом с командным пунктом. Кто так садится, ясно – начальство! Не отруливая в сторону, летчик поманил руководителя полетов к себе. И опять понятно – значит большое начальство прибыло. Посовещались они там, и за мной посыльный примчался.

На ковер.
Подошел, увидел Сетина. Все понял: это он летел на том По-2, летел в соседний полк. Но завернул к нам, чтобы выяснить, кто с бортовым номером «72» позволил себе бесчинствовать в воздухе?
– Ефремов?
– Так точно.
– И-или тебя сра-азу к чертовой ма-атери из корпуса выгнать, или на-а-аказать сначала? Штурмовик! На самом деле в штур-мо-о-овики захотел? Что са-ам думаешь?
– Думаю, товарищ гвардии генерал-лейтенант, для пользы службы сперва надо наказать. – Говорю, стараясь глядеть ему в глаза самым искренним образом, а самого колотит: ну, как выгонит? Может ведь, запросто.
– Пя-ять суток нормально бу-удет, Ефремов?
– Многовато, – товарищ гвардии генерал-лейтенант, нам через три дня запланировано на фронт сниматься.
– Во-о-от и поедешь без ремня, в на-аземном э-э-эшелоне… для осознания и для позора. Попомни мое слово, Ефремов, умрешь ты лейтенантом!
– Так точно, согласен: летчик должен быть молодым.
Пять суток ареста мне исправно записали.
Но на фронт я возвращался все-таки собственным ходом: резервных летчиков в полку не оказалось, а оставлять машину в тылу, такого никто не допустит.
И были еще воздушные бои, разведка, полеты на фотографирование. Несколько раз командир корпуса брал меня ведомым и, будто сговорившись с командиром полка, после каждого вылета говорил:
– Но-о-ормально.
Вот и все, что я хотел рассказать о войне.
О войне и без войны? Пожалуй. Про тараны, про факелы в небе и на земле, я думаю, рассказано и показано в кино предостаточно. Иному, кто там не был, пожалуй может даже показаться – вот жизнь была! Верно – именно жизнь, а не сплошной праздник. Вспомнил я, что вспомнилось: у каждого своя память. И еще хочу сказать: все мы, первыми поднявшиеся на реактивных «мигах», вышли оттуда, из того времени.
9
– Командир у меня, ребята, был чисто золотой и… зверь тоже! Точнее – гибрид. Именно. Пятьдесят на пятьдесят – от того и от другого… – энергично жестикулируя рассказывал бывший старший сержант Миненко своим новым приятелям. – За какой-то паршивый шплинт, видите ли, ему не понравилось, как я тому шплинту усы загнул, мог загрызть! А с другой стороны, сами судите, – шинель новую с собственного плеча скинул и мне вручил: носи! В город попрошусь – пожалуйста! Только не опаздывай! Тут не рявкнет никогда – попросит, вежливо так – пожалуйста, старик, не опаздывай только…
Старший лейтенант Ефремов его фамилия. Служба его сильно уважала, а начальство так, скорее, терпело: с понятием был человек, со своей гордостью…
Переступая порог этого последнего военного кабинета, я еще не вполне осознавал – козырять мне больше не надо, докладывать тоже не надо, достаточно поздороваться и просто назвать себя. К этому надо было еще привыкнуть: армейская жизнь – мое прошлое. Андрей Александрович Ефремов вторую неделю ходил в гвардии старших лейтенантах запаса. Вот так.
Кабинет выглядел опрятно, шкафы стояли по ранжиру, карта Союза была капитально пришита к стене. Ничего лишнего, ничего такого, что могло бы указать на привязанности, увлечения хозяина я не обнаружил. Над громадным письменным столом, покрытым тусклой зеленой бумагой, не сильно возвышался сухонький, совершенно лысый человек. Судя по его погонам – майор. Был он далеко не молод, напоминал старого мальчика – оттопыренными розовыми ушками ли, а может рыженькими кисточками бровок или припухшими яркими губами.
– Здравствуйте, – сказал я и назвался: – Ефремов.
– Ефремов? – Он выдержал долгую паузу и спросил: – И что же, Ефремов?
– Пенсионную книжку мне следует получить, послали к вам.
– Если полагается, получите. – Майор поколотился в столе, явно не испытывая ко мне никакого интереса. Я подумал: чего это он так? Но тут же сообразил: идут и идут к нему люди, всем дай выпиши, разъясни, оформи. И так каждый день, поди, наскучило, примелькалось…
– Подполковник, – умышленно повышая старого мальчика в звании и не без умысла опуская «товарищ» – а чего бы вам не предложить мне сесть? – спросил я.
– Садись, – спокойно ответил он, – садись, молодой человек.
Вероятно, «молодой» человек был в отместку за опущенного мной «товарища»: не мог же майор не заметить ранней седины на далеко не юной башке моей. Да и встретились мы как-никак по случаю оформления пенсии за выслугу…
Разыскав серую папочку, полистав в ней, так и не глядя мне в лицо, майор объявил глуховатым голосом:
– А вот выслугу лет, молодой человек, вам при увольнении исчислили ошибочно. Завысили. – Он вроде бы обрадовался, сообщая мне столь неприятное известие. – Поясняю: боевые действия Карельского фронта завершились раньше девятого мая сорок пятого года, кроме того, в сорок втором году вы находились четыре месяца в резервном полку, так что ваша правильная льготная выслуга составляет двадцать четыре года и восемь месяцев. Четырех месячишек до полной пенсии не хватает. Все понятно?
– Не все, майор. Например, чему вы радуетесь? Вам же не из своего кармана мне платить. Не полагается полной, а какая-нибудь полагается?
Он пощелкал на старых счетах и объяснил, если я не намерен опротестовывать его расчет, майор может сейчас же выписать пенсионную книжку, согласно которой я буду получать сорок процентов от последнего должностного оклада…
– В рублях сколько? – Спросил я.
– Семьдесят восемь в месяц.
– Выписывайте, – сказал я. – Опротестовывать ничего не буду, просить и жаловаться – тоже.
– А что – семьдесят восемь рублей каждый месяц, до конца жизни, – как мне показалось, сокрушенно произнес маленький военный чиновник, – не так и плохо. Вам не кажется, молодой человек, что многие могут вам позавидовать?
– Кажется! Еще как позавидуют, особенно если я протяну годов до девяноста, прикиньте на счетах, какие деньжищи набегут! И справедливо набегут. Мне знаете какая компенсация за одни разжалования причитается, будьте уверены!
– Разжалованный? – Он впервые взглянул на меня с интересом, – То-то мне сразу показалось… Да-а, дерзость не способствует, молодой человек, успешному прохождению по службе.
Тем не менее пенсионную книжку я получил.
А дальше? Очевидно, надо было думать о работе.
Переступая новый порог, на этот раз вполне гражданского кабинета, я понимал: тут меня никто не ждет, но, что было в мою пользу, – фронт, партийный стаж, не арестантская характеристика – спасибо Решетову, махнул по образцу: дело знает, к службе относится добросовестно, идеям предан…
Кабинет был маленький, светлый. На окне курчавился аспарагус.
На шкафу, набитом канцелярскими папками, топорщились традесканции. И веселые эти зеленые пятнышки сразу как-то прибавили мне надежды.
– Как квартирный вопрос? – первым делом спросил меня хозяин аспарагуса, традесканций и настенного календаря с задумчивым слоном, глянцево светившимся с обложки.
– Нет вопроса. Возвратился в родительский дом. Метров хватает, прописка еще довоенная.
– Очень хорошо! Вы летчик?
– Летчик, – подтвердил я, отчетливо ощущая: а это уже не так хорошо…
– Давайте думать. Нужен, скажем комендант общежития. Оклад не больно… девяносто четыре рубля, но у вас же пенсия, да?
Комендант? Я? Странно… И что делают коменданты, если судить по Ильфу и Петрову… Не дождавшись никакого ответа, хозяин кабинета предложил:
– А могу предложить заведовать хозяйством Монтажспецприборстроя, оклад сто десять… Как?
– Не пойдет, – сказал я.
– А что, приблизительно, вы бы сами желали?
– Пошел бы на авиационный завод, сборщиком или в ОТК. Нет авиационного завода у вас, не возражаю состоять при машинах – автомобилях, каких-нибудь еще.
– Увы. На сегодняшний день ничего такого нет. – Мой собеседник развел руками. – Заходите через недельку. С голоду, как я понимаю, не умрете: пенсия, выходное пособие тоже получили.
Странно, очень странно, почему моя законная пенсия им вроде поперек горла?
Мы расстались – никак: без вражды и без приязни. Мне вспомнились ленивые глаза хозяина аспарагуса, традесканций, слона, и хотелось понять, почему он такой – трын-трава ему все на свете, ноль эмоций… Кто их таких сажает в кабинеты, куда люди приходят как-никак за своей судьбой?
В конце концов я попал в кабинет директора большого автомобильного хозяйства. Директор выглядел моложаво, был он строен, плечист, казалось, перетянут тугими ремнями, хотя ходил в самом обычном, вполне штатском пиджаке. Но я не ошибся: мой будущий начальник оказался из кадровых офицеров, в недалеком прошлом комбат, о чем он мне сам сообщил не без некоторой рисовки. Поглядев в мои бумаги, директор спросил:
– Вот тут написано: старший лейтенант. Понимаю. А дальше – «офицер наведения и управления при штабе полка тире летчик», – этого не понимаю. Если на общеармейские категории перевести, что получится?
– Побольше ротного получится и чуть поменьше батальонного, я думаю. Но это приблизительно. А точно – не знаю, – сказал я.
– Уяснил. – И, переходя, на ты: – Мне нужен толковый начальник колонны. Сто пятьдесят машин. Двести двадцать водителей. Как полагаешь, потянешь?
– Нет, – сказал я. И не дожидаясь его вопроса «почему» объяснил сам: – Воровать не умею.
Директор вполне дружелюбно засмеялся и пообещал научить. Но я спросил, может, он меня слесарем возьмет, на ремонт?
– Грязная работа, – сказал директор, – ты не представляешь, наверное… – Но взял. И полгода я не знал никакого горя.
Что такое автомобильный мотор? Тот же самолетный: поменьше, ясное дело, грубее исполнен, но принцип – один! И механика – родственная. Без особого труда и натуги я втянулся в работу ремонтного цеха. Постепенно начал сходиться с людьми, привыкать к порядкам, которые после долгих лет службы в армии казались скорее беспорядками. Так или иначе я все же обретал равновесие, жизнь получала новый смысл. Снимаю головку блока, вытаскиваю поршни, заменяю сносившиеся кольца… время, отведенное на эту операцию, известно, расценка – тоже. Очень скоро, что-нибудь через месяц, я понял: ремонтировать водяную помпу – работа выгодная, а вот переклепывать тормозные колодки – нет. И еще понял: есть контакт с водителем, он запишет в заявку на ремонт парочку липовых позиций, и день закончится не меньше, чем десяткой. Все просто. Все вроде пошло и могло бы, я думаю, идти еще лучше, но… вечная моя, персональная невезуха!
Вызывают вдруг в партком. Говорят у тебя – стаж, у тебя – армейская выучка, у тебя, спрашивают, совесть есть? И не успев опомниться, узнаю: Ефремов Андрей Александрович рекомендован на должность мастера технического обслуживания.
Но это была еще не катастрофа. В ближайшую неделю ничего худого не случилось. Но в день зарплаты, закончив, так сказать, труды праведные, я снял халат и, натянув пиджак, весь день провисевший в конторке, обнаружил в кармане деньги – смятые трешники и пятерки. Происхождение этого капитала было более или менее ясно, сложнее оказалось другое: очевидно мне предназначалась часть суммы… какая? Кому-то следовало вручить остальную долю…
Наверное, я поступил не лучшим образом, но другого не придумал. Пошел в партком, выложил все обнаруженные в кармане купюры на стол секретарю и попросил его распорядиться деньгами, как он найдет нужным, как вообще на базе принято…
С моей стороны было бы сверхсамонадеянностью говорить, будто я всегда знал, как надо жить, но вот как не надо, об этом, мне кажется, я всегда имел твердые представления. В их число входило: принимать незаработанные деньги в виде подарка, взятки, премии, словом, под любой вывеской – неприемлемо. Исключено для меня. Мне пытались объяснить: у мастеров несправедливо низкий оклад. Рабочие это понимают и по собственной инициативе пытаются как-то компенсировать, ничего, мол, оскорбительного тут нет. Но и понимал: приму эти «компенсационные рублики» и после этого уже не смогу отказаться, когда придут закрывать ко мне липовый наряд, когда предложат обойти расценку… Словом, от денег я отказался. И услыхал:
– Тебе можно в благородство играть: пенсию гребешь!
Господи, мастер, ведавший всеми сварочными работами в нашем хозяйстве, произнес эти слова точно с таким же выражением недоброго злорадства, как и майор, что вручил за месяц до этого пенсионную книжку.
Бороться? Но с кем и против кого? Приспособиться, махнуть на все рукой? Уходить пока еще не поздно. Куда? А не важно… Прежде всего уйти, а там погляжу, что делать.
Но я не успел еще подать заявление об уходе, как меня вызвали в райком. Совершенно не понимая, не догадываясь для чего я понадобился, кому, пошел. Явился в назначенный час, там – толпа. Какие-то списки вывешены, слышу шепчутся люди. Не сразу, но все-таки понял: идет мобилизация добровольцев на целину. Требуются специалисты. Потом в печати будет красочно изображен «патриотический порыв миллионов…»
А пока поминутно открываются двери, из дверей вылетают несостоявшиеся спецы и на разные голоса сообщают: выговор! Велели подумать денек!.. Предупреждение… Выговор… выговор… выговор…
На целину меня, понятно, не тянуло. С чего бы? Я вырос на городском асфальте, не умею овес отличить от ржи… Вот и сижу, соображаю, как же себя вести там, за дверью? Ничего еще толкового не придумал, когда слышу:
– Ефремов А. А., пожалуйста.
Вхожу. Стол под сукном. За столом человек восемь. У всех лица усталые, бледные. И что удивительно: члены комиссии похожи друг на друга, как родные братья. Все в одинаковых костюмах к тому же, в непременных белых рубашках и похожих галстуках. Очевидно старший – он сидит во главе стола – спрашивает:
– Вы в курсе, товарищ Ефремов, по какому вопросу мы вас пригласили.
– Догадываюсь.
– Вот и хорошо, и как же – согласны на целине поработать?
– С радостью, – говорю я, – с превеликой радостью! Не скрывая удивления, члены комиссии переглядываются между собой. Очевидно, желающих до меня было немного. Кто-то спрашивает:
– В каком качестве вы бы хотели туда отправиться?
– Командиром звена могу, могу и штурманом отряда. Удивление возрастает. Товарищи не возьмут в толк, о каком звене и отряде я толкую. Поясняю: я – летчик. Старший лейтенант в запасе. На целине непременно развернет свою работу сельскохозяйственная авиация, стало быть и командиры звеньев и штурманы потребуются. Выше – не прошусь. Выше – мне противопоказано.
– Мы кадрами механизаторов занимаемся, – как бы извиняясь, замечает председательствующий, – до инженеров МТС включительно.
– Но с автомобилями я имею дело всего шесть месяцев, товарищи, а трактора близко в жизни не видел. Посудите сами, какой из меня сельский специалист? Прикажете, понятно, я подчинюсь, поеду, но ведь года не пройдет, как спросят: что, извините, за дураки прислали нам такого механика? – Тут я показываю пальцем на себя, – так что давайте серьезно подойдем, товарищи – командиром звена, штурманом – с удовольствием и с гарантией!
– Это вам надо через управление кадров Министерства гражданской авиации действовать. Мы поддержим… На этом – все. Благодарю. Раскланиваюсь. Расстаемся, кажется, к взаимному удовольствию.
Было уже поздно. Возвращался домой под звездами. Думал: летал и все было понятно – от моего взаимопонимания с машиной, от нашей если угодно, приязни, в конечном счете только и зависело, хорошо или не очень хорошо живется. Немножко везенья, понятно, требовалось, какая-то доля удачи. А от окружения всегда можно оторваться и уйти на высоту. Пусть не навсегда, хоть на время, а там за облаками никакого политеса, была бы техника пилотирования на уровне и голова на плечах…
Как жить, – спрашивал я себя, – теперь вот как? Мне было неуютно на земле, пожалуй, и боязно даже, не доставало уверенности в себе. Все пытался представить, сообразить, к чему бы прислониться? По непонятной ассоциации вспоминаю о Чкалове. Самый популярный, самый знаменитый летчик довоенной поры приехал к нам в аэроклуб. Он был в ту пору живой легендой. О его полетах, о его выходках на земле рассказывали совершенно невероятные истории. Не стану врать, будто я помню его речь слово в слово, но вот что прочно осело в памяти – основательность каждого его жеста и всего облика Чкалова. Неторопливая речь его, проникавшая в душу, вселяла уверенность: раз надо – смогу. Вот бы с кем посоветоваться.
Но его нет в живых. И сегодня я много старше, чем был Чкалов в свой последний морозный день на земле, когда переохлажденный двигатель не развил оборотов, и машина, потеряв скорость, рухнула на окоченевшую землю.
И вообще, жить надо своим умом.
Только всегда ли это возможно – «по уму», по толковому расчету, чтобы все получалось взвешенно и сбалансированно. Человек тем и отличается от машины, что ему свойственно увлекаться, переживать, чувствовать, творить несуразное.
Пока добирался из райкома до дому, решил: поеду в Горький, точнее – в Василево, на родину Валерия Павловича Чкалова. Для чего?
Ни для чего определенного, не буду прикручивать сюда миф об Антее или что-нибудь еще в таком духе. Еду, потому что еду.







