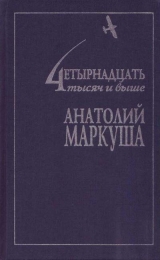
Текст книги "Умру лейтенантом"
Автор книги: Анатолий Маркуша
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Ну, везуха вам ребята. Поздравляю. А мы тут спорили: посадят вас или не посадят?.. Хоть я и проиграл пари, все равно поздравляю!
Мы вышли из укрытия, сдав машины механикам, и переглянулись.
– Ось шоб мине повылазило, коли вин не нагадил. – Без возмущении, с каким-то даже любопытством сказал командир эскадрильи. И стал гадать, чего нам теперь ждать?
И Щусев тоже как-то странно обрадовался нашему прибытию под знамя родной части.
– Значит, за кормой чисто? – переходя на несвойственный ему морской лексикон, поинтересовался Павел Васильевич. – А мы тут думали, думали, как же оно будет квалифицировано… диспозиция, прямо сказать, чреватая, и не угадаешь…
– Какую характеристику писать… – выпустил когти Батя.
– И как персональное дело оформлять, – не выдержал я.
– Ну, что вы, что вы, товарищи! Кто же вам зла желает?! Не совестно так думать? Ефремов у нас конфликтующий, допустим, он еще может так, а ты, Гесь, на кого тебе обижаться? Квартиру дали, когда санаторий дочке потребовался, поддержали… – Он говорил еще долго. И все вроде правильно по словам получалось, только как-то зыбко звучала его речь.
Батя, знавший про меня все, сказал, отворачивая лицо в сторону:
– Слушай, можешь как-нибудь стороной навести… у своей разведать?..
– Нет, – сказал я. – Для чего разведка? Что нам может быть, Батя? В чем мы, собственно, виноваты?
– Предлагаешь плюнуть?
– Обязательно плюнуть…
И тут Батю осенило. Ни с того ни с сего он начал смеяться, хохотать, заходиться. Я даже оторопел слегка: сроду за ним такого не наблюдалось.
– Слухай сюда! Знаю – ци мастера задержали документы…
– Чего? Какие документы? – Не мог сообразить я.
– Так аттестационный период же иде! Так нам обратно очередное звание нэ обломится…
Как всегда, мудрый наш Батя оказался прав.
7
– Удивляюсь тебе, Полина! Неужели ты ей можешь хоть на грош верить? Подумаешь, жалуется: «ее» не растет! И что? Мой вон как растет, на подполковника представление послали, а толку? Пьет больше, дома бывает меньше…
– Все-таки мне ее жалко.
– Да завидует она нам. А скорее – тебе пыль в глаза пускает. Камуфляж наводит.
– Почему пыль? Какой камуфляж?
– Она же с твоего Тюрина глаз не спускает. Давеча в клубе только что наизнанку не вывернулась, во – старалась! Смех и грех.
– А он?
– Так мужик же! Все они по одной колодке затянуты, им только намекни, дай понять…
Задание было странным, никогда о таком и не слышал раньше: отстрелять весь боекомплект одним нажатием на гашетку при максимальной скорости полета. Надежность оружия, которую, вероятно, требовалось проверить, мало связана со скоростью его перемещения в воздухе, но… тем, кто нас «озадачил» или было виднее – так принято считать – или надо было реагировать на серьезный сигнал…
Вот и поступила команда: смоделировать, проверить, доложить! Даром что ли наш полк именовался не только учебно-тренировочным, но еще и методическо-испытательным. Проверяли мы однажды – а могут ли стреляные гильзы залететь в… воздухозаборник двигателя? Отвечать на подобный вопрос, примерно, то же самое, что выяснять возможность – а не выйдет ли у вас приподнять себя за волосы? Но летали, пробовали и так и сяк, прежде чем написали заключение: гильзы в воздухозаборник не залетают. Сколькопри этом горючего сожгли, сколько перевели зря боеприпасов, сказать не берусь. Одно слово – много.
Конечно, тогда подполковник Решетов озаботился оформить отчет в наилучшем виде. Альбомчик получился не хуже дембельского – с фотографиями, бантиками и виньетками в стиле ампир. Закачаться. Мне, помню, подумалось: вот получит высокий начальник этакое кондитерское творение, такой писк воинствующей мещанской изысканности, неужели не потребует: «А ну-ка, подать сюда автора!» Нет, не потребовал. И странно ведь – почему верхние люди, образованные и умные (как иначе пробиться на высоту?) не только терпят, но большей частью поощряют откровенные проявления подхалимства, самого примитивного заискивания? Впрочем, я отвлекаюсь. Извините.
Задание получили, а выполнить его никак не удавалось. Жара в ту пору стояла африканская, воздух как бы разжижился и двигатели не развивали максимальной тяги и самолеты не выходили на предельную скорость. Все это соответствовало науке. Кто тут виноват? Стихия!
А время не стояло на месте. В штаб поступила уже третья или четвертая телеграмма: доложить причины невыполнения…
Невыполнение – всегда плохо. А если этим невыполнением интересуется лично командующий, да не раз и не два, это уже опасно!
Батя, как говорится, сошел с лица в ожидании, что же будет? Вообще-то он не из разговорчивых, но тут его прорвало:
– Та шоб им повылазило – почему, почему?.. Хиба я можу температуру снизить, альбо тягу прибавить? – И стукнул кулаком, – Шо улыбаешься, шо зубы кажешь. Коккинаки!..
– Можно попробовать ранним утречком, – сказал я, жалея Батю, – до солнышка, на первой зорьке, и… пройти пониже.
Батя тут же насторожился. Он все понял. На рассвете, пока не наступит зной, да еще в приземном слое воздуха есть может и небольшой, но все же шанс набрать те пятнадцать – двадцать километров скорости, которые не получалось выжать в жару.
Но в авиации, как, впрочем, и в любой другой области жизни, шагу не шагнуть без «но», без «с одной стороны… с другой стороны». Развивать максимальную скорость на минимальной высоте не полагалось. Во всяком случае ни одного разрешающего параграфа на сей счет ни в одном документе найти было невозможно.
– Скильки? – Спросил Батя.
Он интересовался наименьшей высотой, до которой по моим соображениям предстояло снижаться, чтобы выйти на максимальную скорость.
– В принципе, если знать утреннюю температуру воздуха, учтя превышение полигона над уровнем моря, это можно рассчитать совершенно точно, – сказал я, – а если ориентировочно, на глаз прикинуть, думаю, ниже ста метров сползать не придется.
– Колы ты кажешь – сто, я понимаю – пятьдесят метров… Никто не позволит.
– Но пришли еще одна телеграмма.
О чем Батя говорил с командиром полка, какие доводы ему приводил, что за указания получил в штабе – ничего этого я не знаю.
– Под мою личную ответственностью! – сказал он мне, поглядел чертом и еще сказал: – полетишь. Но пре-ду-преждаю, колы по першей команде, першему слову моему, не перейдешь в набор высоты, понял, забудь як мене кликать!
Из сказанного я сделал вывод: руководить полетом будет Батя. Ему поручено находиться на полигонной рации и… в случае чего принять удар на себя. С этим – ясно. Мое дело выжать тысячу сорок километров в час, нажать на гашетку и высадить одним духом весь боекомплект в белый свет, как в копеечку. Куда проще! Как говорят, – дурное дело не хитрое?
На самолетную стоянку я приехал затемно. Расчехленная, заправленная, заряженная, с выложенным на плоскость парашютом, машина ждала меня.
Прежде, чем выслушать механика, погладил холодный фюзеляж ладонью и мысленно спросил: «Ну что – сделаем мы тысячу сорок?»
Миненко несуетливо докладывал: все готово – заправлено, заряжено… Справился: буду я взлетать по-темному или «лишь край небес подернется каленою каймой…» – запел он так внезапно и неожиданно, что я рассмеялся и вспомнил продолжение песни: «слетать бы мне, буденновцу, до Дону, домой».
Впрочем, дуэт не состоялся, я ответил:
– Как горизонт прочертится, так будем запускать и я вырулю.
Раньше, в стародавние времена все учебно-тренировочные полеты старались начинать как можно раньше, едва рассветет. Почему? Утренний воздух самый спокойный, машину не болтает, не треплет, и крылышки вроде лучше держат. А глядеть по утрам на землю с высоты – красотища страшнейшей силы: росой покрытая зелень – зеленее, красная черепица на влажных крышах – краснее, чернота асфальтовых дорог – чернее и глубже, реки, отражающие свежую голубизну неба, блестят, словно они из зеркал сотворены.
Над полигоном я появился раньше солнца. Сумерки только-только рассеялись, видимость была неограниченной, как в авиации говорят – миллион на миллион.
Первым делом запросил разрешения на пролет.
– Пролет и снижение разрешаю. – Голос у Бати был какой-то сырой, вроде осипший. – Аккуратно давай.
Ставлю кран уборки шасси на подъем, кран щитков – тоже. Это чтобы воздушным потоком ни на малость ничего не отсосало, не испортило разгона. По инструкции действую? По здравому расчету. Опускаю слегка нос машины и начинаю разгон.
– Высота? Хорошо – четыреста. Ручка давит в ладонь. Снимаю давление триммером. Вот, другое дело. А высота? Двести. Та-ак! Скорость? Тысяча десять…
В первом проходе я только примеривался. И то, что максимальную скорость не выгнал, не страшно. Зато я определил – откуда начинать снижение, какой выдерживать угол, убедился – снаряды при таком заходе за пределы полигона не уйдут. Словом, понял: задача решается.
Небо на востоке высветлилось и окрасилось в золотистый тон. Вот-вот должно было появиться солнышко. «Поспешай, парень», – сказал я себе и включил тумблер «оружие».
Когда хочешь пить, вливаешь в себя стакан воды, ну два стакана и – порядок. А вот сколько ни летай, все равно не хватает, полетами, ей богу, «напиться» просто невозможно.
На втором заходе стрелять не разрешила земля. У них возникло подозрение, будто по полигону движется посторонний объект. Что за объект, рассмотреть не удалось, но рисковать не стали. Дали ракету. Я видел, как лопнул и рассыпался в небе красный шарик запретительного сигнала… Такой заход пропал, пальчики, клянусь, пальчики оближешь – и скорость была уж тысяча двадцать, и высота с запасом… Надо же.
Потянул ручку на себя, ушел на высоту, раскланялся с солнцем – здесь оно уже отлично проглядывалось. Горючее? Нормально. Высота? Порядок. Опускай нос… хорошо. Начал третий разгон.
Высота? Четыреста. Та-ак… Скорость? Есть, есть скорость. На, командую себе: «Огонь!» Машину слегка залихорадило, я отчетливо ощутил легкое торможение, а больше ничего не произошло: стволы не загнулись и не расплавились, боекомплект вылетел без задержки. Подумал: все, отмучились. Я имел в виду не столько себя, сколько нас. Полк. Ведь задание не давало спокойно жить никому.
Перед самым обедом позвонил командующий. Его интересовало, что у нас творится в районе полигона? И не дав командиру полка слова вымолвить, объявил: в районе полигона обстреляна с воздуха группа охотников…
Интонация сообщения была, понятно, соответствующая, Выводы, как нетрудно предположить, следовало ожидать тоже не комплиментарные.
Кто мог себе позволить охотиться в запретной зоне, к тому же не в сезон? Браконьеры? Скорее – начальство, и едва ли районное – поднимай выше!
Легко ли услышать – обстреляна группа охотников?! Что стоит, что может стоять за этим сообщением? Есть убитые? Раненые? Вдруг есть, что тогда?

Победителей не судят, говорится. Это на войне не судили, хотя и так случалось: еще как судили. А в мирное время… И сразу представилось: никто не пострадал, но мог пострадать… Снаряды сами не взрываются… их выстреливают сначала и делает это кто-то. Кто? Летчик. В данном конкретном случае в воздухе находился один самолет, один летчик – гвардии старший лейтенант Ефремов. Он – виновник.
Командующему не возражают Как ему объяснить – вы же сами требовали доложить причины невыполнения стрельб и в последней телеграмме пригрозили строго взыскать с виновных. Мы старались выполнить ваш приказ, а теперь, выходит, виноваты…
На этот раз Решетов, кажется, от души пожалел меня:
– Не повезло, так не повезло: кого пугнул! С ума сойти – кого! Молись, хоть не задел… – Очевидно, он знал, кто находился на полигоне, кто пожаловался, какими каналами прошла информация.
– А ведь сезон охоты не открыт, – осторожно заметил я, – и полигон – запретная зона и заявка была подана своевременно.
– Потому и обидно! – Согласился начальник штаба. – Все правильно, а отвечать надо. Диалектика – происшествий без виновников быть не может.
Для чего-то, паи икнув, я сунулся к замполиту, хотя и не ждал от Щусева какой-нибудь серьезной поддержки, все-таки полез:
– Без вины виноватым оказался, что посоветуете делать? – Спросил я подполковника.
– Пока что пишите рапорт…
Очевидно, это мой серьезный недостаток – не умею ставить себя на место другого. Стараюсь, хочу, а не выходит. Ведь если хорошенько подумать: чего я собственно хотел от Щусева? Чтобы подполковник ринулся к командующему, к члену военного совета и стал им объяснять, какое я золото? Сколь несправедливо обвинять летчика, точно выполнившего задание, в том, что какие-то тузы, сами нарушив все правила и даже законы, подставились под огонь? Положим, такой шаг, близкий к проявлению истинного геройства, и мог что-то поправить, а сам я как – ринулся бы в подобную авантюру? Сумел бы довести «схватку» до победного конца?
Требовать геройства от кого-то – легко, самому решаться на подвиг, куда как не просто.
Наверняка, Щусев не из сплошных недостатков слеплен. Скорее я – урод: просто не желаю замечать в человеке ничего доброго. Вроде стыжусь и опасаюсь обнаружить что-то хорошее в моей постоянном оппоненте, чтобы не разрушить такую удобную схему: Батя – хороший, Щусев – плохой; Р. – великолепная, Решетов – так себе. Парень, парень, можно ли весь мир выстроить в две шеренги, и чтобы одна – налево, а другая – направо равняйсь!
Думалось запутаннее и длиннее. Это теперь я вроде конспективно записываю тогдашние мысли. Вспомнились мне все обиды – заслуженные и незаслуженные, все взыскания, недополученные звездочки.
В конце концов спросил себя: почему я должен терпеть? Слава богу, не война, в армии я наслужился, так не пора ли сказать: хватит!
Да – нет. Ноль – единица. Великая штука – двоичный счет! Только как же трудно уложить себя в эту предельную определенность: да – нет, ноль – единица?
Щусев сказал: пишите рапорт. Что он имел в виду, я понятия не имел, возможно считал, что я должен подробно объяснить, как дело было, показать – моей вины в случившемся нет, но я придал его словам иной смысл. Рапорт написать? Советует? И напишу, обязательно, непременно напишу!..
И написал: «Прошу уволить меня в запас. Полагаю, армии я свое отдал, надеюсь в гражданской жизни быть более полезным своей любимой Родине».
Поглядывая на две с половиной ровненькие строчки, любуясь и написанным собой, я думал: все правильно – коротко, с достоинством. Родина – с большой буквы написал. Пусть попробуют придраться! Нет, я даже себе не признавался, меня ведь заботило, а станут отговаривать, предложат повременить, еще раз подумать или вздохнут с облегчением?
Первым рапорт должен был подписать командир эскадрильи – непосредственный начальник.
– Сдурел? – Спросил Батя. – Кому ты на гражданке нужен?
Но когда я размахался руками, доказывая, что больше терпеть не могу, не хочу, не желаю… Он молча взял ручку, пожал плечами и скромненько начертал на рапорте: «Не возражаю».
– Вольному воля.
В тот же день бумага пошла по инстанциям. Командир полка вызвал, велел сесть. Поглядел в лицо и спросил, по своему обыкновению, спокойно:
– Подумал хорошо?
– Так точно, хорошо.
– Может, еще подумаешь?
– Для чего?
– Обиделся, значит? А на кого?
– Какое это может иметь значение? Я ведь рапорт написал, а не жалобу. Прошу об одном – увольте.
– Спасибо за разъяснение, а то я не совсем понял, чего ты просишь. Значит окончательно и бесповоротно: позвольте нам выйти вон? Не одобряю, Ефремов. Летчик ты – нормальный, а амбиции и заносы у тебя – ни в какие ворота. Рапорт полежит пока у меня. А тебе предоставляю такую возможность, – тут он помолчал, поиграл пальцами и стал объяснять, что за возможность собирается мне предоставить.
В гарнизоне, узнал я, ожидается наивысочайший гость. Командир полка дает мне возможность отпилотировать перед гостем. Всякие ограничения снимает: комплекс фигур сам могу определить, высоту тоже. Короче говоря, он давал мне четыре минуты свободы над летным полем и возможность доказать: авиация – это красота и сила!
После полета мне было обещано представление гостю, что давало, как я понял, шанс вытащить «счастливый билетик».
Наверное, лишь очень наивные люди могут рассчитывать на поправку своих пошатнувшихся дел – денежных, служебных, любовных, вообще, – любых – с помощью лотереи. Но искушение вытянуть счастливый билетик велико. Преодолеть его трудно. К тому же свободный пилотаж над аэродромом – как можно отказаться от такого?! День пришел. Мне было отдано на четыре минуты небо и разрешено, даже предписано показать, что я могу.
Снизился я вне видимости с аэродрома, за лесом и над полосой промчался прежде, чем кто-нибудь мог услыхать летит! Знал: это производит неотразимое впечатление – бесшумно несущийся «миг» едва не цепляющий фюзеляжем за бетон. Точно на траверзе сооруженной накануне гостевой трибуны я поставил машину в зенит и, оборачивая ее восходящими бочками – одной, другой, третьей, – полез вверх. Знал: вот когда только обвальный грохот двигателя обрушится на летное поле и это непременно подействует.
Отвесно валясь к земле, я выжидал мгновения, чтобы потянуть машину из пикирования, потянуть расчетливо – с консолей должны слететь спутные струи, рожденные перегрузкой, а «миг» вроде неохотно, словно бы делая мне персональное одолжение, станет выходить в горизонтальный полет и выравняется окончательно над самым-самым бетоном.
Секундная пауза, чтобы наблюдающие осознали, как мало высоты осталось в запасе, и сразу – вверх!
Четыре минуты – много это или мало?
Поверьте на слово, если работать на пределе возможного – вечность! Так и поймите меня: пилотировал я долго и беспощадно.
Не стану кривить душой, да, я очень хотел в этот день выиграть свой, может быть, главный приз. И не верил… Нет-нет, в себе я не сомневался. Мой пилотаж должен был заслужить признание. Другое дело – лотерея, в нее я не верил. Жульничество сплошное – все на свете лотереи.
С этим и приземлился.
По рации мне приказали подрулить к гостевой трибуне.
Вылезая из кабины, я постарался разглядеть высочайшего гостя. К удивлению своему обнаружил рядом с ним пресимпатичнейшую, совсем молоденькую особу женского пола. Дальше все происходило так:
– Товарищ маршал, гвардии старший лейтенант Ефремов…
– Он остановил меня, не дав закончить рапорт, очень мягко, по-домашнему совсем сказал:
– Благодарю, милый. Молодец. Только смотреть страшно.
– Служу Советскому Союзу, – пробормотал я уже в объятиях высочайшего гостя. Как только он высвободил меня, я отстегнул нагрудный знак военного летчика первого класса и спросил (надо же было компенсировать его домашне прозвучавшие слова и объятия): – Разрешите, товарищ маршал, вручить этот маленький сувенир вашей ослепительной дочке?!
– Валяй, вручай. – Каким-то совершенно другим голосом сказал гость. И я понял – всякий интерес ко мне у этого человека пропал.
Ослепительная блондинка, как я узнал потом, была последней женой женолюбивого маршала. Поди – угадай! Раз в жизни попытался сделать «ход конем» и тут же вляпался. Так, впрочем, и надо – не берись за то, к чему не способен.
Рапорт пошел наверх и спустился вниз. Просьба была уважена: «Уволить в запас с льготной выслугой двадцать пять лет и восемь месяцев». Так мне разъяснил кадровик. Добавив от себя:
– С тебя причитается.
Радоваться или горевать, откровенно говоря, я уже и не знал.
8
Эту книгу Ефремов читал уже не первый раз и, как всегда, ожидал одной страницы и там одного абзаца: «Майор Ковальчи всю войну прослужил в авиации ПВО и так случилось, что боевых вылетов ему довелось выполнить только восемнадцать. Впрочем, это не помешало летчику уничтожить четырнадцать самолетов противника».
Прочитав эти строчки, Ефремов возмущенно ругался.
Только восемнадцать вылетов! Только! Идиоты безмозглые, писаки, – мысленно обращался Ефремов к автору, – Попробовали бы один вылет сделать. Только!.. А сбил сколько? Понимать надо – штучная же работа. А этот гад снисходит – впрочем!
Ковальчи, по справедливости если, – памятник бы поставить надо.
Сначала у меня была мысль поставить эту историю в самое-самое начало книги. Но подумал: мало кто сегодня интересуется нашей последней большой войной. Для молодых и вовсе, что древние походы, что Курская дуга – вроде антиквариата. Поэтому и припрятал, перенес историю, что сейчас расскажу, сюда – вглубь.
Шла война.
В городе мы оказались законно – отпросились у командира эскадрильи и были отпущены до восемнадцати ноль-ноль. А что задержались, так это уж чистая случайность.
Большой, раньше очень зеленый, красивый город выглядел ужасно – развороченные дома, те, что уцелели, – без стекол, с ослепшими окнами, в обитаемых – фасады в броне жестяных труб от печек-времянок, не дома – гигантские органы… И надо всем – неистребимый запах пепелища. Сколько лет прошло, а запах этот не могу забыть.
По щербатой мостовой, хрустя битым стеклом, шагала длиннейшая колонна пленных. Их было с тысячу, может и больше, а сопровождающих – рассредоточенный по бокам шествия взвод, да человек пять в раздолбанной полуторке катили позади строя. На помятой крыше машины стоял пулемет – старик «Максим». Пулемет выглядел совершенно символическим.
Мы с любопытством разглядывали пленных – летчикам не часто случалось увидеть противника в лицо, так сказать, крупным планом. Поймал себя на мысли: никакой ненависти эти шагающие в серой колонне люди, уставшие и равнодушные, у меня не вызывают. Смутился даже, поглядел украдкой на ребят – и на их лицах читалось откровенное недоумение.
Вдруг, откуда ни возьмись, к пленным ринулись плохо одетые, бледные женщины. Это случилось так неожиданно, что сопровождающие колонну солдаты даже не успели окликнуть нарушительниц. А бабы, ругая Гитлера, грозя всем Фрицам вообще, торопливо совали пленным хлеб, картошку, какую-то еще еду, хотя еды в городе было очень-очень мало.
Странная то была сцена и тягостная.
Мы побывали на бывшем базаре, где вареную картошку продавали штуками, сахарный песок – чайными ложками, папиросами торговали в россыпь. Про цену и не говорю – астрономия! Посидели в холодном, заплеванном кинотеатре, смотрели фильм (какой – не помню совершенно), а вот ощущения сопричастности к киножурналам с фронтовой хроникой – не забываю…
Потом мы почему-то оказались в грузинском госпитале. Весь персонал, все оборудование было укомплектовано в Грузии, в действующую армию госпиталь направлялся как подарок республики, да случайно застрял здесь на половине пути.
Мы пытались отыскать Лешку Краснова, он находился на излечении где-то тут, рядышком, но у грузин не обнаружился, а мы вот задержались здесь…
Нет-нет, Додо, никто и никогда не принудит меня делиться подробностями того затянувшегося до глубокой ночи вечера. С твоего разрешения, только два слова? Будем их считать чем-то вроде тоста. За грузинское гостеприимство, за душевную щедрость твоих, соотечественников, за мгновенья любви, что, уверен, не забыты нами и сегодня, через много лет. Эта встреча одарила нас ощущением полноты и неистребимости жизни. Спасибо! И к черту моралистов.
Обо всем пережитом в городе, я думал на ночной дороге. Дорога та была будто в страшном сне: колдобина на колдобине, грязь, жирная вода в колеях, и – адская темень: луна только изредка выползала из-за низких, аспидных облаков. Выглянет, и надолго исчезнет.
Мы шагали в расположение части. До гарнизона оставалось километров пять-шесть еще. И надо было успеть выспаться: с утра планировались полеты.
При очередном лунном посветлении, открывшем несравненной мерзости пейзаж, Остапенко вдруг замер на месте, театрально хлопнул себя ладонью по лбу и объявил:
– Идея, гусары! Столбы видите? – Действительно, на обочине валялись беспорядочно сваленные и, как ни странно, не растащенные на дрова телеграфные столбы. – Кладемна проезжую часть. А? Клеточкой кладем, гусары. И тогда никакой сволочной «студер» уже не проскочит мимо, не обдаст нас грязью и презрением! Ну? Богатейшая мысль!
Мысль была грандиозная. И не прошло пяти минут, как столбы были перемещены на дорогу. Соорудив завал, мы уселись в сторонке, закурили и стали ждать. Ах, и душистый табачок подарили нам грузинки, дай им бог здоровья.
– Интересно, а что подумает водитель, когда упрется в этот дот, – спросил, ни к кому персонально не обращаясь, Меликян. – Во, небось, глаза вылупит!»
– Очень ты любопытный, Мелик, – сказал Остапенко, – какая разница, что он подумает, ты лучше посчитай, сколько времени до подъема у нас остается и какой бенц устроит комеска, когда засечет наше прибытие?
Скорый на ответ Мелик на этот раз ничего сказать не успел. Над дорогой, правда, еще далековато задергались два тусклых световых пятнышка. Кто-то ехал с притемненными фарами. Мы затаились.
Прошло минут около трех, штабной «виллис» качнулся на рессорах и встал. Хлопнули дверки.
Мы оценили обстановку – деваться «виллису» категорически некуда. Можно было не спешить. Стоило оттянуться метров на сто назад, в направлении города, там выползти на дорогу и двинуться курсом на гарнизон. Кто сможет нас тогда в чем-нибудь заподозрить?
Так и сделали. Шагов за десять до «виллиса» услыхали:
– Эй, что за народ?
– Авиация на пешем марше. – Отозвались мы. В коротком свете включенных фар увидели: окликал нас генерал-лейтенант, большой, впечатляющий мужчина, грудь в броне тяжелых боевых орденов. Фуражка авиационная – с крабом и крылышками.
– Истребители? – Спросил генерал.
– Штурмовики, – на всякий случай сбрехнул Остапенко, резонно полагая, начальству полезнее про нас не знать или знать меньше, чем больше.
– Помогите освободить проезд, ребята, – миролюбиво попросил генерал. – Какая-то собака нашкодила. Вот погладите.
Мы помогли. И генерал предложил нам затиснуться на заднее сиденье.
– В тесноте, да не в обиде, – конечно, сказал генерал и еще:
– Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. До гарнизона подброшу.
Радовались мы еще и на другой день, тем более что командир эскадрильи нашего позднего возвращения не засек. Остапенко раздувался непомерно, будто он Аустерлицкое сражение самолично выиграл. Кстати так часто случается: пустяк, а празднуешь, не остановиться.
Но прошел еще день, и мы уже думать забыли о ночном марш-броске по разбитой дороге. Все силы души были обращены к «Лавочкину»: в считанные дни надо было понять машину, сдать зачеты, а главное, – привыкнуть к этому удивительному аэроплану! Был он тяжеловат в пилотировании, но надежен, как ни один другой истребитель военного времени.
Полк готовился к очередным тренировочным полетам. На построении командир предупредил: ожидается новый командир корпуса. Гвардии генерал-лейтенант Сетин. Воевал в Испании, на Халхин-Голе. Строг, требователен. Станет о чем спрашивать – отвечать толком, в полный голос, голову держать выше, есть глазами начальство…
– Хвостом вилять? – тихонько осведомился Остапенко. Но был тем не менее услышан и тут же получил совершенно исчерпывающий ответ, который в силу абсолютной непечатности не приводится.
– Ста-ановись! – скомандовал командир полка, когда на дальнем фланге самолетной стоянки показался штабной «виллис», поправил фуражку, готовясь рапортовать.
– Клянусь, – сказал Меликян, – сейчас выяснится, что генерал – наш! Печенкой чувствую.
И Мелик проинтуичил правильно.
Приняв рапорт командира полка, Сетин поздоровался со строем и тут же скомандовал, слегка заикаясь:
– Во-ольно! Занимайтесь по своему пла-ану, ма-айор…
А я погляжу, ка-ак у вас получается. Поглядел, и, представьте, углядел: узнал.
– А-а-а, штурмо-о-овик! – протянул мне, будто лучшему своему другу, руку. Мало, еще и подмигнул: – При-и-ивет!
– Здравия желаю, товарищ гвардии генерал-лейтенант, – поклонился я в ответ и позволил себе удивиться: – И как только вы меня узнали?
– У ме-еня нюх, штурмо-о-овик. И па-амять. Скажи, ты ка-ак летаешь, ка-ак брешешь?
– Никак нет, товарищ гвардии генерал-лейтенант, летаю – гораздо лучше: я – брехун-любитель, а летчик – профессионал.
– Профессионал? – Почему-то это ему не понравилось. – Майор, – обратился командир корпуса к нашему командиру полка, – где тво-о-оя ма-ашина? Слетаю я с этим профессионалом на свободный во-о-оздушный бой. По-огляжу… – И столько пренебрежения он вложил в это слово – профессионал, что мне просто не по себе стало. За что?
Небо было нежным, весенне-праздничным, ярко-голубым. Где-то тысячах на восьми метров едва обозначались тоненькие перистые облака, предвещавшие появление «лисьих хвостов» – этого авангарда теплого фронта. Но пока погода была, что называется, лучше не придумаешь, живи и радуйся, как бы шептало небо. Но я радости не ощущал, ощущал обиду.
Мы набрали две тысячи метров и по команде генерала разошлись в противоположные стороны, чтобы через восемьдесят секунд встретиться в лобовой атаке. Правила игры я знал твердо: в учебно-тренировочном воздушном бою предельно допустимая дистанция сближения одиночных истребителей на встречных курсах установлена в четыреста метров. Но еще на земле, сидя в кабине «лавочкина», решил: первым не сверну! Он – начальник, пусть и обеспечивает безопасность.
Сближаемся. Сперва самолет комкора показался мне с муху. Но это продолжалось очень недолго, машина его стремительно росла в прицеле, налезала…
– Врешь! – орал я неизвестно кому и держал его истребитель в перекрестье прицела. – Врешь! Сворачивай! Сворачивай же!
Он подхватил машину в боевой разворот, когда расстояние между нами сократилось метров до двухсот пятидесяти, если не меньше. И тут я, с бессмысленным воплем – аа-а! Полез вверх и вправо. В глазах черно от перегрузки, черноту сменяют красные круги – плывут, растекаются… отпустило не сразу…
– Мы дрались уже семь минут. Никогда еще я так не старался. «Ты сомневался: профессионал я или не «профессионал», – гляди! Почему ты не поверил? Звание у тебя выше, орденов больше… но ты же летчик и я тоже – летчик… Столкнусь, но не сверну… Понял? Вижу – понял! Ты будь здоров – летчик, только и я не портянка!
Небо чернело, становилось голубым, розовым и снова – черным. Казалось еще чуть – спина переломится. Вся требуха поднималась из живота к горлу. А мы все дрались.
Когда же это кончится? Сколько можно? Ну же, ну… Так или иначе в жизни все обязательно кончается, дождался и я команды:
– «Шестьдесят четвертый», выход из боя! Пристраивайся на снижении…
Земля. Стою перед Сетиным. Замечаю: у генерала лопнул кровеносный сосудик в левом глазу, белок сделался розоватым. Думаю: значит, и тебе прилично досталось.
Он нагнулся, сорвал травинку, покусывает в странной отрешенности стебелек и спрашивает, не глядя на меня:
– Ты всегда так дерешься? Только не ври!
«Вот опять, – думаю я: не ври! Но почему, почему меня надо подозревать?» и отвечаю:
– Не всегда. По вдохновенью.
– Ты опасный нарушитель, Ефремов. Вот думаю, как с тобой бороться? Чего улыбаешься, думаешь не надо?







