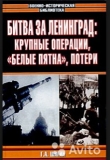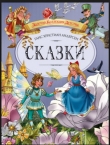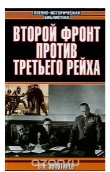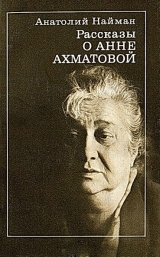
Текст книги "Рассказы о Анне Ахматовой"
Автор книги: Анатолий Найман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Заречная – почти ровесница боготворимой "серебряным веком" Комиссаржевской; "декадент" Треп-лев, о творчестве которого Аркадина говорит: "никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер", над которым смеются, которого печатают, но не читают, – это так называемый старший символист, один из тех, кто были предшественниками Ахматовой, авторитетами и учителями. И это в "Чайке", пьесе, где интрига между матерью и сыном, разыгрывающими эпизод Гертруды и Гамлета, все время, имеет в виду, вполне "по-ахматовски", шекспировскую ситуацию; так же как и ссылка на пушкинскую "Русалку": "В "Русалке" мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка". Туг уж и облако, похожее на рояль, начинает выглядеть пародией на ахматовское знаменитое "Высоко в небе облачко серело, как беличья расстеленная шкурка". Новое искусство-священнодействие могло "сговориться" с искусством-анализом, искусством-идеей, искусством-проповедью XIX века – уже хотя бы потому, что и то, и эти "больше, чем искусство". Но сговориться с Чеховым, который трактовал искусство только как ремесло, было невозможно. Язык был один – тональность разная. Разных регистров: то, что Чехов выставлял в смешном виде, почти водевильно, стало подаваться совершенно всерьез и драматически, Реплики ранних ахматовских стихов и чеховских героинь взаимозаменяемы, сплошь и рядом дословно:
душа тосковала,
задыхалась в предсмертном бреду;
вы не стали бы мучить меня -
много муки и так, много пыток;
я не плачу, я не жалуюсь,
мне счастливой не бывать;
счастье стучится ко мне в окно,
стоит только впустить его;
милый, милый! и я тоже; умру с тобой...
пусть тень его видит, как я люблю;
о, как ты красив, проклятый!
я умею любить и прощать...
Куда, к чьему тексту отнести ту или иную строку, зависит от фокусировки, как в рисунке с секретом, на который если смотреть перпендикулярно, видишь крону дерева, цветы и птиц, а если по касательной к плоскости – скорченного в ветвях охотника. Затяни винт наводки на резкость – Анна Ахматова, цикл "Смятение"; ослабь – шутка "Медведь", Чехонте.
Лидия Яковлевна Гинзбург, много лет регулярно с Ахматовой встречавшаяся, после ее смерти сказала: "Почему я не задала ей главного вопроса: "Как вы так стали писать, то есть в самом начале?" Может быть, какой-то ответ дает Чехов: так тогда говорили – барышни, молодые женщины. В "Чайке" мудрец Дорн, доктор, считающий, что жаловаться на жизнь в старости невеликодушно, всем лекарствам предпочитающий валерьянку и верящий в мировую душу, только тогда, когда попадает в толпу, говорит о Треплеве: "Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь". Этот ли приговор новому искусству; или – поскольку искусство священно ("наше священное ремесло") – последовательная "профанация таинства" ("Серой пахнет. Это так нужно?"); или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности, на столь же целенаправленную ахматовскую высокость и тем самым обнаруживающее общие корни; или лакей, от которого пахнет курицей, во всех мхатовских и немхатовских постановках "Вишневого сада" напоминавший о духоте и пошлости обстановки ее отрочества и юности; или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая. И когда я сказал ей, что на "Ленфильме" ставят картину по рассказу "Ионыч" и в нее как действующее лицо введен сам Чехов, она не пропустила случая: "Aга! Значит, там будет уже два врача".
Анна Сергеевна, "дама с собачкой", во время первого тайного свидания с соблазнителем произносит, не пряча слез: "Пусть бог меня простит! Это ужасно... Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый". В сходной ситуации лирическая героиня Ахматовой слышит сквозь пение скрипок: "Благослови же небеса – ты первый раз одна с любимым". Раскаяние молодой женщины выглядело, по Чехову, "странно и некстати", но такое ее отношение к происшедшему обусловливалось нормой христианского сознания. В этом смысле отношение ахматовской "счастливой" возлюбленной – прямое и подчеркнутое пренебрежение нормой, отказ от нее.
И вместе с тем столь откровенное и любующееся собой нарушение христианского закона – совсем уже "странно и некстати" – включалось поэтом без колебаний и сомнений в систему координат православного быта и образа поведения: молитвы дома, в храме, исповеди, причащения. "Протертый коврик под иконой"; "так молюсь за Твоей литургией"; "и темная епитрахиль накрыла голову и плечи". Более того, убежденность и естественность, с какой это включение делалось, словно бы узаконивают радость от нарушения нормы, поскольку она оказывается таким образом совместимой со скорбью раскаяния, которую предполагает исполнение других норм. Иначе говоря, нормой объявлялось именно это одновременное нарушение-соблюдение. Практика такого смешения была уже достаточно широко распространена; философия эпохи нашла ей обоснование, а значит, оправдание. Для поэзии в ней вообще не было противоречия.
Ахматова была человеком верующим и церковным. Когда-то посещение храма было для нее непременным и обычным делом:
А юность была – как молитва воскресная...
Мне ли забыть ее?
Напев Херувимской
У закрытых дверей дрожит;
Поднимались, как к обедне ранней.
Церковные установления оставались для нее непреложными, и она рассказала мне после поездки в 1965 году в Англию, как ее спросили в Лондоне, не хочет ли она встретиться с тамошним православным архиереем. "Я отказалась. Потому что говорить ему всю правду я не могла, а не говорить правды в таких случаях нельзя".
Но в последние годы она в церковь не ходила. Зайти, перекреститься, постоять помолиться могла, церковный календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо знала службу. В Прощеное воскресенье 1963 года сказала: "В этот день мама выходила на кухню, низко кланялась прислуге и сурово говорила: "Простите меня, грешную". Прислуга так же кланялась и так же сурово отвечала: "Господь простит. Вы меня простите". Вот и я теперь у вас прошу: "Простите меня, грешную". Но если воспользоваться ее собственными словами, она скорее была "вне церковной ограды", во всяком случае, в конце жизни. То говорила, что с общей исповедью согласиться не может, что введение общей исповеди вбило клин между нею и церковью; то – "я хочу верить, как простая бабка". И то и другое звучало, на мой слух, отговоркой. При этом писала: "Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с какой тяжелой горечью вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру..." Тут уместно вспомнить ее мнение о том, что доступность искусства в виде множества переводов, репродукций и граммофонных пластинок – никак не прогресс: доступность эта предполагает случайное, легкое и поверхностное знакомство с проявлениями глубин человеческого духа и в этом смысле способствует духовному разврату. "Раньше на богомолье в Сергиев Посад отправлялись за двое суток – на ночь останавливались в Мытищах. Теперь электричка до Загорска идет полтора часа, но в такой поездке слишком много развлекательного". С другой стороны, когда я впервые надолго приехал в Москву из Ленинграда и стал ее осваивать и спросил у Ахматовой, с чего начинать, она ответила: "Смотря что вам интересно: если камни, то с Коломенского, если барахло – с Останкина". И когда, придя к ней после Коломенского, я рассказал, как уговорил сторожиху открыть мне Вознесенскую церковь и какая там была невыносимая пустота и невыносимая стужа, она спросила: "А вы заметили, какая она внутри крохотная? Какой, стало быть, маленький был у Грозного двор!" О Казанской, действующей, не было сказано ни слова, как будто ее вообще не существовало.
На Пасху 1964 года я получил от нее письмо, там были такие фразы: "По новому Мишиному радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков – заплакала. Это случается со мной так редко".
Заплакала она и еще раз – когда я ей рассказывал о фильме Пазолини "Евангелие от Матфея", его привезли на фестиваль итальянского кино. Она тогда недавно вышла из больницы после тяжелого инфаркта и еще чувствовала слабость. Я рассказал, что в зале передо мной сидел юноша грузин, и когда началась сцена распинания и из середины толпы, заслонявшей ее, донесся первый удар молотка и вскрик, он вдруг уронил голову на ладони и затрясся в рыданиях. Слезы наполнили ее глаза и покатились по щекам. Потом она спросила, был ли в фильме эпизод с самаритянкой: "Впрочем, это от Иоанна". (Вот как описан этот эпизод в IV главе Евангелия от Иоанна, стихи 6-8, 27:
"Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
...пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: "Чего Ты требуешь?" или "о чем говоришь с нею?"
– Замечательно, – сказала Ахматова, – то, что Евангелист обращает на это вниманье: застав Его наедине с женщиной, никто не подумал дурного.
Подобные места Нового и Ветхого Заветов привлекали ее особый интерес, под таким, или сходным, углом зрения они были прочитаны ею, о чем свидетельствуют в первую очередь "Библейские стихи". Со скрытым торжеством рассказывала она, как поймала на ошибке Достоевского – или Подростка, если у Достоевского эта ошибка была задумана. Подросток говорит Ламберту: "Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками... Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок... и, чуть достиг удовлетворения – тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги?.." История Ависаги из III Книги Царств (стихи 1-4) тут ни при чем:
"Когда царь Давид состарелся, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться.
И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, – и будет тепло господину нашему царю.
И искали красивой девицы во всех пределах Израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю.
Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему; но царь не познал ее".
Ахматова считала, что Достоевский, конечно же, имел в виду историю, рассказанную в 13-й главе II Книги Царств: о темной страсти Давидова сына Амнона к Авессаломовой сестре Фамари, которую, обесчестив, "потом возненавидел <...> величайшею ненавистию, так, что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: встань, уйди... И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею" (Стихи 15, 17).
Выбор Ахматовой сюжетов из Священного писания (Рахиль – Лия – Иаков; жена Лота; Мелхола – Давид; дочь Иродиады), их трактовка, ударения, в них расставленные, обнаруживают отчетливую тенденцию: все они так или иначе посвящены любовным отношениям мужчины и женщины – точнее, женщины и мужчины. И не прообразы любви небесной, видимые, согласно христианскому вероучению, "как бы сквозь тусклое стекло", проясняет поэт через образцы любви в этом мире, а как раз психологические, чувственные, "всем понятные" стороны любви плотской, пусть и самой возвышенной...
Читаю посланья Апостолов я,
Слова Псалмопевца читаю.
Но звезды синеют, но иней пушист,
Каждая встреча чудесней, -
А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.
Читаются Апостольские послания, Псалтирь – и вообще, Ахматова знала Библию превосходно, ориентировалась в ней свободно, нужное место находила сразу – но распахнуться книга сама готова на Песни Песней, лирико-драматической поэме, описывающей любовь пастушки и царя и внешне не отличающейся от светской. И когда Ахматова обращается к Богу:
Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи, -
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви, -
то если начало четверостишия очевидным образом повторяет молитву Иоанна Златоуста на 11-й час дня: "Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея", – то конец столь же очевидно противопоставляется его молитве на 10-й час ночи: "Господа, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления..." В контексте стихотворения эта "великая земная любовь" сродни карамазовскому толкованию евангельских слов о грешнице, которая "возлюбила много": "...она "возлюбила много < – кричит Федор Павлович, – >, а возлюбившую много и Христос простил..." – "Христос не за такую любовь простил..." – вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа".
День ангела Ахматовой был 16 февраля (по новому стилю), именины справлялись скромно, она принимала поздравления по телефону, вечером за стол садилось несколько гостей. "Я Анна сретенская", – говорила она, ее покровительницей была пророчица Анна, встретившая в иерусалимском храме младенца Христа. Стих "И вовсе я не пророчица" отталкивается, конечно, от образа этой святой. Что же касается дня рождения, то тут была известная путаница. Начать с того, что она писала в автобиографии "Я родилась 11 (23) июня", а праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то 12 дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то 13 – поскольку отмечалось в тот же день уже в новом. Во-вторых, она любила заметить мимоходом, что родилась в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, установленный в память избавления Руси от ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, на котором кончилось татарское иго. Но этот день – 23 июня по старому стилю, 6 июля по новому.
Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишнюю, но и ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять-таки на 24 июня по старому, 7 июля по новому стилю. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих утверждений и намеков благодушно-иронической литературностью, что магия, приписываемая этой ночи, ее обряды, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью – кладов, прыганье через костры, скатывание с горы зажженного колеса, купание и т. д., так же, как и весь круг мифов, связанных с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, – были усвоены ею как бы вследствие уже самого факта рождения в этот день. Самый же день упоминается в стихах не как праздник чудотворной иконы, или мученицы Агриппины, или как канун Рождества Предтечи, а как день Аграфены-купальницы, канун Ивановой ночи. (Притом опять-таки одновременно с упоминанием о чтимом церковью пророке Давиде.)
Это усвоение, как сейчас принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось проникновением или намерением проникнуть в области действия тех таинственных сил, проявление которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. "И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь" – не поэтическая фигура, если вернуться к воспоминанию Б. С. Срезневской о "лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома ("Какой ужас! она лунатик!")". Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, "подружилась с морем", "плавала, как щука", по оценке брата-моряка; и еще "знали соседи – я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место", как повествует поэма "У самого моря". Отсюда в ее стихах – русалка, морская царевна и, наконец, китежанка; из лунатизма – сомнамбула в "Прологе", одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой.
Тут была игра – и не игра. Шутка – и питательная среда ее поэзии. Стилизованные под сказку древние руины – и склубление невымышленной энергии, из которой черпала силы ее невымышленная муза. В этой тяге к "запретнейшим зонам естества", в культивировании сверхобычных свойств натуры, "шестых чувств", а они у нее были: вещие сновидения, чтение мыслей, разгадка примет, "выдразнивание" встреч, вестей и т. д., – тоже сказывалась ее принадлежность "своему времени", началу века с его повышенным интересом к теософии, антропософии, оккультным знаниям. "Это нам известно, – сказала она однажды, соединив большие пальцы рук и широко раздвинув остальные: положение кистей на спиритическом сеансе. – Недавно давали пять лет – за один такой жест". Дело было в Комарове, зимой, мы с Бродским и Мариной Басмановой, его подругой, зашли к Ахматовой в гости. Заговорили о спиритизме, я рассказал, что двое моих приятелей клянутся, что вызвали духов Гете и Лебедева-Кумача, те явились одновременно и застряли в дверях. Она сказала, что относится к столоверчению враждебно, считая его занятием безнравственным, и сослалась еще на довод Модильяни: "Разве мне было бы приятно узнать, что кто-то может вызвать тень моей покойной матери?" – "А впрочем, – закончила она, – возьмите словарь Брокгауза на букву С и прочтите статью Владимира Соловьева "Спиритизм", очень толковую". (Потом она дала нам десятку и послала в магазин за водкой и закуской. Стоял мороз, ночное небо было безоблачно, все в ярких звездах. Бродский узнавал, или делал вид, что узнает, созвездия, потом спросил меня: "A-Гэ, а почему, объясните по науке, в северном полушарии не виден Южный Крест?" Я сказал: "Возьмите словарь Брокгауза на букву А и прочтите статью "Астрономия". – "А вы, – сказал он тотчас, очень довольный вовремя пришедшим в голову каламбуром, – возьмите словарь Брокгауза на букву А и прочтите статью "Астроумие".)
Мир, не замечающий contradictio in adjecto, внутреннего противоречия, в безгрешной радости от греха, в освященной небом земной страсти, в примирении Христа с Велиаром, – это иллюзия, создание которой подвластно одной поэзии. Создание, создавание которой, собственно, и значит "поэзия", в исходном, греческом ее применении.
Подвластно – и необходимо ей: "протертый коврик под иконой" обостряет впечатление от "веселой грешницы" до предела, одно без другого не работает, поэзия в их непременной совместности и одновременности.
Через печальную благодарность, пусть и не без кощунства выраженную, за избавление от страсти:
Исцелил мне душу Царь Небесный
Ледяным покоем нелюбви;
через сознание искушения, пусть и кончающегося выбором греха:
"То дьявольские сети,
Нечистая тоска".
"Белей всего на свете
Была ее рука".
поэт приходит к овладению пространством вседозволенности, пусть иллюзорным, в котором другие измерения, расплывчатые грани, в котором свет похож на тьму и тьма на свет:
Я за нашу веселую дружбу
Всех святителей нынче молю.
В 1922 году Ахматова пишет стихотворение, исключительное по откровенности, которой ссылки на "Фауста" не только не вуалируют, а, наоборот, обнажают корни:
Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.
Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего – прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.
После этого признания уже не неожиданным кажется другое:
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.
Незадолго до ее смерти у нас случился разговор о тогдашнем ее положении: о новой славе, пришедшей к ней, и о пошлости, сопровождавшей эту славу; о высоком авторитете и о зависимости от газетной статьи, чьих-то мемуаров, Нобелевского комитета, иностранной комиссии СП; о бездомности и о зависимости от чужих людей; о старости, болезнях и о десятках телефонных звонков, писем. Сперва она держалась гордо, повторяла: "Поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять", – но вдруг сникла и, подавшись вперед, со страданием в глазах и в упавшем голосе, почти шепотом, выговорила: "Поверьте, я бы ушла в монастырь, это единственное, что мне сейчас нужно. Если бы это было возможно".
Надежда Яковлевна Мандельштам в мемуарах, в главе "Два полюса", упрекает Ахматову в том, что она утверждает образ "поэта на сцене". Имеется в виду стихотворение "Читатель". В самом деле, мнение Осипа Мандельштама об актере как "профессии, противоположной" поэту, полностью разделялось Ахматовой. "Эстрадничество" 50 – 60-х годов было в ее устах почти бранным словом. И тем не менее в "Читателе", датированном 1959 годом, изображен именно поэт-актер:
Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным. О нет!
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.
И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело.
А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд,
Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.
И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,
За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной...
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.
Наш век на земле быстротечен,
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен -
Поэта неведомый друг.
Этот образ как будто противоречит и самим основам ее поэтического кредо, таким, как "Без тайны нет стихов"; "Поэт – это тот, кому ничего нельзя, дать и у кого ничего нельзя отнять", – и вообще тому трагическому автопортрету поэта, который возникает из ее стихов. В "Читателе" декларируется с начала, что для того, чтобы быть понятным (понравиться) современникам: все равно, "черни" или "элите" – просто "современникам", поэт чего-то не должен.
О цикле "Тайны ремесла" у нас был разговор, о первых шести стихотворениях: "Творчество", "Мне ни к чему одические рати...", "Муза", "Поэт", "Читатель", "Последнее стихотворение", – остальные были присоединены по соображениям публикационной политики, Я сказал, что стихи описательные и как раз лишенные тайн и я воспринимаю цикл как второстепенный. Она ответила: "Я и сама их не люблю. Но должна же была я написать что-нибудь, кроме "Реквиема", и при этом не про запуски спутников". Я заметил, что "Поэт" и "Читатель" выделяются, что они не только "сделаны в мастерской Ахматовой", но и "рукой самого мастера". Это было и ее мнение, она ответила сразу и с ударением: "Кажется, да".
В августе 1959 года Ахматова и Пастернак были гостями у Вяч. Вс. Иванова. Хозяева обратились к ним с просьбой прочесть стихи, Ахматова прочла "Летний сад". Пастернак весь вечер был мрачен и агрессивен, о стихотворении высказался недружелюбно. Словно не обратив на это внимания, Ахматова после короткого вступления прочла еще "Читателя". (Пастернак как будто отозвался одобрительно, но по-прежнему угрюмо. Сам читал мало, через силу, отказывался категорически. Создалось впечатление, что Ахматова, несмотря ни на что, хотела прочесть ему "Читателя".)
К тому времени было уже широко известно распространявшееся в списках стихотворение Пастернака "За поворотом". (Когда в 62-м году оно было напечатано в "Дне поэзии", я, рассказывая Ахматовой об альманахе, которого она еще не видела, сообщил об этом, и она сказала: "Замечательные стихи".) Сюжет его – тот же, что в "Читателе": природа, что-то прячущая от посторонних. Как и "Читатель", "За поворотом" изобилует недосказанностями, намеками: "пряча что-то", "не пускает на порог кого не надо", У Ахматовой "кто-то беспомощно плачет", у Пастернака "просьбы о защите". Наконец, "будущее" Пастернака и "поэт" Ахматовой – оба "распахнуты настежь".
Не менее явная обнаруживается перекличка стихотворений "Читатель" и "Поэт" с "Посвящением" и "Театральным вступлением" к "Фаусту" в пастернаковском переводе, который он кусками, по мере завершения, читал Ахматовой. Одинаковый подход к теме и сходное ее разрешение подчеркиваются текстуальными совпадениями:
Распался круг, который был
так тесен
Немножко жизни, выдумки
немножко;
и т. д.
И тесен назначенный круг;
Немного у жизни лукавой
И все – у ночной тишины
(в "Поэте")
Ахматова составила список своих публичных выступлений, последние из которых помечены 1946 годом. Из 31, упомянутого в списке, на этот год приходится, по крайней мере, 6, и почти наверное к тому же времени относится несколько выступлений, перечисленных, но недатированных. Эту насыщенность она ставила в связь с последовавшим в августе Постановлением ЦК. (Последнее выступление этой серии, вместе с Зощенко, перед парт– и комсомольским активом, было предпринято, по ее убеждению, для предварительного непосредственного знакомства persecuteur'a с persecute, гонителя с гонимым.) Не этим ли, в частности, объясняются тон и лексика первой строфы "Читателя", словно бы пародирующие декларативность и терминологию официальных документов: постановлений, докладов, передовых статей о литературе и искусстве?
В апреле 1946 года Ахматова и Пастернак один или два раза выступали вместе. Стихотворение Пастернака "Гамлет", с одной стороны, уже очень популярное, а с другой – недавно написанное, вполне вероятно, было прочитано поэтом с эстрады. "Читатель" повторяет ситуацию "Гамлета", так же как конкретную характеристику ситуации – "сумрак ночи": "На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси".
Таким образом, противоречие поэт/актер снимается, если согласиться, что этот поэт и одновременно актер – Шекспир, или другое воплощение этого образа – например, Пастернак-Гамлет. В пользу такого заключения свидетельствует не только "двойная профессия" Шекспира, но и англизированный (и обращенный к той театральной эпохе) стих "Лайм-лайта холодное пламя" ([laimlait... fleim]), с немедленным эхом "заклеймило" в следующем стихе – игра, вполне допустимая при вообще наличествующей в стихотворении игре: "И тени, и столько прохлад. Там те незнакомые очи (знакомые очи чьей-то тени); Наш век на земле быстротечен, И тесен назначенный круг". По-видимому, строчка "И рампа торчит под ногами" учитывает и английское значение глагола to torch – освещать факелами. Подтверждением того, что стихи "прячут" Шекспира, служит также цитирование слов Белинского по поводу "Сна в летнюю ночь", в котором образы героев – как "тени в прозрачном сумраке ночи". Эта реплика Белинского приводится в комментарии к переводу "Сна в летнюю ночь" ("A Midsummer-Night's Dream"), опуб ликованному в III томе Собрания сочинений Шекспира в 1958 году.
Midsummer Night, Ночь на Ивана Купалу, ее прелестно-жуткое колдовство – это и есть пейзаж, воздух, поэтическое пространство "Читателя", его содержание. "Сама не из таких, кто чужим подвластен чарам", Ахматова хорошо знала своих – пленников обаяния этой ночи – Шекспира и Гоголя в первую очередь. У Белинского упоминание о "Сне в летнюю ночь" встречается именно по поводу "Майской ночи" Гоголя: "Это впечатление (от чтения "Майской ночи") очень похоже на то, которое производит на воображение "Сон в летнюю ночь" Шекспира" (статья "О русской повести и повестях г. Гоголя"). И выше: "...вам будет чудиться эта светлая прозрачная ночь... полная чудес и тайн... это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц..."
"Читатель" говорит о тех же предметах, что "Вечер накануне Ивана Купалы" и "Майская ночь": клад, уходящий в землю по мере приближения к нему; "все, что ни было под землею, сделалось видимо как на ладони"; плач жалобных верб и ручьи слез по лицу панночки, просящей о помощи. Читатель сравнивается со всем этим как бы формально: он – "тайна", и это – таинственно.
Описания, подобные приведенному, у Белинского нередки. Он пишет о "Тамани" Лермонтова: "...Все в ней таинственно, лица – какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка... обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна..."
Лермонтов был свой по преимуществу: певец "русалочьей" темы, к тому же еще и царскосел. Но, как это ни неожиданно, среди своих возникает фигура Белинского, с его постоянной в ранних сочинениях тягой к призрачному, лунному, подводному.
В книге "Судьба Лермонтова" Э. Г. Герштейн – которая была приятельницей Анны Андреевны и чьи многолетние исследования были в сфере внимания Ахматовой, – в главе "Журналист, Читатель и Писатель" приводятся существенные доводы в пользу отождествления образа лермонтовского Читателя с Вяземским. И тут же в качестве, так сказать, запасного варианта присутствует Белинский. Наконец, упоминается об уже сделанном прежде сопоставлении стихотворения Лермонтова "Журналист, Читатель и Писатель" с "одновременными статьями Белинского, в которых он... говорит о задачах "Отечественных записок" в воспитании демократического читателя".