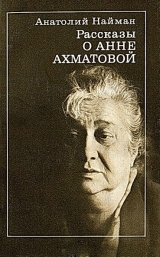
Текст книги "Рассказы о Анне Ахматовой"
Автор книги: Анатолий Найман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
В "Листках из дневника" Ахматова вспоминает, как прочла Мандельштаму кусок из "Божественной комедии", и он заплакал: "...эти слова – и вашим голосом". То же самое можно сказать о множестве мест в ее стихах, но если в 1922 году знаменитые дантовские слова:
Tu proverai si corne sa di sale
Lo pane altrui, e com'й duro calle
Lo scendere el salir per altrui scale,
(Ты по себе узнаешь, как горек хлеб чужой и как тяжело спускаться и всходить по чужим ступеням) – произнесены ее голосом как бы в вольном пересказе:
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник, -
Полынью пахнет хлеб чужой, -
то через сорок лет восклицание Данте:
– Men che dramma
Di sangue m'e rimaso che non tremi:
Conosco i segni dell'antica fiamma!
(Меньше чем на драхму осталось во мне крови, которая бы не трепетала: узнаю знаки древнего пламени!) – звучит куда более засекреченно:
Ты стихи мои требуешь прямо,
Проживешь как-нибудь и без них,
Пусть в крови не осталось ни грамма,
Не впитавшего горечи их.
Цитату выдает рифма: dramma – fiamma и прямо – грамма – но, выдав, втягивает в головокружительную воронку цитат. Последний стих дантовской терцины, обращенной к Вергилию, это слова вергилиевской Дидоны, точно переведенные Данте из "Энеиды", а предыдущее ахматовское стихотворение в цикле "Шиповник цветет" открывается стихом из "Энеиды" и первоначально называлось "Говорит Дидона", Выявлению "чужих голосов" в поэзии Ахматовой посвящены многочисленные филологические труды последних трех десятилетий, упоминание об использовании ею чьих-то текстов стало общим местом. То, что открыли Т. В. Цивьян, Р. Д. Тименчик, В.Н.Топоров, проникнув за второе дно ее "роковой шкатулки", теперь уже всегда будет просвечивать сквозь прозрачность стихов "третьими, седьмыми и двадцать девятыми", если воспользоваться ее же фразой, планами. Одно время началась настоящая охота за цитатами в ее стихах, и дело выглядело беспроигрышным: всегда что-то обнаруживалось. Казалось, Ахматова читала – все, заимствовала – отовсюду. Результаты сопоставлений зависели в основном от мнемонических способностей сопоставителей. Перечитывая ее стихи 1921 – 1922 годов, я наткнулся, например, на батюшковский слой, особенно концентрированный в стихотворениях, написанных зимой в Бежецке. В частности, оказалось, что и упомянутый дантовский "хлеб чужой" введен Ахматовой в стихи не непосредственно, а через "Умирающего Тасса" Батюшкова:
Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостным Италии моей.
Скитался, как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? Где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Но о чем свидетельствовали эта и подобные находки? Только ли иллюстрировали они ахматовский афоризм:
Не повторяй – душа твоя богата -
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама -
Одна великолепная цитата?
Или соблазняли предположить (а ни на чем мы не любим так настаивать, как на предположении, более, чем достаточно, но менее, чем необходимо, доказываемом), что Ахматова нашла в бежецком доме томик Батюшкова и читала его той зимой? Возможно, это было бы убедительно в отношении другого поэта. Но Ахматова не сочиняла стихов, чтобы что-то проиллюстрировать, и находила именно то, что искала. Иначе говоря: что цитируется? – это только первый вопрос, неплодотворный без второго: почему цитируется это? Круг каких культурных ассоциаций, какой сюжет, какой миф втягивается выбранной цитатой в стихи (и – зеркально: какое конкретно место культурной вселенной через приведенную цитату отныне обозначено новыми стихами)? "Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций". Что "все" сказал Шекспир? Чем милее Гораций? Почему в связи с такой-то темой вспомнен Шекспир, а с такой-то – Гораций? Какой знак подают в ахматовских стихах тот и другой? И что означает – в системе ахматовской шифровки – их неожиданное соединение в одной строке?
Искать скрытые цитаты в живой речи Ахматовой было бы занятием бесполезным: всякий человек гораздо чаще бессознательно, чем сознательно, цитирует множество других. Зато то, что она вспоминала применительно к возникшей ситуации, всегда бывало неожиданно и, как правило, смешно.
Она ввела в обиход понятие "Ахматовка". Распределить желающих видеть ее оказывалось иногда нелегким делом, визиты наезжали один на другой, посетители входящий и выходящий сталкивались в дверях, в прихожей, кто-то с кем-то был несовместим, кто-то к кому-то ревновал. Словом, узловая станция с напряженным графиком и неизбежными авариями. В Ленинграде это случалось реже, в Москве чаще. Как-то раз я пришел к ней днем, она сказала, что назначила на вечер такого-то. "Как такого-то! Уже назначен сякой-то, вы все перепутали". Нисколько не расстроившись, она произнесла: "Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета. – И после паузы, по слогам: – Ло-ре-ле-я". В самый первый миг мне это показалось неуважительным по отношению к "классическим" стихам, к декабристам, к каторге, новой обидой Мандельштама от "европеянки". Но тотчас стало ясно, что это для нее, в первую очередь, стихи молодости – которых когда-то не существовало, которые при ней возникли, были на слуху и на языке, много раз повторялись и, вероятно, подвергались, как вс в молодости, подшучиванию друзей.
Когда прощались, она иногда, вместо обычных пожеланий и напутствий, проговаривала из Фета: "И лобзания, и слезы, и заря-заря". Однажды я ответил на это что-то вроде, что "не знаю сам, что буду петь, – но только песня зреет", и она сказала, что ее любимое фетовское стихотворение "Alter ego", и продекламировала:
Как лилея гладится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей. -
А потом подарила оттиск статьи Недоброю "Времеборец (Фет)". Статья проникновенная и очаровательная, но, хотя она и направлена на то, чтобы снять с Фета клеймо "пошот, боркое хыданье", однако лишний раз привлекает внимание к этой пародии на знаменитое "Шепот, робкое дыханье". И, читая "Времеборца", я подумал, что А. А, снижая конец стихотворения, знала, конечно же, как досталось и началу.
Иногда, когда мы выходили на прогулку – этому предшествовало: "Дайте мне мои восемь солдатских минут на сборы" – и я протягивал руку для поддержки, то она, грузно на нее опершись, предваряла первый шаг стишком неизвестного мне происхождения: "Ну? Бобик Жучку взял под ручку?"
Апрельским вечером 1964 года мы сидели за столом у Ардовых, на Ордынке: Ахматова, Аманда Хэйт, молодая англичанка, тогда писавшая диссертацию об ее поэзии, другая англичанка, подруга Аманды, и я. Еще накануне я условился с девушками, что они заедут за мной и мы отправимся в чей-то дом, где я начитаю на магнитофон, особенно внимательно следя за произношением, хрестоматийные русские стихи, после чего мы на этом же магнитофоне послушаем записи Beatles, недавно вошедших в моду. Когда подошло время отъезда и об этом объявили Ахматовой, оказалось, что она рассчитывала провести с нами весь вечер. Девушки по-европейски любезно и так же категорично объяснили, что "нельзя не ехать, если нас ждут". Я колебался нарушать договоренность, а главное, отказываться от задуманного развлечения не хотелось. Посидели еще некоторое время, потом поднялись. А. А. иронически на нас поглядела и жалобно сказала, показав им на меня: "Увозите? А еще просвещенные мореплавательницы!" Это побитый Расплюев в "Свадьбе Кречинского сокрушается: "Бокс!.. английское изобретение!.. А?.. Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели..."
Смешно было, потому что к месту, и еще смешнее, потому что, по логике происходящего, совсем не к месту. При чем тут, тут, где она только что сидела, величественная, безмолвная, неподвижная, да и сию минуту сходит, опираясь на мою руку, вниз по ступенькам – как будто двинулось изваяние; она, из чьих скорбно сомкнутых уст ожидаешь услышать разве что глухие и торжественные слова про шелест трав и восклицанья муз, – при чем тут Бобик? При чем тут, в тесной комнатке, куда вместе с посетителем, прочищающим оттаявший нос, врывается кухонный чад и где под топчан впихнуты два картонных чемодана: рукописи и одежа, – при чем тут Лорелея? Это был, так сказать, патентованный ахматовский прием, почти правило: надеть перчатку с левой руки на правую, вывернуть ситуацию наизнанку, снизить высокий стиль, поднять низменное, столкнуть несопоставимые на первый взгляд вещи, расположить в стихах слова под новым углом друг относительно друга. "Тогда же возникла его теория знакомства слов", – пишет она о Мандельштаме. Она утверждала, что поэт всегда "неуместен", всегда "воплощенная бестактность", приводила в пример Пушкина, который в журнале "Библиотека для чтения" среди потока праздничных стихов разных поэтов, посвященных годовщине войны 1812 года и по случаю открытия Александрийской колонны на Дворцовой площади, поместил элегию "Безумных лет угасшее веселье". "Так неуместно, так бестактно".
"По мне, в стихах все быть должно некстати, не так, как у людей".
И однако, вспомненное не к месту, сопоставленное некстати производило впечатление естественного, чуть ли не само собой разумеющегося. Отсылка к Горацио и намек на Шекспира, окрик на улице и восклицания муз доходили до людей и пленяли людей интонацией самой обыденной, бытовой, сто раз слышанной и настолько распространенной, что если по Зощенке можно восстановить городской язык 20 – 30-х годов, то по Ахматовой – интонации русской речи первой половины XX века. Интонация Ахматовой действовала одинаково на не искушенную в поэзии домохозяйку и на изощренного в анализе текстов структуралиста, это видно из того, что и тот и другая прилеплялись к стихам Ахматовой, а не, к примеру, Вячеслава Иванова или, на худой конец, Волошина, не менее "культурным".
Ахматова была антитеатральна, она совсем не умела показать человека, изобразить, как он говорит, но у нее были идеальные, несравненные слух и память на то, как расставлены в реплике, во фразе, в периоде слова, или – если они были расставлены неточно – на то, как должны быть расставлены. Она говорила, что можно поручиться, что фраза, услышанная молодым Иваном Сергеевичем Тургеневым в прихожей у Плетнева, совершенно достоверна. Стоя уже в шинели и шляпе, Пушкин обращался к собеседнику: "Хороши наши министры! нечего сказать!" "Так и видишь арапа!"
Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов. Она умела записать интонацию с той же точностью, с какой делается нотная запись мелодии. "А, это снова ты", "Подумаешь, тоже работа" – только чисто взятые ноты, только тот звук, который дает клавиша, клавиша музыкального инструмента, настроенного "так, как у людей".
Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов. Она умела записать интонацию с той же точностью, с какой делается нотная запись мелодии. "А, это снова ты", "Подумаешь, тоже работа" – только чисто взятые ноты, только тот звук, который дает клавиша, клавиша музыкального инструмента, настроенного "так, как у людей".
Что тебе на память оставить,
Тень мою? На что тебе тень?
Записи уже содержат в себе обозначения "минорно", "бодро, но не слишком", "торжественно". И уточняющие, уже почти театральные ремарки:
(с вызовом:) Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама... (решительно, но лукаво:) Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.
Иногда стихотворение прячет собеседника, звучит репликой в диалоге с кем-то, формально отсутствующим: это ответ на его реплику, в целях экономии поэтических средств включенную в самый ответ:
И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей,
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.
В других стихах возникает отчетливый, таким же образом "вписанный" жест:
Или забыты, забиты, за, (резко повернувшись,
устало и обреченно:) кто там
Так научился стучать?
Вот и идти мне обратно к воротам
Новое горе встречать.
Вероятно, этим можно объяснить отсутствие письменных ремарок в пьесе "Пролог; или Сон во сне", которую она сочиняла-восстанавливала в последние годы и постановку которой на сцене реально себе представляла (во всяком случае, телеграфную просьбу дюссельдорфского театра о такой постановке рассматривала серьезно). И вообще, чувство сценичности происходящего было свойственно ей в высшей степени. Есть очень живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, – сделанная незадолго до смерти и его и ее. А.А. комментировала снимок: "Эта сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается: "Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын – не твой". Он хватается за голову... А сын тем временем уже профессор в Стокгольме".
В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания; жестикуляция почти совсем отсутствовала. Зимой 64-го года мы "солидарно", как было обозначено в договоре, переводили Леопарди. Ближе к весне взяли путевки в комаровский Дом творчества, на "срок", то есть на 12 дней: нам объяснили, что легче продлить на месте, чем получить сразу на месяц. Ее определили в номер в главном корпусе, меня во флигель. Отправляясь на прогулку, брали финские сани: сперва шли пешком, потом она, устав, усаживалась, я толкал санки по утоптанным аллеям. В солнечные дни снег становился рыхлым, но лыжники катались вовсю. На просьбу о продлении ответили под самый конец: ей разрешили остаться еще на полсрока, мне отказали. Особенно огорчаться не стоило, работать можно было и в городе. Что-то в этом роде я и говорил, когда остановил санки на открытой поляне: она сидела лицом к солнцу, внешне совершенно спокойная, даже безучастная. Вдруг ее лицо исказилось гримасой неподдельной ярости, стремительным и каким-то нелепым движением она выбросила вперед руку, сжатую в кулак, и выкрикнула: "Ну да! Им нужны путевки для лыжниц!" Почему именно для лыжниц, а не для лыжников, было непонятно, но все вместе – страшно убедительно.
Возможно, это прорывалась усвоенная ею в детстве и юности несдержанность и даже демонстративность реакции на происходящее, свойственные той южнорусской, особенно одесской, среде, в которой она жила. Семнадцатилетней девушкой она жалуется в письме: "...я вечная скиталица по чужим, грубым и грязным городам..." В других ее письмах этого же времени – образчики тогдашнего разговорного стиля: "Не бойтесь, я не зажилю, как говорят на юге"; "Тоника советую сунуть в..."; "Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу"; "Вы бы, наверно, сказали: "Фуй, какой морд". Она находила вкус в анекдотах, новых и "бородатых", которых был большой выбор в доме писателя-юмориста Ардова, где она подолгу, приезжая в Москву, жила. "Мама, маз?!" – мог вдруг крикнуть ей, садясь за карты, хозяин, изображавший простеца-зятя. То есть: примазываете, прибавляете свою долю к ставке? "Маз, маз", – отвечала она снисходительно. "Сначала уроки, выпить потом" – эту присказку в ситуации приготовления к застолью могла произнести и она. Единственный раз, когда по ходу разыгрываемой Раневской и ею сценки (о которой рассказ дальше) должно было прозвучать нецензурное слово, она предупредила его замечанием: "Для нас как филологов не существует запретных слов", – но про уличное сквернословие могла сказать poesie maternelle (maternel – материнский, langue maternelle – родной язык). И строчки:
Ты уюта захотела,
Знаешь, где он – твой уют? -
недвусмысленно отзываются интонацией "крепкого выражения".
"Чехов противопоказан поэзии (как, впрочем, и она ему). Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть "колониальные товары", духота лавки, с поэзией несовместимая. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна: уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь, но у Толстого почему-то та же жизнь – другая, и даже третья". Эта античеховская не столько критика, сколько позиция, настойчиво Ахматовой декларируемая, кого-то глубоко огорчала, многих повергала в недоумение или же развлекала парадоксальностью. Из объяснений внелитературных – потому что трудно согласиться с литературными и перестать слышать гармонический ритм чеховских рассказов, или струну, в прямом и переносном смысле, "Вишневого сада", трудно понять, почему Зощенко с его "товарами" и модами не противопоказан поэзии, а Чехов противопоказан, – нaпрашивается раньше других психологическое.
Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт "чужих, грубых и грязных городов", большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова вытеснила не толь ко из биографии, но и из сознания херсонесским черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906-1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики: "Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак..."; "Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом"; "...разговоры о политике и рыбный стол"; "Кричал же он [дядя] два раза в день: за обедом и после вечернего чая"; "Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных"; "Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут (узна те слог Диккенса?)". Не правда ли, хочется продолжить: слог Диккенса в слоге Чехова? "Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам"; "Где ваши сестры? Верно, на курсах, о, как я им завидую". – В Москву, в университет. Покончить все здесь – и в Москву! – откликаются "Три сестры". Это письма чеховской провинциальной девушки, не удовлетворенной безрадостным существованием где-то, все равно где: в Таганроге или в Евпатории. Даже сюжет их: влюбленность в "элегантного и такого равнодушно-холодного" студента из столицы – типично чеховский. Как и конкретное проявление этой влюбленности: "Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку"; "Умереть легко"; "Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но это так". Ситуация для Ахматовой – если видеть уже в девушке Горенко Ахматову – исключительная: это мир, стиль и голос чеховских героинь, но включенный в систему ее выразительных средств не "сложностью и богатством русского романа 19-го века", не "с оглядкой на психологическую прозу", как писал о ней позднее Мандельштам, а повседневностью. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов – некую девицу Горенко. И в последующем, пусть самом незначительном, усвоении Чехова, если бы такое случилось, было бы "что-то от кровосмешения", как высказалась она однажды по сходному поводу.
Но, думаю, главной причиной ее нелюбви к Чехову была диаметральная противоположность их установок по отношению к искусству. Меня не оставляло ощущение, что претензии, которые высказывала Ахматова, говоря о Чехове, высказывались, чтобы ими заслонить эту неназываемую. В самом деле: она говорила, что пьесы Чехова – это распад театра. И она же в другой раз говорила, что МХАТ своим взлетом обязан тому, что Станиславский, после провала в Александрийском театре "Чайки", открыл, как надо ставить чеховские пьесы, "и они имели бешеный успех". У Лидии Чуковской записана негодующая речь Ахматовой, обвинявшей Чехова чуть ли не во лжи: "Чехов всегда всю жизнь изображал художников бездельниками. ...А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический... Мне Замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева – там тысячи набросков для одного портрета. Тысячи – для одного... Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, – а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников". Почти то же самое говорила она мне об Ильфе и Петрове: "Они оболгали писателей... В поезде, набитом писателями, жулик оказывается талантливее и умнее их всех". Однако моно логом в защиту художников Ахматова уводит разговор в сторону от первой, более непосредственной реплики: Лидия Чуковская по ходу беседы об экранизации Чехова иронически заметила, что в рассказе "Попрыгунья" "все есть, что требуется; и отрицательная героиня, и положительный герой..." – "И высмеяны люди искусства, – сейчас же сердито подхватила Анна Андреевна, – художники. Действительно, все, что требуется!" И лишь спустя некоторое время она сосредоточила упреки на искажении образа художника-труженика.
Почему читателями Чехова были одни только фельдшерицы и учительницы, а если и так, то почему и сейчас, когда читательский состав существенно переменился, все равно требуется высмеивание людей искусства? Слов нет, Ахматова не упускала ни одной возможности поднять достоинство "человека искусства" в глазах общества. Она не простила ни волошинской пощечины Гумилеву, ни алексей-толстовского глумления над Мандельштамом: пусть оскорбители были того же цеха, что и оскорбленные, – унижая поэтов, они стали заодно с чернью. Когда ей позвонили из "Литературной газеты", чтобы объяснить, что ради опубликования стихов Берггольц, которые оказались более актуальными, они вынуждены перенести стихи Ахматовой в другой номер, она, не дав договорить, отрубила: "Я никому не собираюсь перебегать дорогу, я знаю, что такое добрые нравы литературы", – и повесила трубку. И так далее, и так далее. Однако почти пятьдесят лет ее жизни, вплоть до самого конца, люди искусства были в неизменном почете и большой цене – за исключением тех, кого официально объявляли вне искусства, ничтожествами, тунеядцами и т. п., что было в глазах обывателя такой же данностью, как "талант и трудолюбие" признанных. И Рябовский в "Попрыгунье" не подрывал доверия современных фельдшериц и учительниц к "страшному труду, духовному и физическому" Иогансона, не изобличал "бездельника" Фалька, которого для фельдшериц и учительниц просто не существовало.
Не "высмеяны люди искусства", а высказана была об искусстве разрушительная для искусства, по крайней мере в том виде, в каком оно сформировалось "серебряным веком", правда. Лев Толстой говорил в 1909 году об Андрее Белом и вообще "декадентизме", что это бред сумасшедших: "Я никакого общения не имею с этими людьми. Я хотел бы спросить, что они хотят сделать". И еще: "Сказать, что "Некто в черном" страшен, – это все поймут и каждый может. А рассказать, как люди живут, как работают, чувства, столкновения – не каждый может". С точки зрения XX века Толстой выглядит old hat, дедушкиной шляпой, стариком, не понимающим нового искусства. Но у него был другой счет времени, И он, и декаденты предчувствовали потрясения, которые несет новое время: Революцию, Войну, разврат, террор и главное – Бога – нет; только он смотрел на это мужественно, ища и находя объяснения в извечных свойствах человеческой натуры, – как Сервантес, как Шекспир, а они, как будто оробев, объяснили это особыми свойствами XX века и стали создавать и описывать мир, параллельный реальному, где действовал "Некто в черном" и "пахло серой". Понятие "серебряный век", изобретенное впоследствии его представителями, подтягивало новое искусство к "золотому веку" и некорректно, и чисто формально: все, что было между Пушкиным и Блоком, как бы не замечалось "серебряным веком". Ахматова и – менее определенно – Мандельштам назвали вещи своими именами лишь через двадцать лет, и это было сделано скорее вопреки "новому искусству", искусству "XX века".
Искусство для Ахматовой – и шире: для людей искусства 900-х – 10-х годов – было служением не только в общепринятом, но и в религиозном смысле слова. В те годы так много говорилось о Боге в философских кружках и в театрах, в стихах, фельетонах, в ресторанах и гостиных, что само слово "Бог" сделалось равным всякому другому, и близкий друг Ахматовой Борис Анреп нашел для своей поэмы эпиграф в духе времени:
Да будет свет.
Бог
Богословие, всегда бывшее итогом духовного подвига, направленного к постижению Истины, широко заменялось религиозно-философскими, или этико-эстетическими, или построенными на чутье истонченных душ спекуляциями. Гумилев мог написать: "И в Евангельи от Иоанна сказано, что слово это Бог", – подставляя на место Бога – Слова Христа – слово профанное. Акмеизм назывался также адамизмом, поскольку акмеисты считали себя последователями праотца Адама, который как называл какую тварь, "так и было имя ей".
При таком смешении тайн и иллюзий, знаний и догадок, истины и мнений стало возможно сказать все, что угодно, и оправдать все, что угодно. Языческие мифы удовлетворяли принятому уровню достоверности так же – если не лучше, – как Священное писание. Как записал в дневнике Блок: "Нет, все-таки Христос", – про предводителя красногвардейцев. Лишь искусство бралось соединить эти несоединимые вещи, лишь магией искусства заново связывались в единую картину мира идолы, сброшенные сотни лет назад, и образа, снятые вольтерьянцами или ницшеанцами. "Как известно, христианство в России еще не проповедано", – любила шутить Ахматова.
Искусство, говоря ее стихами, "вклинялось в запретнейшие зоны естества" и отнюдь не чуралось контактов с мелкими и совсем немелкими бесами. О черных мессах на дому у тех или других "людей искусства" говорилось хотя и приглушенно, но уже не очень и по секрету: не то искусство прибирало к рукам дьявола, не то дьявол искусство. И революция, придав руинам духа материальные формы, как бы развеяла последние сомнения в том, что спасение только в искусстве и искусство выше всего. Искусство, оно одно, оправдывало ахматовские строки:
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом.
Оно одно разрешало назвать Блока "Демон сам с улыбкой Тамары", не утруждаясь опровержением того, что
И Пресвятая охраняла Дева
Прекрасного поэта своего.
Оно набрасывало прелестную пелену на страшные намеки, на безумное прикосновение к тому, что неприкосновенно, в "Тринадцати строчках":
И мир на миг один преобразился, И странно изменился вкус вина. И даже я, кому убийцей быть Божественного слова предстояло, Почти благоговейно замолчала, Чтоб жизнь благословенную продлить.
В ее оценках людей, при том что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему. "И ни в чем не повинен: ни в этом, ни в другом и ни в третьем... Поэтам вообще не пристали грехи", – заканчивает она гимн Поэту в "Поэме без героя". Зная, что мне этот на практике узаконивающий безнаказанность и даже провоцирующий совершение любого поступка по прихоти подход, особенно распространенный в среде артистической молодежи, чужд (я доказывал Бродскому, что поэт не смеет подвергать в стихах поруганью оставившую его подругу уже потому, что он одарен способностью сделать это наилучшим образом, а та не может ему ответить), она не касалась этой темы, разве что в разговоре при мне с третьим человеком. Но вот ее слова, записанные Лидией Чуковской: "...модернисты великое дело сделали для России... Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи..." Или о Маяковском: "Он ответил: "А к чему сейчас Хлебникова издавать?" Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе... В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он – к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. Он так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен... Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России". О Станиславском: "Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать: только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. "Жизнь" помимо театра его просто не занимала..." И то же о Маршаке: "Впервые я поняла, в чем сила этого человека: в неистовой одержимости искусством". Прочитав, я подумал было, что Ахматова употребила другое слово, для православного человека, каким она была по воспитанию, одержимость – это одержимость бесом; но вот же, о себе, о том, как накатывала на нее Поэма, она свидетельствует, что была "бесовскою черной жаждой одержима": в любом случае направленность ее пафоса ясна. И Анненского, который "весь яд впитал, всю эту одурь выпил, и славы ждал, и славы не дождался... – и задохнулся", и упал с разорвавшимся сердцем на ступени Царскосельского вокзала, убили, как можно понять из ее слов, недруги искусства, не напечатавшие вовремя его стихов.
И вот Чехов, писавший только то, что знал наверное, а то, что было сомнительно: "подсказанное чутьем", сны, догадки, – называвший сомнительным, говорит устами Нины Заречной о "святом" искусстве: "...в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть". А до нее исповедуется Тригорин: "День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю?.. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль... Итак всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший?.. Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение – все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом... Едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно..."








