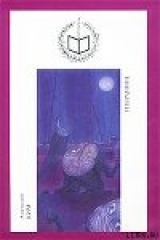
Текст книги "Близнец"
Автор книги: Анатолий Ким
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Анатолий Ким
Близнец
Роман
ГЛАВА 1
В тот день я попал в Дом писателей, увидел свои собственные похороны, и меня охватила мгновенная острая жалость, что жизнь прошла и я, оказывается, все прозевал. Уже не вернуть было тех надежд, которые давно сбылись или не сбылись, – я лежал в гробу, брезгливо сложив губы, отчего на лице с закрытыми глазами (глубокие провалы глазниц – тоже что-то новое) выразилась не свойственная мне кислая мина недовольства всем и вся в этом мире.
Гражданская панихида происходила в Малом зале Дома писателей – разряд похорон, значит, средненький, небольшое скопление народу сосредоточилось вокруг стола с открытым гробом, традиционно заваленным цветами, обреченными на бездарную скорбь кладбищенского увядания. Почетный караул из четырех человек уныло замер по углам большого гробового стола, их сменяли по истечении некоего бренного времени. Возле гроба сидели на стульях бывшая супруга усопшего и, очевидно, его дети: девочка и мальчик. К ним время от времени подходили и, наклонившись со скорбным видом, что-то тихо говорили, потом отходили. Я тоже подошел и с тайным любопытством рассматривал их вблизи: каковы они, родственники? Но ничего сказать не решился, а только поцеловал у вдовы-разводки ручку с довольно вялой кожей и молча отошел.
Затем направился к распорядителю похорон, здоровенному лысоватому малому с обличием располневшего Мефистофеля. Он, держа в руке стопку траурных повязок, мефистофельскими очами уставился на меня.
– Вы кто? – властным голосом вопросил он.
– Близнец, его брат, – отвечал я.
– А чего непохожий?
– Мы разнояйцовые, – пришлось мне объясняться в сей не подобающий случаю момент. – А такие бывают непохожими.
– Ладно. Подмените крайнего, вон того. – Движение головой с выставленным подбородком – и распорядитель сунул мне в руку черную тряпочку с тесемками.
Я стоял в почетном карауле и смотрел на самого себя, мертвого, с небывалым еще, совершенно новым чувством в душе. Многих я уже хоронил, вот так же стоял у гроба и рассматривал мало узнаваемые, как бы совсем другие лица усопших, которые при жизни никогда не выглядели столь невнятными, тупыми и бесчувственными.
Может быть, это из-за того, что были они чужими мне при жизни, а при переходе в мир иной оказывались уже абсолютно чуждыми, во веки веков непостижимыми. И всегда становилось ясным: отныне и ты им никогда не понадобишься, и они тебе. Однако, вглядываясь в свое собственное лицо, столь же глупое и неузнаваемое, я вдруг ощутил весь срок человеческий, все дни свои не прожитыми, но в одно мгновение отнятыми, выкраденными у меня. Прожить воистину не удалось, проморгал я эту великолепную возможность, стать самим собой также не удалось: слишком мало было отпущено времени для этого моему близнецу Василию.
Отстояв в почетном карауле, я не стал ждать конца панихиды, не дослушал всех подобающих случаю некрологических спичей и покинул Малый зал Дома писателей. Куда в тот день зашел совершенно случайно – надо было целый час ждать одного корейского бизнесмена, который должен был привезти для меня валюту из Банка развития. Но ждать его в офисе мне вовсе не захотелось, и я забежал в писательский клуб, находившийся неподалеку, чтобы выпить чашку кофе с рюмкой коньяка. Оказывается, тот, в которого я воплотился на этот раз, имел такую привычку – пить кофе с коньяком. В нижнем буфете клуба можно было это получить, я забежал туда и в фойе увидел траурное объявление о своих похоронах… Я и теперь прошел мимо этой афиши, обведенной черной рамкой, и на ходу вновь прочел ее, исполненную красивым плакатным шрифтом и сообщающую о безвременной кончине, постигшей писателя ВАС. НЕМИРНОГО – таково было литературное имя моего брата-близнеца.
Корейского бизнесмена я застал в его офисе – маленького господина в очках, с черными лоснящимися волосами, – благополучно получил от него семнадцать тысяч американских долларов. Теперь уже совершенно не нужные мне деньги. Которые после смерти брата я не знал, куда девать. Они были нужны Вас. Немирному для осуществления какого-то очень важного дела – не то машину-иномарку купить, не то дачу перестроить. И вот теперь он неожиданно умер, и все эти его желания превратились в ничто.
Взмутненная поверхность океана бытия, обо что ударилась капелька его жизни, мгновенно разгладилась и вновь засияла, отражая в себе яркий свет нового дня.
Неспешно продвигался еще живой на этом свете люд по широкой улице к метро «Полянка» – тысячи людей, и каждый не знал каждого, не знал самого себя, и я шел среди них и также не знал, кто я. Розоволицый кореец в очках тоже не знал меня, равно как и я его, но полчаса назад мы подписали какие-то бумаги, после чего он передал мне толстенькую пачку стодолларовых купюр.
Теперь, когда мой брат-близнец ушел из жизни, их надо было как-то потратить. Я продвигался по улице в кутерьме толпы и раздумывал об этом. Вопрос был не из легких, так как я не знал ни своих пристрастий, ни интересов, то есть мне неизвестны были интересы и привычки того человека, в которого я внедрился на этот раз. И, прежде чем его покинуть, я обязан был как-то распорядиться деньгами моего умершего брата. Потому что по непреложным законам внешнего человеческого мира деньги должны были находиться в постоянном движении, втекать во всеобщий поток и вытекать из него, переходить из рук в руки, находя все нового и нового хозяина. Я не мог выйти из-под власти этого закона и просто передать валюту вдове-разводке Вас. Немирного или его детям: не они являлись детерминированными хозяевами семнадцати тысяч долларов. В некотором роде я оказался заложником этих денег, и мне ничего не оставалось делать, как только подчиниться их воле.
Я решил путешествовать, господа, посетить некоторые места Европы. Тем более что брат-близнец при жизни больше всего хотел этого: съездить в Испанию, столь привлекательно описанную Хемингуэем, в Германию Г. Гессе, во Францию А. Камю – и так далее. Кажется, в некоторых из этих стран брат успел побывать, культурных восторгов, надеюсь, испытал немало. Но я отправился в Европу не за ними. Писателю они были нужны, наверное, но лично мне ни музеи великих художников, ни готические соборы или ампирные королевские дворцы оказались не интересны. При посещении их в душе моей рождался не интеллигентный восторг, но самая примитивная обывательская тоска. И я отправился в Европу не затем, чтобы «культурки хватануть», а просто по великой растерянности.
Первой страной, куда я решил отправиться, оказалась Испания. Я ее не выбирал специально. Мои деньги повели себя так. Они вдруг оказались в одной международной туристической фирме, где мне выдали туркарту и билеты на самолет. В группе участников тура, с которыми я встретился уже в аэропорту, полетел «Боингом» в Испанию.
И когда перелетали через Альпы – большой кусок земной поверхности, со дня творения покрытый заснеженными горными пиками, – меня заворожили эти островерхие белые вершины, зубчатые ледники на фоне синевы альпийского камня. Место это под солнцем показалось мне настолько безжизненным, холодным и прекрасным, что я тут же забыл про Испанию, куда летел, про своих спутников, с которыми познакомился совсем недавно, и захотел остаться на одной из снежных вершин самой дикой на вид пустыни Швейцарских Альп.
Разумеется, это было опрометчивым решением, господа, потому что я вскоре торчал по колено в снегу на макушке высочайшего горного пика, и вокруг, насколько хватало глаз, простиралось первозданное вздыбленное море каменных кряжей и сверкающего под солнцем вечного льда. Горизонт окрест моей вершины представлял собой сплошную неровную, остро изломанную линию ледовых зубцов, и надо всем этим безжизненным прекрасным миром безмолвно зависло голубое небо в белых облаках. Было страшновато, и от чувства безысходности, коим было пропитано все видимое пространство вокруг, сжималось в ледяной комочек сердце.
Если на моем месте оказался бы брат-близнец, то погиб бы в тот же час от холода, отчаяния и бескрайнего одиночества. Его теплое существо, изнеженное и слабое, отключенное от питающей среды человеческого общества, вмиг сморщилось бы и замерзло здесь, во вселенной холода, которую представляли сейчас окружающие горние Альпы. Но где-то, когда-то в глубине его сознания мелькнуло это сине-белое альпийское видение, и ему захотелось сюда – иначе я не оказался бы здесь. И только непонятно, когда же это было, до или после его смерти? Если верно второе предположение, то выходило, что Василий-писатель фантазирует, водит мною и по своем успении.
Но у меня было такое чувство, что и я наконец-то оказался там, куда всегда стремился. Значит, в душе мы оба стремились сюда – и здесь смыкаются наши жизненные векторы, направленные неукоснительно в пустоту и свет. Неизвестное человеческое тело, в которое я воплотился, не мешало мне, ни на что не жаловалось, находясь, очевидно, в состоянии полной свободы от земного тяготения. И мне было не на что опереться, не за что уцепиться, ничто не держало меня на земле – в моей неисповедимой свободе и невесомости. Лишь слова были еще подвластны мне, невидимые и светлые, бесплотные и теплые, – все не мои, но каждое – бесконечно родное, русское по обличию. Слова соединяют собой виртуальные миры тьмы и света – одни слова способны, наверное, достигнуть того пространства без времени, что объемлет, заключает в себе и порождает из себя тьму и свет.
Отсюда, со снежной вершины, из пустоты и неведения, я и хочу начать свою историю в словах – для тебя, мой дорогой читатель.
Находясь среди ослепительного сияния альпийских снегов, я снова прослеживаю весь ее ход. Мой земной отец, известный дипломат, увлекся в Америке, где в то время служил, идеей реституции человеческого зародыша вне материнского лона, и я был взят в виде оплодотворенного яйца от матери и помещен в стеклянную колбу. Отец любил свою жену, она была молода и красива, хрупка и нежна; желая уберечь ее от тяжелых природных мучений, он и убедил супругу передать оплодотворенный им самолично плод на выращивание в чужие руки. Но оказалось – когда меня брали, в материнском лоне осталось еще одно оплодотворенное яйцо, то бишь эмбрион будущего писателя Вас. Немирного. Поначалу этого не заметили, но по прошествии определенного времени явились все признаки беременности матери Василием. И мы с ним стали расти и развиваться параллельно, по раздельности, беременность матери обнаружилась довольно поздно, ничего против этого решено было не предпринимать, а естественным образом рождать ребенка.
Он был связан с матерью естественной пуповиной, через которую воспитывался от внешнего мира, то есть получал питание. А она физической сутью своей была прикреплена к жизни и брала от нее все материалы, вещественные и световые, для строительства будущего Василия. И он рос быстро, в состоянии невесомости вольготно плавал в материнских лонных водах, зевал и поводил головой, вытягивался всем телом, вновь сворачивался, почесывал нос кулачком, брыкался и надувал щеки. Все это было видно на дисплее контрольного аппарата, и мать видела, и отец – и они, уже заранее влюбившиеся в свое грядущее чадо, ласково прозвали его Немирной, по игре слов – фамилия отца была Мирный.
Впоследствии, как известно, «Немирной» стало писательским псевдонимом Василия.
У меня же вместо пуповины был шланг, вместо материнских лонных вод – подогретый химический раствор, и никакого строительно-питательного материала от внешней жизни ко мне не поступало. Но профессионалы искусственного выращивания плодов человеческих не знали, что у каждого эмбриона на матушке Земле есть и другая пуповина, невидимая, с помощью которой растущий плод соединен с началом, объемлющим и свет, и тьму, и жизнь, и нежизнь во Вселенной. Какая энергия оттуда поступает по невидимому каналу, неизвестно, но вестимо одно: сама идея бессмертия и все то, что проявляется в человеках как ощущение бессмертия, приходит к ним через этот путь еще в пору их зародышевого состояния.
И если материнская пуповина, соединяющая их с жизнью, строит тела эмбрионов по образу и подобию жизни, которая суть движение в пространстве и свет, то невидимая пуповина, идущая от космоса, напитывает тела чем-то таким, что, соединяясь с влажными и твердыми жизненными материалами, образует человека, взыскующего бессмертия. Но для чего он такой нужен – Бог весть.
Я же, растущий в стеклянной колбе, питался только через невидимую космическую пуповину. Материнской не знал. А по пластиковому шлангу поступали ко мне не радости, скажем, матери при виде чистого синего неба и не ее алчное удовольствие в процессе поедания соленых грибов, которые были привезены специально для нее друзьями отца из Москвы в Вашингтон. В меня накачивали растворы витаминов, белковые эмульсии и много еще разных других жидкостей. Я рос и развивался, конечно, и тельце мое благополучно формировалось на глазах у всех, но ученым медикам было неведомо, что это совсем особенное тело, с такими свойствами, о которых они и представления не имели.
Мне неизвестно, навещали мои родители меня в клинике, где я пребывал в колбе, или нет, – должно быть, навещали, допускаю это хотя бы потому, что подобный процесс детопроизводства и в те времена стоил весьма дорого, а этакое, дорогостоящее, не бросают без внимания. Деньги намертво привязывают к себе. Но все-таки матушки своей я не помню, равным образом и отца – я вообще ничего из своего прошлого не помню, я об этом прошлом могу только делать предположения. О собственном же происхождении я узнал из одного фантастического рассказа Вас. Немирного, а также из продолжительного разговора с ним, который произошел во время единственной нашей прижизненной встречи. Но об этом в следующей главе – со слов самого Василия.
ГЛАВА 2
Хотя и был назван рассказ фантастическим, но на самом деле в основе его сюжета лежит наше домашнее предание. Отец-дипломат, прослуживший лет десять в Америке при русском посольстве, однажды на даче, уже под Москвой, поведал мне семейную тайну, смахивающую на незамысловатый сюжетик для какого-нибудь бредового голливудского изделия. Оказывается, у меня где-то на свете может быть брат-близнец (то есть я, дорогой мой читатель: сейчас ты читаешь рассказ в рассказе – прием, излюбленный Вас.
Немирным), и этот брат был выращен в искусственной матке, рожден, так сказать, стеклянной колбой.
Вначале я подумал, что мой бедный папаша разыгрывает какую-то пародию, специально используя самый дешевый литературный ход, тем самым еще раз выказывая свое пренебрежительное отношение к моим писательским занятиям. По его глубокому убеждению выходило, что из такой милой пустышки, как его сын, писателя никогда не получится, зря только бумагу марает. Ведь это высокое занятие требует наличия в человеке недюжинного ума, равно большого жизненного опыта, а также солидного образования и обширных знаний в разных областях жизни. И тут папа разумел, наверное, себя, на все сто процентов оснащенного этими качествами. Однако даже он, которому есть что поведать миру, до сих пор не берется за перо, хотя и вышел уже на пенсию…
Мы в то время жили на даче вдвоем, мама умерла, я развелся, два заброшенных ленивых мужика спрятались в большом несуразном доме и пытались вести обычное существование на том уровне, на котором ведет его всякая смиренная земная тварь: птичка, зайчик, баба Нюша. Последняя была наша многолетняя домашняя работница, жившая в поселке рядом с дачей, но она состарилась, потеряла все зубы, ослабла на ноги и перестала к нам приходить.
Смерть матери, больные ноги и старость бабы Нюши, мой развод, выход на пенсию папаши – все свелось к тому, что мы с отцом оказались в дачном узилище без женского ухода, страшно опустились и жили, в сущности, в грязи и беспорядке, как свиньи.
Целое лето мы жрали одни консервы, грязную посуду не мыли и постепенно всю ее выкинули. Белье не стирали и ходили, пока было тепло, в драном заношенном спортивном трико.
С отцом я на дню почти не встречался, мы обитали в разных углах многокомнатной двухверандной зимней дачи, я целыми днями писал, вернее, пытался писать, папаша не знаю, что делал, – у него был свой, не известный мне, распорядок дня. Лишь время от времени я слышал звуки телевизора, доносившиеся с его половины дачи… И вдруг однажды он появляется – уже под вечер, в сумерках, когда я, приготовив с помощью электрокипятильника чай, прихлебывал его из кружки и читал старый журнал при свете настольной лампы. Отец пришел ко мне, чтобы объявить, как говорится, неожиданную весть.
Я не знал, что мне думать по этому поводу. Поначалу решил: отец разыгрывает меня, но внимательно присмотрелся к нему и понял, что все гораздо серьезнее. Или он из-за смерти супруги и случившейся почти одновременно с этим отставки всего кабинета министров и его собственной слегка тронулся умом, и в отцову поехавшую крышу вселился какой-нибудь фантастический Карлсон из телевизора. Или…
– Ну и куда он делся? – первое, что спросил я.
– Очевидно, его выкрали, – был ответ.
– Кто? Кому это понадобилось?
– Причины так и остались невыясненными. Следствие было проведено самое тщательное, на уровне ЦРУ. Но, кроме самого факта исчезновения ребенка, ничего больше не удалось установить.
– Хорошо… Ну а вам-то зачем понадобилось делать это?
– Не понимаю… Что делать?
– А вот – рождать ребенка через колбу.
– Причин было несколько. Первая – у меня там, в Америке, имелась валюта. Ее все равно надо было использовать, потому что в то время валюта в нашей стране не распространялась. Ты ведь знаешь, держать ее запрещалось, и всю ее надо было сдавать государству.
Тогда эмбриональная реституция стоила пятнадцать тысяч долларов, такие деньги у меня имелись. Вторая причина – это здоровье твоей мамы. Некоторые особенности ее конституции вызывали у врачей беспокойство – как она сможет перенести роды. Во всяком случае, мне сказано было, что не просто. И это подтвердилось, когда рождался ты.
– Была еще какая-нибудь причина?
– Была… Мне не хотелось, чтобы с кровью, молоком матери ребенку передалось чувство тотальной неполноценности. Поясняю. Я уже тогда понимал, впрочем, как и многие у нас, что цель нашего замечательного общества недостижима. Мы все должны были жить и работать для неосуществимого. А это порождало в нас, в наших генах опасные мутации. Мы никому не верили, не верили самим себе. Надежда в нас умирала первой. У нашего человека не хватало личных сил, чтобы добиваться своей цели, и мы все – всё население нашей страны, все до единого – обречены были стать неудачниками. Что и произошло, ты же видишь…
– Значит, как я понимаю, ты решил вырвать своего будущего ребенка из тоталитарного болота. Так? Дать ему шанс родиться человеком, не обреченным заранее на неудачу…
– Да, сын.
– А я? Я, значит, был изначально обречен?
– Это вышло случайно. Очевидно, все в жизни выходит случайно…
Не предполагалось ведь, что еще одно яйцо окажется оплодотворенным. Судьбе было угодно, что выбор пал на твоего брата-близнеца.
– А был ли мальчик, папа?
– Был. Он родился – или как это назвать? – совершенно нормальным и здоровым одновременно с тобой. Решено было на какое-то время оставить его в клинике, чтобы понаблюдать за ним. Это оказался абсолютно полноценный ребенок, он быстро набирал вес и развивался хорошо. Одна только обнаружилась особенность – он никогда не плакал. И самым диким образом сосал свой большой палец на правой руке. Но говорили, что это ничего – проявление орального инстинкта. Ведь грудь-то материнскую ему, бедняжке, не пришлось сосать.
– А я плакал?
– Ужасно. День и ночь – развивал легкие. Молока у мамы не оказалось, для тебя нашли кормилицу, негритянку, потом перевели на искусственное питание и отвезли в Москву вместе с матерью. А я вернулся в Вашингтон и часто навещал того, другого, твоего брата-близнеца. Мне показывали его под прозрачным колпаком, но на руки не давали.
– Он был похож на меня?
– Нет, совсем не похож. Вы же разнояйцовые.
– Хорошенький был братец-то?
– У младенцев не поймешь… Но мне кажется, красивый был мальчик. Когда вам стало по четыре месяца, вдруг мне сообщают, что тот пропал из клиники. Унесли из-под стеклянного колпака.
Кому это было нужно, зачем – так и осталось невыясненным.
Клиника обязана была возместить все наши издержки плюс страховка и моральная компенсация. Получалась очень серьезная сумма, целое состояние. Деньги должны были выплачиваться, как только будут установлены «факты смерти или рассечения» нашего ребенка. Если ничего такого не подтвердится, то выплата будет производиться по частям. Первая – через десять лет после заявленного страхового случая: возмещение издержек… Вторая – половина всей суммы – еще через десять лет. Ну и оставшаяся сумма должна была выплачиваться мне, матери или тебе, брату, ровно через двадцать пять лет. Так вот, сынок, эти двадцать пять лет давно уже прошли, как понимаешь.
– И ты получил деньги, папа?
– Нет. Тогда было нельзя и ни к чему. Теперь настали другие времена. Доллар наконец-то пришел и в нашу страну.
– Так за чем же дело стало, папа?
– Ты, в сущности, меня не знаешь. Пожалуй, и я тебя как следует не знаю… Ну и пусть все так и остается теперь. Мне не хочется тебе ничего объяснять. Просто хочу сказать, что, когда я умру, ты сможешь получить эти деньги. Лично мне они не нужны.
– Спасибо, папа. Выходит, я богат за счет своего брата?
– Деньги положены на счет в отделение южнокорейского Банка развития, действовавшего в Америке. С этим банком работала тогда клиника, в которой находился твой брат.
– Но прежде всего было бы неплохо попытаться найти моего брата.
Как его зовут, кстати?
– Мы с мамой так и не успели дать ему имя… И тебя-то мы до трех месяцев никак не могли назвать, все спорили и спорили между собой. Уже в Москве назвали. А до Москвы именем твоим было – Немирной Татарин. Так мама называла тебя за буйный характер и за азиатские черты, какие проявились на твоем лице в младенчестве.
Впрочем, со временем они совершенно изгладились… А брата твоего найти было невозможно – прошло уже больше тридцати лет, как он исчез.
Этот необычный во всех смыслах разговор состоялся за год до кончины отца и за восемь лет до моей собственной смерти. Из-за особенностей наших отношений, в которых издавна, от самых моих розовых отроческих лет, главным содержанием было взаимное отчуждение, семейный разговор можно посчитать воистину необычным, спокойным, задушевным даже. Но после его завершения, когда отец ушел, угрюмо сутулясь, на свою половину дачи, ничто не изменилось в наших отношениях. Мы по-прежнему почти не общались, и пресловутый русский конфликт «отцов-и-детей» ничуть у нас не заржавел.
Потом я уезжал на полгода в Германию, выиграв благотворительный грант и получив возможность поработать в городе Марбурге. Это время и выбрал папа для того, чтобы покинуть наш мир, не особенно устраивавший его. В котором у него не сбылись, очевидно, какие-то лучшие его служебные надежды. И не оставил он мне ни банковской книжки, ни указаний номера счета и реквизитов того корейского банка в Америке, в котором лежали деньги за моего пропавшего брата-близнеца.
Похоронив отца, Василий решил похоронить и саму мысль получить когда-нибудь мистические деньги, о коих говорил отец, посчитав их болезненной телевизионной фантазией старого дипломата, которого на высшем пике служебного восхождения взяли и вышвырнули в отставку. Да и сама идея существования где-то на свете близнеца из стеклянной колбы была отправлена Вас. Немирным в отряд бредовых. Таким образом он похоронил вместе с отцом и своего мифического брата-близнеца – то бишь меня, господа!
Но мы все же встретились, две половинки одной души, два близнеца, рожденные порознь, и это произошло в промежутке времени между двумя смертями: отцовой и моей собственной. К тому времени вдруг выпал редкий успех произведениям Вас. Немирного, их взлет и вознесение на гребень нового литературного вала.
Который прокатился сразу же вслед за объявленной свободой слова и отменой цензуры в России. Вас. Немирной вместе сотоварищи счастливо постиг тогда две вещи: что теперь сколько угодно можно пользоваться матерными словами в тексте и что наивысшим критерием художественности становится интрига непонятности. Чем меньше содержания и смысла в тексте и единовременно с этим чем сложнее и загадочнее он составлен, тем больше понравится критикам и будет ими восхвален. Немирному, все хорошо рассчитавшему, сопутствовало еще и везение – его заметили западные друзья русской литературы, которые тем охотнее хотели дружить с ней и покровительствовать, чем больше в ней выражалось реальной грязи и правдивого ничтожества русской жизни. За это они охотно платили небольшие деньги.
И очень скоро он стал в некотором роде культовой фигурой – критики придумали некое словечко, обозначающее новое литературное направление, сами же определили его признаки и вписали туда несколько фамилий – Вас. Немирной оказался среди самых первых, бесконечно повторяемых. Я очень скоро почувствовал, какие выгоды приносило мое новое положение – меня начали печатать в толстых журналах, издавали в самых модных новых издательствах, моя породистая физиономия стала мелькать на экранах телевизоров, меня приглашали в заграничные поездки в разные страны – от «А», как говорится, до «Я»…
Но вот однажды звонок по телефону, я отвечаю вальяжно, сытым голосом вальяжного мандюка, каковой полагает, что никогда не заболеет, побираться с сумою не будет, в тюрьму не сядет:
– Слушаю вас.
– С вами говорит подполковник КГБ (такой-то). Я курирую Союз писателей. – Внезапно словно сыпануло на меня угольной крошкой, не сгоревшей до конца в адских топках, – отметило, настигло…
– Понятно. Что от меня требуется? – слишком непринужденным тоном, стараясь не сбиваться с него, отвечал я, выросший в семье дипломата, с молоком матери усвоив необходимость самообладания и особого ведения разговора с представителями «органов».
– Пока что встретиться и поговорить.
– А что я такого сделал, можно узнать? – Это была первая ошибка, за которой традиционно последуют и вторая, и третья…
Накатанная миллионами людей дорога неукоснительных ошибок, в конце приводящая под лагерную вышку или к «вышаку» через расстрел.
– Да не бойтесь, ничего вы не сделали, – стали меня успокаивать.
– Мне бояться нечего, – взяв себя в руки, сухо ответил я. Уже были другие времена. Цензуру отменили…
– Правильно. Я повторяю: мне нужно просто с вами встретиться и поговорить.
– Что ж, пришлите повестку, назначьте время, – стал я наглеть. Пусть все будет так, как это положено.
– Не так, не так, Василий Викторович! – почти что заволновались на том конце провода. – Я предлагаю по-другому. Встретимся завтра в гостинице «Минск», двести одиннадцатый номер, одиннадцать тридцать утра… Сможете?
– Завтра? Дайте соображу… Завтра… – забормотал я, как бы глубоко задумавшись. На самом деле я ни о чем не думал – не мог; я пребывал в оцепенении нутряного ужаса, который тоже был всосан с молоком матери. – Хорошо, завтра у меня время найдется, – дал я согласие, принимая тон снисхождения – что опять было ошибкой; ибо мне уже самому было слышно, что я фальшивлю.
Назавтра в «Минске» в номере 211 мы встретились, и я в гражданском костюме, при галстуке приветствовал крепким рукопожатием самого себя – писателя Вас. Немирного, в кожаной курточке, с маленькой, кожаной же, кепочкой на голове… Из нас двоих один был обычный человек, рожденный матерью и через ее пуповину получивший весь жизненный материал для своего телесного устроения. Другой – подполковник КГБ (такой-то), и в нем я, который ничего такого не получал в зародышевом состоянии, и мое формирование происходило на материале, поставляемом через незримую пуповину напрямик из той суперначальной пустоты, которую древний китаец Лао-цзы обозначал понятием дао.
В московском людском скопе существовал работник госбезопасности (имярек), может быть, благополучно существует и сейчас, господа.
Однажды, спускаясь по лестнице в нижний буфет Дома писателей, Василий увидел атлетически сложенного, как говорится, лысоватого, холеной наружности блондина, который стоял в дверях бильярдной, расположенной в полуподвале, курил и как-то по-особенному, не так, как другие, внимательно посматривал на него.
И минутой позже прозаик Анатолий Шерстянкин, очкастый бородатый человечек, который в тот раз вслед за мной спускался в буфет, просветил меня: встреченный нами у бильярдной господин есть офицер КГБ, поставленный надзирать над писателями в их московском Союзе. Но в достопамятный день увиделся с Вас.
Немирным не этот офицер, а иное существо – это был я, внедренный в гэбэшника, обладающий природными свойствами, каковых не имелось ни у него, ни у моего брата-близнеца.
Что это за свойства, вы узнаете в следующей главе, теперь же хочу вкратце передать начало долгого разговора, что произошел между писателем и подполковником.
– Вы ведь родились в Америке?
– Да. В Вашингтоне.
– У вас имеется брат-близнец. Знаете об этом?
Я ничего не ответил; долго-долго молчал. Я не знал, что отвечать. Мне было страшно. Этот внутриутробный гнусный страх парализовал мою волю и заступорил мозги.








