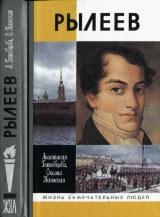
Текст книги "Рылеев"
Автор книги: Анастасия Готовцева
Соавторы: Оксана Киянская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Все эти «утешительные», «питающие» узника мысли – о противостоянии «земного» и «небесного», о тщете всего мирского, о необходимости жертвы ради торжества Бога, об очищающей силе страдания – можно увидеть в последнем цикле рылеевских стихов.
* * *
Михаил Сперанский, переведший книгу «О подражании Христу», был и автором текста, определившего судьбу Рылеева, – приговора участникам тайных обществ. Рылеев по приговору объявлялся виновным в том, что «по собственному его признанию, умышлял на цареубийство, назначал к свершению оного лица, умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуготовлял к тому средства, усилил деятельность Северного общества, управлял оным, приготовлял способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинить Манифест о разрушении правительства, сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал членов, приуготовлял главные средства к мятежу и начальствовал в оных, возбуждал к мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь»{834}.
По «силе вины» заговорщики были разделены на 11 разрядов. Вне разрядов оказались Рылеев и еще четверо заговорщиков, которых «по тяжести их злодеяний» нельзя было сравнить с остальными. В общем списке подсудимых его фамилия стояла второй, силой «злодеяний» он уступал только Павлу Пестелю. Во «внеразрядную» группу вошли также Петр Каховский и активные участники южного заговора Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Верховный уголовный суд решил, что «за преступления, сими лицами соделанные, на основании воинского устава (1716 года) артикула 19» следует «казнить их смертию, четвертовать»{835}.
Однако, как известно, император с таким приговором не согласился. Генерал Дибич сообщил председателю суда князю Лопухину, что «его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную»{836}. Четвертование было заменено повешением. 12 июля в Комендантском доме Петропавловской крепости приговор был объявлен осужденным. Несколько часов спустя, в ночь на 13 июля, он был приведен в исполнение. Местом совершения казни стал вал крепостного кронверка – дополнительного фортификационного укрепления за крепостными стенами.
Перед смертью Рылеев написал жене письмо, проникнутое всё теми же религиозными мыслями: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть, и умереть смертию позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись Богу, Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя; это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды непостижимого? Я ни разу не возроптал во всё время моего заключения, и за то Дух Святый дивно утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином. Благодарю моего создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе»{837}.
Через два дня после казни князь Голицын сообщал коменданту крепости, генералу Александру Сукину: «…государь император указать соизволил, чтобы образ, бывший в каземате у Рылеева, и письмо, им писанное к жене, вы доставили ко мне для возвращения жене»{838}.
Эпилог.
«НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОДЕРЖАТЬ СЕМЕЙСТВО»
«...13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го… По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле… Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные», – писал в записной книжке князь Вяземский, помогавший Рылееву издавать альманах «Полярная звезда», публиковать «Думы» и «Войнаровского». О том, под каким сильным впечатлением от казни заговорщиков находился князь, свидетельствует его письмо жене: «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а всё прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место»{839}.
Казнь была мероприятием публичным: на ней присутствовали специально приглашенные зрители – сотрудники иностранных посольств, гвардейский генералитет, сводные батальоны и эскадроны гвардейских полков, военный оркестр, а также случайные зрители. Осужденных вешали под специфическое музыкальное сопровождение: при их появлении под виселицей военные барабанщики ударили «тот же бой, как для гонения сквозь строй», и эти звуки сопровождали смертников до самого конца{840}.
Император Николай I, лично придумавший процедуру казни, вряд ли преследовал лишь цель наказать виновных и обеспечить должные «тишину и порядок». Естественно, что столь тщательно разработанная церемония была призвана подчеркнуть незыблемость российского самодержавия. Она имела и воспитательное значение. Согласно изданному в день казни императорскому манифесту, «вменять… кому-либо в укоризну» родство с преступниками было строжайше запрещено{841}. Однако в войсках, стоявших перед крепостью, было много родственников, друзей и знакомых осужденных; по повелению императора все они поневоле стали палачами. Вне зависимости от политических взглядов, их отношения к произошедшим событиям участие этих людей в казни было несовместимо с понятием дворянской чести. Завоевав доверие новой власти, они лишились морального права на какие бы то ни было оппозиционные действия в дальнейшем.
Следует отметить, что у тех, кого власть определила в участники процедуры казни, был выбор. В принципе от этого можно было отказаться – и тем навсегда утратить доверие императора. Так, один из осужденных к каторжным работам, Александр Муравьев, вспоминал: «…бедный поручик, сын солдата, георгиевский кавалер, уклонился от приказа, который был ему предписан, – сопровождать на казнь пятерых приговоренных к смерти. “Я честно служил, – сказал этот человек с благородным сердцем, – и на склоне лет не хочу быть палачом людей, которых я уважаю”. Граф Зубов, кавалергардский полковник, отказался возглавить свой эскадрон, чтобы присутствовать при казни. “Это мои товарищи, и я не пойду”, – был его ответ»{842}.
Однако далеко не все из тех, кому было приказано участвовать в процедуре казни, повели себя подобно «бедному поручику» и Александру Зубову – внуку Суворова, вынужденному вскоре выйти в отставку{843}. Впоследствии наиболее серьезные нравственные претензии у современников возникли к офицерам гвардейского Павловского полка, который по распоряжению императора конвоировал преступников к месту казни.
* * *
История одного из офицеров-павловцев, ставшего командиром конвоя, столь же интересна, сколь и поучительна – в аспекте методов, которыми власть в лице императора и его приближенных добивалась офицерской лояльности.
Осужденный на бессрочную каторгу Евгений Оболенский на закате дней вспоминал, что в ночь на 13 июля видел через окно «взвод Павловских гренадер и знакомого мне поручика Пальмана» и пятерых смертников, «окруженных гренадерами». Те же солдаты под командованием того же офицера потом сопровождали осужденных на каторжные работы к месту проведения церемонии гражданской казни. Согласно воспоминаниям другого приговоренного к каторге, Андрея Розена, павловскими гренадерами, выстроившимися в каре, внутри которого проходил обряд гражданской казни, командовал «капитан Польман». А один из полицейских, помощник квартального надзирателя, рассказывал впоследствии: «Когда их (пятерых смертников. – А. Г., О. К.) установили, мы пошли в таком порядке: впереди шел офицер Павловского полка, командир взвода, поручик Пильман, потом мы пятеро в ряд с обнаженными шпагами. Мы были бледнее преступников и более дрожали, так что можно было сказать скорее, что будут казнить нас, а не их. За нами шли в ряд же преступники. Позади их двенадцать павловских солдат и два палача»{844}.
Оболенский называет командира конвоя поручиком Пальманом, Розен – капитаном Польманом, помощник квартального надзирателя – поручиком Пильманом. Однако из документов и, в частности, из полковой истории следует, что 13 июля 1826 года осужденных сопровождал на смерть штабс-капитан Павловского полка Василий Петрович Польман.
* * *
В РГВИА удалось обнаружить документы, проливающие свет на биографию Василия Польмана. Согласно послужному списку, летом 1826-го ему было 34 года; следовательно, родился он в 1792-м. Происходил Польман «из дворян», службу начал в Тверском батальоне, созданном в июле 1812 года и снаряженном на личные средства великой княгини Екатерины Павловны. Василий Польман, тогда двадцатилетний молодой человек, откликнулся на патриотический призыв великой княгини и с 22 августа числился в этом батальоне юнкером{845}.
В первый же год службы судьба свела его с одним из тех, кого спустя 14 лет он конвоировал на эшафот, – с Сергеем Муравьевым-Апостолом. «Несколько дней тому назад, – писал Муравьев отцу 18 ноября 1813 года, – была здесь великая княгиня Катерина Павловна, шеф нашего батальона, мы все имели счастие у ней обедать. Она со всеми говорила и благодарила нас за наше хорошее поведение во все время, и даже сказать изволила, что мы честь делаем ее имени, и что государь император в награждение за наши труды приказать изволил, чтобы мы с гвардией вместе остались»{846}. События, о которых идет речь, происходили в тот момент, когда активные военные действия закончились, а батальон квартировал в прусском местечке Ганау.
Семнадцатилетний автор письма был только что произведен в капитаны – за храбрость в лейпцигской Битве народов. Муравьев-Апостол был моложе Польмана на четыре года, однако к тому времени уже успел два года отучиться в Институте корпуса инженеров путей сообщения, в составе инженерных частей повоевать под Бородином и Малоярославцем. В отряде своего родственника графа Адама Ожаровского Сергей Муравьев принимал участие в партизанских действиях под Красным, участвовал в переправе через Березину.
Польман, подобно Муравьеву-Апостолу, воевал храбро: за отличие под Люценом он получил чин прапорщика, за Кульм был награжден орденом Святой Анны 4-й степени, за храбрость, проявленную в Битве народов, произведен в подпоручики{847}. Вскоре оба они (как, впрочем, и другие офицеры батальона) были переведены в гвардию: по высочайшему приказу от 1 марта 1815 года Польман стал прапорщиком Павловского полка, а Муравьев-Апостол – поручиком Семеновского полка.
Естественно, что, прослужив после войны больше десяти лет в гвардии, в столице, Польман не мог не знать или хотя бы не слышать о Рылееве – знаменитом поэте, о чьих вольнолюбивых стихах говорил тогда весь Петербург. И точно известно, что он очень хорошо знал Евгения Оболенского, с которым состоял в 3-й гренадерской роте Павловского полка{848}.
Оболенский, в отличие от Муравьева-Апостола и Рылеева, в 1826 году остался жив – его спасли принадлежность к титулованной российской знати, родство и знакомство с влиятельными сановниками. Вина тридцатилетнего князя была вполне соотносима с виной Муравьева: он был одним из главных организаторов событий 14 декабря на Сенатской площади. После неявки на площадь Сергея Трубецкого Оболенский пытался руководить мятежными полками. В пылу мятежа именно он нанес штыковой удар генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу; возможно, что именно эта рана, а не нанесенная пулей Каховского, оказалась смертельной. Всего нескольких судейских голосов не хватило для того, чтобы Оболенский стал шестым приговоренным к повешению. Он был осужден на пожизненную каторгу.
Офицеры-павловцы не любили Оболенского, в феврале 1820 года убившего на дуэли их сослуживца, восемнадцатилетнего прапорщика Петра Свиньина. Об обстоятельствах этого поединка в документах сохранились лишь глухие упоминания, зачастую опровергающие друг друга. Согласно обобщенным сведениям, собранным Павлом Пестелем, «вследствие разлада между некоторыми офицерами полка» Оболенский «был принужден драться с одним из товарищей и имел несчастье убить его. Но его величество государь нашел причины настолько значительными и поведение молодого человека настолько хорошим, что ему ничего не сделали и даже не посадили под арест». После дуэли Оболенский решил сменить место службы. Пестель хлопотал о его переводе во 2-ю армию{849}. Однако в итоге он был переведен в лейб-гвардии Финляндский полк и перешел на адъютантскую должность.
Естественно, дуэль Свиньина и Оболенского и последовавшие за ней события не прошли мимо Дольмана, служившего с Оболенским в одной роте. Офицеры-павловцы, в отличие от императора, не поддержали будущего организатора восстания; их симпатии были на стороне убитого Свиньина. Однако нелюбовь к Оболенскому, а также верноподданнические чувства, которые наверняка испытывал Польман, не могут объяснить, почему он согласился стать палачом.
* * *
Документы свидетельствуют: Польман был беден, и это обстоятельство оказалось для него роковым.
Девятого июня 1826 года, когда вряд ли кто-то из непосвященных в тайну следствия и суда мог предположить, чем закончится громкий политический процесс по делу о «злоумышленных обществах», штабс-капитан написал императору Николаю I письмо с рассказом о собственных «стесненных» обстоятельствах:
«Имев несчастие вскоре после потери отца испытать таковую же потерю и матери, тем более для меня тягостную, что она при беднейшем ее состоянии пеклась о содержании и воспитании трех сестер и малолетнего брата, оставшихся ныне без собственного пристанища и без родственников, к коим бы они в настоящем их положении могли прибегнуть, я как старший в семействе обязан принять на себя священный долг иметь о них попечение и не предвижу к сему иного средства, как токмо присоединить их к себе, но, не имея ни малейшей возможности содержать здесь таковое семейство, осмеливаюсь, Всемилостивейший Государь, повергнуть участь мою с тремя сестрами и одним малолетним братом Высочайшему Вашему воззрению и покровительству, умоляя Ваше императорское величество благостию к Вашим верноподданным всемилостивейшее повелеть: снабдить меня заимообразно выдачею пяти тысяч рублей на десять лет без процентов.
Сие благодеяние будет само по себе великим для семейства сирот и запечатлеется в них вечною благодарностию. Что же касается собственно до меня, то я, сверх утешения видеть благосостояние их, буду иметь счастие оставаться в настоящем служении моем до тех пор, доколе оно будет угодно Вашему императорскому величеству»{850}.
Однако эта частная просьба пересеклась с соображениями государственной важности. За три дня до прошения Польмана император Николай I писал брату Константину: «Затем последует казнь – ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания»{851}. До вынесения приговора оставалось еще три недели, до объявления его заключенным – почти месяц.
Очевидно, что неминуемость казни хорошо осознавали высшие чины Гвардейского корпуса. По-видимому, задолго до этой мрачной церемонии было решено, что конвойные обязанности исполнит гвардейский Павловский полк, на Сенатской площади проявивший полную лояльность императору.
И послание Польмана решили, по-видимому, придержать.
Ему был дан ход только 11 июля. Командир Гвардейского корпуса генерал Воинов представил копию письма и послужной список штабс-капитана военному министру Татищеву с аттестацией: «…как свидетельствует полковой командир флигель-адъютант полковник Арбузов, по отлично усердной службе и совершенно расстроенным семейным обстоятельствам, заслуживает испрашиваемой им монаршей милости». Очевидно, принципиальное согласие Польмана руководить конвоем было достигнуто как раз в этот день{852}.
Казнь состоялась спустя два дня.
* * *
Около двух часов ночи конвой под командованием Польмана вывел осужденных на смерть из тюремных камер и разместил в одном из земляных помещений под валом, на котором стояла виселица. Здесь они пробыли около полутора часов: в три часа ночи на территории кронверка начался и продолжался в течение часа обряд гражданской казни. Кроме того, виселицу к нужному моменту достроить не успели. Очевидец рассказывал: «Эшафот был отправлен на шести возах и неизвестно по какой причине вместо шести возов прибыли к месту назначения только пять возов; шестой, главный, где находилась перекладина с железными кольцами, пропал, потому в ту же минуту должны были делать другой брус и кольца»{853}.
В ожидании окончания строительства приговоренных расковали, переодели в смертническую одежду (длинные белые рубахи с черными кожаными квадратами на груди, на которых были написаны фамилии осужденных, и с капюшонами, закрывавшими лица), их собственную одежду сожгли на костре. Затем их связали веревками (по другим свидетельствам – кожаными ремнями). Выведя под виселицу, их поставили на колени, еще раз прочли приговор, а затем подняли на эшафот.
Но исполнение приговора опять пришлось задержать – «за спешностию виселица оказалась слишком высока или, вернее сказать, столбы ее недостаточно глубоко были врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей». Пришлось брать «школьные скамьи» из находившегося неподалеку здания училища торгового мореплавания. Скамьи были поставлены на доски, преступников втащили на скамьи, надели им на шеи петли, а капюшоны натянули на лица{854}.
Еще одно промедление в исполнении смертного приговора произошло оттого, что не выдержали нервы у палача. По свидетельству одного из полицейских чиновников, когда тот «увидел людей, которых отдали в его руки, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, он обессилел и упал в обморок. Тогда его помощник принялся вместо него за исполнение этой обязанности»{855}.
Однако «когда отняли скамьи из-под ног, веревки оборвались, и трое преступников… рухнули в яму»{856}. Среди возможных причин падения с виселицы свидетели называют также плохо затянутые на шеях осужденных веревочные узлы. Согласно официальной версии, с виселицы сорвались Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол. Сорвавшиеся сильно разбились при падении, однако находились в сознании.
Большинство свидетелей запомнили этот момент как самый тяжелый во всей процедуре исполнения смертного приговора.
Не выдержал этого зрелища, в частности, генерал Александр Бенкендорф – один из следователей по делу о тайных обществах, будущий шеф российской тайной полиции. Мемуарное свидетельство сохранило рассказ присутствовавшего при казни протоиерея Мысловского: «…видя, что принимаются снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить», Бенкендорф воскликнул: «Во всякой другой стране…» и оборвал себя на полуслове{857}. По воспоминаниям Николая Лорера, «чтоб не видеть этого зрелища», Бенкендорф «лежал ничком на шее своей лошади»{858}. Однако столичный генерал-губернатор Павел Голенищев-Кутузов, занявший эту должность после смерти Милорадовича, отдал приказ о повторном повешении.
Но починить виселицу в кратчайшие сроки не удалось: «Запасных веревок не было, их спешили достать в ближних лавках, но было раннее утро, всё было заперто; почему исполнение казни еще промедлилось»{859}.
Существует множество свидетельств о том, как вели себя сорвавшиеся с виселицы смертники, ожидавшие повторной казни. В частности, источники фиксируют диалог Рылеева с Голенищевым-Кутузовым:
«Весь окровавленный Рылеев… обратившись к Кутузову сказал:
– Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется; вы видите – мы умираем в мучениях».
На возглас Кутузова «Вешайте их скорее снова» Рылеев ответил: «Подлый опричник тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз»{860}.
Некоторые мемуаристы приписывают этот разговор с Голенищевым-Кутузовым Каховскому. По свидетельству Ивана Якушкина, осужденного в 1826 году на каторгу, «Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова»{861}. Есть и свидетельство о том, что Рылеев, у которого при падении «колпак упал и видна была окровавленная бровь и кровь за правым ухом», сказал подошедшим к нему полицейским: «Какое несчастье!»{862}
Когда виселица была готова, троих сорвавшихся повесили вторично. «В таком положении, – сообщает очевидец, – они оставались полчаса, доктор, бывший тут, объявил, что преступники умерли»{863}. Однако другой наблюдатель сообщает, что «через три четверти часа» после повторного повешения «било 6 часов, и тела не смели висеть долее сего срока; сняли, внесли в сарай; но как они еще хрипели, то палачи должны были давить их, затесняя (затягивая. – А. Г., О. К.) петли руками»{864}.
* * *
Казнь на валу кронверка Петропавловской крепости впоследствии была многократно описана в мемуарах. Вспоминали об этом событии многие – даже те, кто не был ее непосредственным свидетелем, а слышал рассказы от родных, друзей или знакомых.
Правда, штабс-капитан Польман, до конца стоявший рядом со смертниками и видевший и возведение на эшафот, и повторное повешение, и снятие казненных с веревок, – вспоминать произошедшее не захотел. Для этого у него были свои основания: 21 июля, спустя неделю после казни, «государь император, снисходя на всеподданнейшее прошение штабс-капитана лейб-гвардии Павловского полка Польмана, высочайше повелеть соизволил выдать ему заимообразно на 10-ть лет без процентов 5 т. руб. ассигнациями»{865}. О том, как сложилась жизнь штабс-капитана и его семьи после 13 июля, стало ли его семейство счастливым и богатым или продолжало жить в бедности, сведений обнаружить не удалось.
Конечно, трудно упрекать Польмана, кормильца большого семейства, за его поведение в июле 1826 года. Однако частная судьба этого офицера ставит перед изучающими российскую историю вечный вопрос о пределах допустимого и в служебной деятельности, и в частной жизни. Что лучше – быть казнящим во имя вполне здравых, рационалистических целей, во имя благополучия семьи и блага государства – или казнимым во имя лучшего будущего? В советское время ответ на этот вопрос был однозначным. Сегодня каждый решает его для себя.







