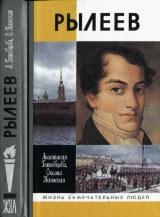
Текст книги "Рылеев"
Автор книги: Анастасия Готовцева
Соавторы: Оксана Киянская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Споры Пушкина с Рылеевым и Бестужевым многократно проанализированы исследователями. Большинство из них видели в этих спорах столкновение традиционно-романтической эстетики составителей «Полярной звезды» с пушкинской «народностью» и «истинным романтизмом»{492}. Нужно признать, для Пушкина спор этот действительно имел большое теоретическое значение. Однако вряд ли Бестужев, составляя свои обзоры, не знал фактов, которыми оперировал его оппонент; вряд ли он не понимал смысла современной ему литературы, которая строилась преимущественно по патерналистской модели. К покровительству властей прибегали его коллеги-литераторы: Греч, Булгарин, Свиньин, Рылеев. Сам Бестужев через тех же Греча и Рылеева в полной мере успел воспользоваться этими связями.
Очевидно, что смысл задевших Пушкина высказываний критика, как и большинства других его парадоксов, состоял вовсе не в доказывании истины. Бестужев старался привлечь внимание читателя оригинальностью своих суждений и тем самым зафиксировать собственную претензию на первенство в российской критике. В этом смысле его обзоры достигли цели: тот же Пушкин, страдавший в Михайловском от отсутствия интеллектуальной среды, с нетерпением ждал их. Поэт считал, что его оппонент безусловно «достоин» создать российскую критику{493}.
* * *
Три бестужевских обзора давно и хорошо изучены: все они представляют собой вариации на тему «упадка» отечественной словесности. В первом автор рассуждает о его причинах в историческом ключе, во втором и третьем утверждает, что причины эти – в том, что современная литература не связана с политикой, не интересуется общественными проблемами. При этом Бестужев, конечно, лукавит: тогдашняя литература не говорила практически ни о чем другом, кроме общественных проблем. Очевидно, эта мысль не была для критика главной; провозглашая необходимость политизации литературы, он намеренно придавал своим статьям больше веса, добивался большей популярности у читателей.
Вообще содержание бестужевских обзоров вызывало недоумение и у современников, и у позднейших исследователей. Так, Карамзин, прочтя первый из них, отметил: «Обозрение русской литературы написано как бы на смех, хотя автор и не без таланта, кажется»{494}. А историк литературы Н. А. Котляревский констатировал: у Бестужева «нет никакого критического масштаба; он не разделяет ни школ, ни направлений в словесности, он лишь кое-где… верно схватывает основной мотив творчества поэта». Бестужевские характеристики деятелей отечественной словесности Котляревский назвал «сборником сентенций» и отметил, что «главное значение» в его статьях имела «публицистическая тенденция»{495}.
Котляревский прав: критические статьи в «Полярной звезде», при всей их литературной направленности, решали внелитературную задачу К примеру, сторонники «партии Жуковского», мыслившие одним из своих главных противников автора «Липецких вод» Шаховского, искали в обзорах Бестужева продолжение критики пьесы – однако встречали нейтрально-положительный отзыв: «Князь Шаховской заслуживает благодарность публики, ибо один поддерживает клонящуюся к разрушению сцену». Сам Жуковский тоже заслужил положительный отзыв критика: «Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы как знакомцев встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим былое»{496}.
Столь же объективным оказался Бестужев и в оценке двух главных эстетических антагонистов эпохи – Николая Карамзина и Александра Шишкова. С Карамзиным ассоциировался «легкий» литературный слог, наполненный заимствованиями из иностранных языков; Шишков же с его книгой «О старом и новом слоге российского языка» противостоял Карамзину, стремясь очистить русский язык от иноземных влияний. Знаменитое «корнесловие» Шишкова базировалось на идее замены слов с иностранными корнями русскими аналогами. С его именем у современников ассоциировались литературное «староверство» и политический консерватизм в аракчеевском духе. Конечно же читатели были вправе предполагать, что, коль скоро Бестужев в ранних статьях критиковал эстетически близких к Шишкову Шаховского и Катенина, образ мыслей Шишкова тоже будет раскритикован. Однако и здесь их ждало разочарование.
Конечно, Бестужев отдавал должное Карамзину: «Он преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков… долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее»; «там (в «Истории государства Российского». – А. Г., О. К.) видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования»{497}.
Однако и Шишков удостоился безусловной бестужевской похвалы: «Когда слезливые полурусские Иеремиады наводнили нашу словесность, он сильно и справедливо восстал противу сей новизны в полемической книге “О старом и новом слоге”. Теперь он тщательно занимается родословною русских наречий и речений и доводами о превосходстве языка славянского над нынешним русским». Вообще языковые пристрастия Бестужева угадать из его статьи достаточно сложно. Он утверждал: «От времен Петра Великого с учеными терминами вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает язык наш обтрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий». Таким образом, и «чуждые наречия», и «пыль древности» оказываются для Бестужева равно неприемлемыми. Вообще в качестве одной из главных причин, замедливших ход словесности в России, Бестужев называет «небрежение русских о всем отечественном»{498}.
При этом в повседневной литературной практике Бестужев был безусловным последователем Карамзина. Язык его повестей, в том числе и опубликованных в «Полярной звезде», вполне укладывается в карамзинскую традицию и никак не связан с «корнесловием»; апелляция к «благосклонному взору красавицы» также говорит сама за себя. Однако лично к Карамзину критик относился более чем прохладно. Много лет спустя, в 1831 году, он заметил: «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии… Он был пустозвон красноречивый, трудолюбивый, мелочный, скрывавший под шумихой сентенций чужих свою собственную ничтожность»{499}. Но и Шишков не пользовался у Бестужева уважением. «Шишков скотина старовер», – безапелляционно заявлял он в сентябре 1824 года в частном письме{500}.
Однако в обзорах Бестужева четко выражены его политические пристрастия. Они – гимн просвещению, для читателей начала 1820-х годов неразрывно связанному с именем министра Голицына. Русская история представляется ему битвой просвещения с «нищетой и невежеством». Его статьи – борьба с теми, кто не понимает цены просвещения: «Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища, умноженные благотворным монархом и поддержанные щедротами короны, разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна выписанных и вдвое того отечественных книг и малое число журналов, сих призм литературы, не позволяют проницать просвещению в уезды, а в столицах содержать детей не каждый в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны»{501}.
Таким образом, задача, которую поставил перед собой и блестяще решил Бестужев, была сходна с задачей всего альманаха. Из разрозненных писательских группировок, разделенных и эстетическими, и политическими пристрастиями, а зачастую и личной враждой, предстояло создать единое литературное пространство и – шире – культурное поле, подконтрольное министру просвещения.
* * *
Сразу после выхода первой книжки «Полярной звезды» стало ясно: ситуация в российской словесности изменилась. По свидетельству участника заговора Николая Лорера, который не был литератором, но внимательно наблюдал за общими настроениями в Петербурге, альманах оказался «на всех столах кабинетов столицы»{502}. Ее составители, еще вчера второстепенные молодые литераторы, в одночасье стали организаторами литературного процесса, а Бестужев, кроме того, еще и арбитром, с мнением которого уже нельзя было не считаться. И этот новый статус составителей альманаха был подтвержден авторитетом самых знаменитых писателей, поэтов и журналистов, от Пушкина и Жуковского до Греча и Булгарина. Естественно, подобная ситуация задевала честолюбие очень многих литераторов, в том числе и тех, кто печатался в «Полярной звезде», но до ее выхода не представлял себе общей концепции издания.
«Временными заседателями нашего Парнаса»{503} назвал Рылеева и Бестужева Александр Измайлов. И это мнение разделяли многие: непонятно откуда взявшиеся репутации составителей альманаха стали раздражать современников. Они сами подогревали желание критиковать «Полярную звезду»: видимо, поверив в свое право руководить литературным процессом, они часто редактировали присланные в альманах авторские тексты. Переписка Рылеева и Бестужева с участниками «Полярной звезды» сохранила, в частности, возмущенные отповеди Вяземского и Пушкина{504}.
Против «Звезды» в печати выступали многие литераторы – и Петр Плетнев, и Александр Воейков, и Михаил Каченовский, и другие журналисты и литераторы. Тот же Измайлов, задетый отзывом Бестужева о собственном журнале «Благонамеренный», в начале 1824 года шокировал светское общество своим появлением на маскараде в костюме «Полярной звезды», со звездами на сюртуке и «барабаном критики» на шее. Об этой истории упоминает Булгарин в одном из номеров «Литературных листков»: Измайлов «представляет себя вооруженного фонарем критики, рассматривающего произведения так называемых баловней поэтов и прозаиков, и даже не пощадил своих собственных произведений»{505}.
* * *
В январе 1824 года, когда вторая книжка «Полярной звезды» еще только выходила из печати, Бестужев написал Вяземскому: «Дельвиг и Слёнин грозятся тоже “Северными цветами” – быть банкрутству, если Вы не дадите руки»{506}. Перед нами – первое упоминание о расколе в литературе и журналистике, который, не случись 14 декабря 1825 года, имел бы далеко идущие последствия.
Собственно, время собирания последней книжки альманаха – весь 1824 год и начало 1825-го – было для Рылеева и Бестужева очень тяжелым. Голицын потерял министерский пост, отставленный со всех должностей Тургенев покинул столицу и не мог больше оказывать покровительство писателям и журналистам. Некоторые сторонники бывшего министра – тот же Греч и цензор Бируков – подверглись уголовному преследованию. Ситуация осложнялась тем, что Рылеев в момент собирания альманаха уже вступил в тайное общество и осознал себя его лидером; кроме того, пост правителя дел Российско-американской компании отнимал много времени. Альманах не вышел в срок, к началу года; читатели увидели его лишь весной 1825-го (цензурное разрешение было получено 20 марта). В объявлении о выходе третьей книжки альманаха Рылеев и Бестужев просили прощения у «почтенной публики» за это «невольное опоздание»: «Если она («Полярная звезда». – А. Г., О. К.) была благосклонно принята публикой как книга, а не как игрушка, то издатели надеются, что перемена срока выхода ее в свет не переменит о ней общего мнения»{507}.
История возникновения альманаха-конкурента хорошо известна: в процессе подготовки второй книжки «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев поссорились со своим издателем, книгопродавцем Иваном Слёниным, и решили отказаться от его услуг. Слёнин предложил Дельвигу издавать «Северные цветы» и получил его согласие. За составление альманаха Слёнин обещал заплатить Дельвигу четыре тысячи рублей. Новый альманах опирался на тот же круг авторов, что и «Полярная звезда», – других литераторов, чьи имена способны были бы привлечь читателей, в ту пору в России просто не было.
Чтобы не потерять «звездный» состав своего издания, Рылеев и Бестужев решили поставить издание на коммерческую основу: начали платить авторам гонорары. Финансистом проекта стал Рылеев: с помощью разного рода финансовых операций ему удалось добыть сумму, необходимую и для публикации третьей книжки, и для выплаты денег авторам{508}. «Во второй половине 1824 г. родилась у Кондратия Федоровича мысль издания альманаха на 1825 год с целью обратить предприятие литературное в коммерческое. Цель… состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов», – вспоминал друг Рылеева Евгений Оболенский. «Вознаграждение за литературный труд точно было одною из основных целей издания альманаха», – подтверждает его слова Михаил Бестужев, брат издателя «Полярной звезды»{509}.
«Литературное “соперничество” перерастало, таким образом, в борьбу торговых фирм. Грань между “словесностью” и “коммерцией” становилась исчезающе тонкой», – утверждает В. Э. Вацуро в книге, посвященной «Северным цветам»{510}. Издатели «Полярной звезды» считали, что за «предприятием» Дельвига стоит недовольный альманахом Воейков, желавший «подорвать» авторитет «Звезды» и для того составивший план «Северных цветов». Верный своей «разбойничьей» тактике, Воейков пиратским образом перепечатал отрывок поэмы Пушкина «Братья-разбойники», предназначенный для новой книжки «Полярной звезды», и напечатал его в «Новостях литературы» – приложении к издаваемой им газете «Русский инвалид»{511}.
Бестужев был убежден, что Дельвиг – лишь исполнитель коварных замыслов Воейкова, что люди из окружения издателя «Русского инвалида» делают всё, чтобы поссорить его с Жуковским, Пушкиным и Баратынским. «Мутят нас через Льва (Пушкина, брата поэта. – А. Г., О. К) с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в “Звезду” им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно»; «[Жуковский] обещал горы, а дал мышь. Отдал “Иванов вечер” и взял назад; а теперь… в то самое время отказал на мое письмо, уверяя, что ничего нет, когда отдавал Дельвигу новую элегию»; «…одним словом, делают из литературы какой-то толкучий рынок», – жаловался Бестужев Вяземскому{512}.
Благодаря финансовой политике составителей «Полярной звезды» на ее страницах оказалось много известных имен, в частности Пушкина и Жуковского.
Большинство главных сотрудников «Полярной звезды» участвовали в обоих альманахах. Однако в последнем ее выпуске не было произведений редактора «Северных цветов» Дельвига, не прислал своих стихов участвовавший во втором выпуске Кюхельбекер, не печатались Александр Измайлов и некоторые другие авторы. В третьей книжке было много «литературной продукции» сомнительного качества, вышедшей из-под пера малоизвестных начинающих литераторов. Стало ясно, что альманах в прежнем его виде – объединявший всех и дававший издателям право быть «заседателями на Парнасе» – больше существовать не будет.
* * *
«Полярная звезда» перестала выходить не из-за того, что случилось восстание на Сенатской площади. Трудно выявить и прямую связь между прекращением издания и отставкой Голицына. Проект исчерпал себя не потому, что Рылеев и Бестужев были плохими издателями, и не потому, что их альманах стал качественно уступать тем же «Северным цветам». Дело, очевидно, было в том, что идея создания единого культурного и литературного пространства в начале XIX века не была органичной для российских литераторов и не имела для своего существования других предпосылок, кроме административных.
После появления «Северных цветов» литераторы вновь разделились по «партиям»: «партия» Рылеева, включавшая Бестужева, Ореста Сомова, Греча, Булгарина и некоторых других авторов, вступила во вражду с «партией Дельвига», к которой примкнули Воейков, Жуковский и Баратынский и которую в целом поддерживал Пушкин.
Особняком в этой борьбе стоял, например, Свиньин, не приглашенный ни в один из альманахов, но конечно же не забывший травлю со стороны близких к «Полярной звезде» литераторов. Его учеником был молодой московский журналист Николай Полевой, с 1825 года начавший выпуск своего журнала. «В Москве явился двухнедельный журнал “Телеграф”, изд. г. Полевым. Он заключает в себе всё, извещает и судит обо всём, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие – вот знаки сего “Телеграфа”, а “смелым владеет Бог” – его девиз», – писал Бестужев в своем последнем обзоре{513}. Этот отзыв стал причиной резкой критики в адрес альманаха, прозвучавшей со страниц «Московского телеграфа», за которую, в свою очередь, на Полевого ополчились Греч и Булгарин. «Страх журнальной конкуренции заставил журналистов-монополистов встретить новый печатный орган в штыки; Полевой не остался в долгу, и вскоре между “Московским телеграфом” и изданиями Греча– Булгарина началась настоящая литературная война» – таким видит итог полемики двух изданий О. А. Проскурин{514}.
В конце 1825 года в «Сыне отечества» Рылеев опубликовал статью «Несколько мыслей о поэзии» – одно из последних своих произведений, которые он увидел напечатанным. Статья эта нехарактерна для Рылеева: талантом критика и теоретика литературы он явно не обладал. Ее содержание достаточно тривиально: Рылеев сравнивает «подражательную» («классическую») литературу с «оригинальной» («романтической») – и отдает пальму первенства романтизму. Мысли эти были не новы; к примеру, тот же Бестужев в своих обзорах постоянно ратовал за оригинальность и самобытность поэзии, утверждал, что словесность в России «замедляет ход», в частности, оттого, что литераторов «одолела страсть к подражанию»{515}.
Очевидно, что статья писалась не для того, чтобы повторять и так всем понятное. Ее задача была другая: Рылеев в последний раз попытался, облекая свою мысль в теоретико-литературные рассуждения, призвать собратьев по перу к объединению: «Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее, и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме… употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных»{516}.
Однако статья прошла незамеченной, призыв к единству так и не был услышан. Последствия же новой литературно-журнальной войны в полной мере сказались уже в другую эпоху, когда власть в России сменилась, а Рылеев и Бестужев были признаны государственными преступниками. Эта война серьезно отличалась от всех предыдущих, ибо в ее основе лежали не столько эстетические и политические пристрастия воюющих сторон, сколько их представления о коммерческой выгоде и способах ее достижения. В историческом смысле Бестужев оказался прав: журналистика постепенно стала превращаться в «толкучий рынок».
Глава четвертая.
«БОРЬБА СВОБОДЫ С САМОВЛАСТЬЕМ»
«Хотели зарезать Россию»
Шестнадцатого декабря 1825 года, по горячим следам произошедшего в столице восстания, Василий Жуковский написал Александру Тургеневу, находившемуся тогда за границей. Письмо его хорошо известно: преисполненный патриотического восторга, поэт рассказывает, как «Провидение сохранило Россию». Согласно Жуковскому, «государь отстоял свой трон; в минуту решительную увидели, что он имеет и ум, и твердость, и неустрашимость. Отечество вдруг познакомилось с ним, и надежда на него родилась посреди опасности, устраненной его духом. Такое начало обещает многое. Теперь он может утвердиться в любви народной».
Жуковский сообщает Тургеневу, как после событий он встретился «с к[нязем] Александром] Николаевичем] Голицыным», который описал ему «сцену величественную» – выступление молодого императора в Государственном совете после разгона мятежников. «Государь говорил твердо, сильно и решительно, – пересказывает автор слова Голицына, – с величайшею ясностью описал всё происшествие, изобразил, как он об нем думает и какие меры приняты для безопасности государства».
Согласно Голицыну (в передаче Жуковского), Николай I «говорил так красноречиво, как подобает государю». «Одним словом, во все эти решительные минуты он явился таким, каков он быть должен: спокойным, хладнокровным и неустрашимым», – резюмирует поэт.
Добродетельному государю, по Жуковскому, 14 декабря противостояли «малодушные подлецы» и «презренные злодеи, которые хотели с такою безумною свирепостью зарезать Россию».
«Какая сволочь! – восклицает Жуковский. – Чего хотела эта шайка разбойников? Вот имена этого сброда. Главные и умнейшие Якубович и Оболенский; все прочие мелкая дрянь: Бестужевы 4, Одуевский, Панов, два Кюхельбекера, Граве, Глебов, Горский, Рылеев, Корнилович, Сомов, Булатов и прочие».
«И в туже ночь все заговорщики схвачены, – с удовлетворением констатирует поэт. – Но подумай, кто еще взят? Трубецкой… Во время дела он нигде не являлся; но план заговора и конституции, писанный его рукою, находится в руках императора. Сначала он от всего отрекся; но когда император показал ему бумагу, то он упал на колени, не имея возможности ни отвечать, ни защищаться. По сю пору не найден только один Кюхельбекер, и, признаться, это несколько меня беспокоит. Он не опасен, как действователь открытый: он и смешон, и глуп; но он бешен – это род Занда[12]12
Карл Людвиг Занд (1795—1820) – немецкий студент, в 1819 году со словами «вот изменник отечества!» заколовший кинжалом в Мангейме писателя Августа Коцебу, которого ошибочно считал автором «Записки о нынешнем положении Германии», направленной против университетской свободы.
[Закрыть]! Он способен в своем фанатизме отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы приобресть какую-нибудь известность. Это зверь, для которого надобна клетка»{517}.
Письмо это удивительно по тональности. Много знавший, тонко чувствовавший и глубоко религиозный поэт был в принципе чужд подобной риторике. Он не мог не понимать, что на его глазах произошла страшная и кровавая драма – одна из тех, которые неминуемо меняют ход истории. Удивляют и оценки Жуковским отдельных персонажей этой драмы. В частности, Рылеев и Александр Бестужев, в альманахе которых поэт считал за честь быть напечатанным, превратились под его пером в «сволочь». Таких же эпитетов удостоились и авторы «Полярной звезды» Александр Корнилович, Николай Бестужев и Орест Сомов (впоследствии, кстати, признанный непричастным к заговору). Вильгельм Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина, всем известный сумасброд Кюхля, считавший Жуковского одним из своих учителей в поэзии, вдруг стал страшным и опасным для общества «зверем».
С этими людьми Жуковского связывала общая сфера деятельности – литература. Они могли расходиться во взглядах на будущее России, на императорскую фамилию, на поэзию вообще и на Байрона в частности – но всего этого, конечно, было явно недостаточно, чтобы назвать заговорщиков «мелкой дрянью».
Письмо странно и тем, что подобных резких суждений об участниках восстания у Жуковского больше не найти. Более того, впоследствии он будет многократно хлопотать за государственных преступников перед Николаем I, уговаривать императора объявить амнистию или хотя бы смягчить участь осужденных, в том числе и «зверя» Кюхельбекера. В 1830 году после одного из неудачных разговоров с императором на эту тему он запишет «на листочке бумаги»: «Если бы я имел возможность говорить, – вот что бы я отвечал… я защищаю тех, кто Вами осужден или обвинен перед Вами; но это служит только доказательством моей доверенности к Вашему характеру. Разве Вы не можете ошибаться? Разве правосудие (особливо у нас) безошибочно? Разве донесения Вам людей, которые основывают их на тайных презренных доносах, суть для Вас решительные приговоры Божий? Разве Вы можете осуждать, не выслушав оправдания?., и разве могу, не утратив собственного к себе уважения и Вашего, жертвовать связями целой моей жизни?»
По словам же императора, Жуковского называли «главою партии, защитником всех тех, кто только худ с правительством»{518}.
Очевидно, что письмо к Александру Тургеневу никоим образом не отражало мнение Жуковского о произошедшем 14 декабря событии. Логично предположить, что рассказ про негодяев, собиравшихся «зарезать Россию», был адресован вовсе не Тургеневу. Письмо пересылалось за границу, а значит, вполне могло быть – и, скорее всего, было – перлюстрировано. Смысл же послания был вовсе не в том, чтобы заклеймить тех, кто и так был заклеймен в разного рода правительственных сообщениях. В письме содержались сведения, которые, как полагал Жуковский, могли представлять для его корреспондента жизненно важный интерес.
О чем же сообщал поэт Александру Тургеневу? Во-первых, о том, что «главными и умнейшими» среди мятежников считаются Александр Якубович и Евгений Оболенский, а автором «плана заговора и конституции» был Сергей Трубецкой – все трое офицеры, хорошо известные в столице. А значит, мятеж был следствием именно военного заговора и расследование пойдет именно по этому, военному, следу. В письме сообщалось и о том, что князь Голицын, бывший министр и начальник Тургенева, допущен к императору; он участвовал в историческом заседании Государственного совета – следовательно, вне всяких подозрений. Картину портило участие в восстании людей, в прошлом тесно связанных с Голицыным и самим Тургеневым, – Рылеева, Александра Бестужева, других литераторов. Однако они в данном деле оказались не главными, «мелкой дрянью», и их связи с бывшими министерскими функционерами расследоваться, скорее всего, не будут.
Жуковский показывал Тургеневу расклад сил, сложившийся в связи с воцарением Николая и мятежом в столице. Очевидно, он предоставлял своему корреспонденту самому делать вывод, следует ли ему возвращаться в Петербург.
Получив в Лондоне письмо Жуковского, Александр Тургенев ответил на него. Из этого ответа, в частности, следует, что он адекватно понял смысл послания, но не вполне поверил другу. «Здесь слухи и о других участниках (восстания 14 декабря. – А. Г., О. К.), – пишет Тургенев, – но, кажется, замешалась личность. Недаром вмешали и библейские общества. Грустно думать, как это удалит совершение надежд для будущего»{519}.
В следующем письме Жуковскому, написанному в марте 1826 года, Тургенев выразится еще более определенно: «Узнал я, что прошли слухи в Париже, якобы и наше имя замешано в число обвиняемых… Мысль оправдания воротит мою душу»{520}.
Александру Тургеневу было чего бояться: в глазах многих современников деятельность Голицына и созданных им структур не только противоречила «вере православной», но и оказывалась связанной с деятельностью тайных обществ.
Так, к примеру, Шишков, через десять дней после своего назначения министром просвещения, 25 мая 1824 года, просил у императора полномочий «употребить способы к тихому и скорому потушению того зла, которое хотя и не носит у нас названия карбонарства, но есть точно оное». Новый министр объяснял царю, что «Министерство просвещения… явно и очевидно попускало долгое время расти сему злу, и, мало сказать, попускало, но оказывало тому всякое покровительство и ободрение»{521}.
Эти филиппики Шишкова в полной мере разделял архимандрит Фотий. Еще до падения Голицына он писал императору, что «общество, верующее во Антихриста, общество карбонариев, всячески старается к 1836 году сделать приуготовления, аки бы к учреждению единого Царства Христова. Ибо в 1836 году замысел есть, что уже все царства, церкви, религии, законы гражданские и всякое устройство должны быть уничтожены, и должна аки бы начаться какая-то единая в сем мире новая религия – едино стадо, единое царство, и должен быть аки бы единый какой-то царь, коего столица предназначается быть в Иерусалиме (курсив в тексте. – А. Г., О. К.)». Естественно, во главе «общества карбонариев» Фотий усматривал Голицына, первыми его приспешниками называл начальников министерских департаментов Тургенева и Попова, а также попечителей нескольких учебных округов. Пособниками заговорщиков объявлялись «Греч – первый злодей с сей стороны и Тимковский»{522}.
До самой смерти императора Шишков и Фотий пугали его революционным заговором, во главе которого по-прежнему видели Голицына. Согласно Шишкову, деятельность Библейского общества сводилась к тому, чтобы «истребить правоверие, возмутить отечество и произвесть в нем междоусобия и бунты». Печатавшиеся с дозволения Голицына мистические книги проповедовали «низвержение всякой христианской веры, отвращение от священных писаний и позыв на восстание против всех первосвященников, всех вельмож и царей». После смерти Александра I Шишков писал письма императору Николаю, в которых внушал новому царю те же идеи. «Всё сие (восстание 14 декабря. – А. Г., О. К.), как во Франции, так и у нас, породилось от распространения и чтения мистических, безнравственных книг и журналов, без должного рассмотрения проходивших чрез слабую цензуру»{523}.
Те же мысли встречаем и в позднейших письмах Фотия{524}. Он, в частности, писал императору по поводу одной из книг, изданных под покровительством Голицына: «Сего 1824 года, марта на 30-е число, на Вербное воскресенье, было мне видение от Бога послано: предстал мне Ангел Божий во время дремания моего, разогнул книгу, имея в руках передо мною, и был глас с неба: “Зри и разумей!” И в сей книге нигде, ни сверху, ни снизу, ничего не было написано, а посредине только по обеим страницам в одну черту были сии слова: “Сия книга составлена для революции: и теперь намерение ее революция”»{525}.
«Мнения» Шишкова вполне могли бы быть объяснимы его пожилым возрастом, усилившейся с годами мнительностью, завистью к предшественнику – царскому конфиденту. Фотий же был известен всей России как человек неуравновешенный, способный на неадекватные слова и поступки. Их высказывания вообще можно было бы не принимать в расчет, если бы они были одиноки в поисках «карбонариев» в министерских кабинетах. Однако после падения министра мнение о нем и его сподвижниках как идеологах заговорщиков проникло в образованные слои дворянства. Так, например, из письма московского почт-директора Александра Булгакова брату Константину, почт-директору в Северной столице, следует, что московское общество, узнав об отставке того же Александра Тургенева, сошлось во мнении: «Туда и дорога, мартинист[13]13
Мартинизм – одно из направлений в европейском и русском масонстве; в переносном смысле мартинист – заговорщик, член тайного общества.
[Закрыть]!» «Общее мнение столь поражено карбонариями, что все секты относят к ним», – утверждал автор письма{526}.







