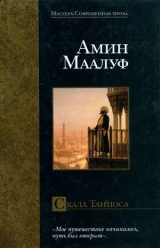
Текст книги "Скала Таниоса"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Это была обычная пикировка, верующие привыкли к ней так же, как к звону церковных колоколов, которые каждое воскресенье раскачивали могучие руки поселян. И когда погонщик мулов, бывало, колесил где-то вдали от Кфарийабды, все чувствовали, что мессе, от которой он обычно воротил нос, чего-то не хватает.
Он и сам использовал этот цветистый диалог совсем как колокольный звон, созывающий покупателей, и если порой хурийезабывала задеть его, он сам заговаривал с нею, поддразнивал, вынуждая отвечать ему, и лишь тогда верующие, смягчившись сердцем, с улыбкой на устах раскрывали свои кошельки.
Тем не менее кое-кто из прихожан, по случаю воскресенья празднично разряженных, спешил удалиться в сопровождении домочадцев, оскорбившись тем, что супруга кюре так вольно шутит с этим извращенным субъектом. Но у сестры Ламии была своя безмятежная философия: «В каждом селении нужен свой дурачок и свой богохульник!»
В тот день Надир, когда покупатели столпились вокруг него, сделал Таниосу знак, чтобы тот его подождал; и еще он похлопал мула по пузу, давая понять, что готовит ему подарок.
Молодой человек был заинтригован. Так или иначе, ему пришлось потерпеть, пока погонщик мулов продаст свой последний шарф цвета белены и последнюю щепотку табаку, и только после этого приблизиться. Тогда Надир извлек на свет божий великолепный сундучок из полированного дерева, по всей видимости, содержащий нечто ценное.
– Но здесь ты не должен раскрывать его. Ступай за мной!
Они пересекли сельскую площадь и направились к утесу, что высился над долиной. К той самой скале, что смахивает на величавое кресло. Я полагаю, что тогда у нее было какое-то название, но все его позабыли с тех пор, как она связана с памятью Таниоса.
Юноша карабкался вверх по склону вслед за Надиром, тащившим сундучок под мышкой. Он раскрыл его лишь тогда, когда они оба уселись, прислонясь спинами к утесу. Там была подзорная труба. Вытянутая, она достигала длины человеческой руки, а на конце имела утолщение, похожее на детский кулачок.
С этого «трона», наклоненного над каменным откосом, если обратиться на запад, туда, где гора спускается в темную зелень долины, можно увидеть море.
– Смотри, это знак. Можно подумать, что он там проходит только затем, чтобы твои глаза увидели!
Настроив подзорную трубу, Таниос сумел различить на водной глади трехмачтовый корабль с развернутыми парусами.
Совершенно несомненно, что намек на эту именно сцену содержится в следующих строках «Премудрости погонщика мулов»:
«Я сказал Таниосу, когда мы с ним взошли на скалу: „Если двери снова закроются перед тобой, ты должен понять, что твоя жизнь не кончена, это конец лишь первой из твоих жизней, а другой, следующей, уже не терпится начаться. Тогда взойди на корабль, город ждет тебя“.
Но Таниос больше не заговаривал о смерти, в его сердце сияла улыбка, а на губах – имя женщины».
Он шепнул: «Асма». Через мгновение он разозлился на себя за это. Так открыться перед Надиром, первейшим болтуном Предгорья и Побережья?
Таниос и Асма.
Судьбе было угодно, чтобы их полудетская любовь не долго оставалась сокрытой от мира; но не язык погонщика мулов был тому виной.
II
Таниос стремился сберечь свой секрет не только из обычной стыдливости. Мог ли он, только что примирившись с шейхом, с Гериосом, с селением, тут же признаться им, что любит дочь того, кого они объявили вором, кого сделали отверженным?
С того дня, когда сын Ламии два года тому назад повстречал на дороге Рукоза с его охраной и решился поздороваться с ним, в их отношениях бывали и времена горячей обоюдной симпатии, и периоды охлаждения. Когда Таниосу хотелось отстраниться от жизни селения и некоторым образом послать куда подальше обоих своих «отцов», он испытывал дружеские чувства к бывшему управителю; когда же, напротив, разгорелась распря с патриархом из-за английской школы, юноша оказался на стороне селения и шейха, тут уж речи отверженного стали нагонять на него уныние. Он решил больше не ходить к нему и за первые месяцы своего житья у пастора ни разу даже не подумал его навестить.
Но однажды в послеполуденный час, выйдя после занятий на дорогу, ведущую из Сахлейна в Дайрун, он заметил в отдалении Рукоза, как всегда, окруженного своей свитой. Сначала у молодого человека возникло искушение юркнуть на какую-нибудь тропинку под сенью деревьев. Но тут же передумал: «С какой стати я должен удирать, словно шакал, боящийся собственной тени?» – и продолжал свой путь, решив держаться учтиво, но сделать вид, будто куда-то спешит.
Бывший управитель между тем, заметив его, соскочил с лошади и побежал к нему навстречу с распростертыми объятиями:
– Таниос, иабнэ,я уж потерял надежду свидеться с тобой! Какое счастье, что случай посмеялся над нашими колебаниями и церемонностью…
Он чуть ли не силой потащил Таниоса к себе, показал ему свой дом, который он непрестанно достраивал и увеличивал, а также новый пресс для масла, две свои червоводни, плантации белой шелковицы, притом подробно объяснил, как лучше всего выбрать момент обрывания листьев, чтобы получить от червей шелк высшего качества… Юноша насилу сумел вырваться от него, прервав поток его красноречия, иначе бы ему в подобающее время домой не добраться. Пришлось пообещать прийти снова в ближайшее воскресенье, чтобы вместе позавтракать, а потом еще прогуляться…
Все вокруг знали, что для Рукоза нет большего наслаждения, чем водить гостей по своему поместью. Он обожал выставлять свои богатства напоказ, но по крайней мере с Таниосом его намерения к этому не сводились. В первый раз, возможно, так и было, но при следующих встречах, отягощенных долгими терпеливыми объяснениями, особенно когда дело доходило до червоводен, источающих нестерпимое зловоние гниющих червей, тут уж чувствовалось не бахвальство, не простая кичливость, юношу окружали новой для него заботой, которая не оставляла его равнодушным.
Асма часто их сопровождала в этих прогулках. Иногда Таниос протягивал ей руку, помогая пробраться сквозь колючий кустарник или перепрыгнуть через лужу; там, где террасы возделанных полей были окружены не слишком высокими бортиками, она так же, как мужчины, прыгала с одной на другую, а приземляясь, упиралась руками в грудь отца или цеплялась за плечо Таниоса. Не более чем на мгновение – время, которое требуется, чтобы не потерять равновесия, закрепиться на ногах.
Юноша воспринимал все это не без удовольствия, но, возвращаясь домой, то бишь к Столтонам, больше об этом не задумывался. Он редко обращался к этой девушке даже с кратким словом и избегал засматриваться на нее, ему казалось, что в противном случае он обманул бы доверие гостеприимного хозяина. Не потому ли, что, как однажды обмолвился пастор, «речь шла о таком обществе, где высшее уважение к женщине состоит в том, чтобы ее не замечать»? Хотя мне представляется, что со стороны Таниоса это было в основном следствием юного возраста и застенчивости.
Во второй раз Асма попалась ему на глаза лишь в последнее воскресенье перед его возвращением в селение и беседой с Надиром у края скалистого обрыва. Он отправился к Рукозу, но его не застал. Тем не менее согласно местному обычаю он вошел в дом и стал бродить из комнаты в комнату, приглядываясь, как идут работы. Бывший управитель задумал оборудовать приемную залу, достойную дворца, а главное, достойную его амбиций, ибо она была еще просторнее, чем Зала с колоннами в замке шейха, соперником которого ему хотелось себя считать. Пока что шла отделка. Мастера деревянной мозаики уже покрыли стены золоченой резьбой, но пол еще не был выложен плиткой, а вместо фонтана, коему по замыслу предстояло красоваться в центре залы, белел всего-навсего восьмиугольник, начертанный мелом.
Там-то и находился Таниос, когда Асма явилась, чтобы принять гостя. Они вместе понаблюдали за кропотливым трудом мастеров перламутровых поделок. Пол залы загромождали ведра, длинные отрезы ткани, штабеля мраморных плит и корзина с домашней утварью – об острый угол одного из переполняющих ее предметов девушка чуть было не ушибла ногу. Тогда Таниос взял ее за руку, чтобы помочь ей обойти препятствие. А поскольку она на каждом шагу рисковала оступиться, он продолжал крепко сжимать ее руку.
Так они какое-то время будто очарованные прохаживались туда-сюда, глазея на потолок, как вдруг в коридоре послышались шаги.
Асма поспешно выдернула руку:
– Нас могут увидеть!
Таниос повернулся к ней.
Ей было двенадцать лет, и она была женщиной. С четко очерченными губами. От нее пахло диким гиацинтом.
Они продолжали блуждать по не до конца отделанной гостиной, но ни тот, ни другая больше не замечали того, чем якобы любовались. И когда шаги в коридоре, отдалясь, замерли, их руки вновь соединились. Но это были уже не те, не прежние руки. Ладонь Асмы показалась Таниосу горячей и трепетной, как птица. Словно тот выпавший из гнезда птенец, которого он однажды посадил к себе на ладонь, – казалось, он был напуган, попав в незнакомые руки, но вместе с тем и приободрился, уже не чувствуя себя покинутым.
Оба оглянулись на дверь. Потом посмотрели друг на друга. И потупились, смеясь от волнения. Переглянулись снова. Их веки сомкнулись. Их дыхание искало путь в потемках на ощупь.
Ваши губы при первом касанье отпрянули сразу,
Словно бы счастье свое вы уже исчерпали и ныне боитесь долю чужую похитить…
Вы были невинны? Но разве невинность уберегла вас?
Даже Создатель велит нам для наших пиров резать горло ягнятам,
А волкам – никогда…
Если бы Таниосу в те дни довелось прочесть эти строки, сочиненные нечестивым погонщиком мулов, он бы лишний раз проклял его «мудрость старого филина». И был бы прав, ибо в доме Асмы ему суждено познать счастье. Мимолетное? Но счастье всегда таково – продлись оно неделю или тридцать лет, слезы, которые проливаешь в последний его час, всегда одинаково горьки, и все равно приходится пережить муки ада, чтобы обрести право на завтрашний день.
Он полюбил эту девушку, она полюбила его, и ее отец, по всей видимости, одобрял это. Были такие слова, которые для Таниоса ныне стали звучать по-другому. Скажем, когда Рукоз называл его «сын мой», это следовало понимать как «зятя», «будущего зятя». Как он раньше не догадался? Если бывший управитель так упорно вводил его в курс своих дел, он так поступал именно потому, что видел в нем будущего мужа своей единственной дочери. Через год ей исполнится тринадцать, ему будет шестнадцать, без малого семнадцать, они смогут заключить помолвку, а через два года пожениться, чтобы спать рядышком.
Прошло несколько недель, он продолжал навещать Рукоза, и эти встречи лишь укрепляли молодого человека в его надеждах. Хозяин дома, к примеру, мимоходом, словно невзначай, говорил ему: «Когда тебе настанет пора самому руководить этими работами…» – а то и совсем уж напрямик: «Когда ты поселишься в этом доме…» – и все это как ни в чем не бывало, будто дело между ними уже решено.
Ему внезапно стало казаться, что его грядущее уже предначертано, притом самой доброжелательной рукой, ведь эта рука сулила ему любовь, обширные знания да еще состояние вдобавок.
Какое препятствие еще могло ожидать его на пути? Гериос и Ламиа? Он сумеет добиться их согласия, а нет, так обойдется без него. Шейх? Само собой, жениться на дочери его врага – не лучший способ снискать его милость, но на что ему сдались эти милости? Так или иначе, дом Рукоза стоит не на его землях, и если бывший управитель умудрился столько лет прожить в раздоре с ним, то чего бояться ему, Таниосу?
Юноша был чересчур доверчив: если бы он получше пригляделся к своему предполагаемому «тестю», он бы понял, что у него есть причины для беспокойства.
Находясь под впечатлением богатства Рукоза, его поместья, которое не переставало расширяться, рекомендательных писем, что тот столь охотно предъявлял, и, может статься, в первую очередь его обличительного красноречия, направленного против феодалов, молодой человек дал себя убедить, что отец Асмы – больше не отверженный, чающий реабилитации, а серьезный, быть может, даже равный соперник шейха.
Стать или, пока суд да дело, хотя бы казаться таковым – именно на это Рукоз и претендовал. По части богатства так оно уже и было, но все остальное к сему не прилагалось. Шли годы, хозяин Кфарийабды, алчный более до наслаждений, чем до денег, мало-помалу беднел, его казна регулярно опустошалась, и если б не единовременное вмешательство английского эмиссара, что помогло ему внести исключительно большую сумму, шейху стоило бы огромного труда расквитаться с ежегодными налогами, которые за годы войны непрестанно росли. В большой замковой зале некоторые колонны теперь уже изрядно облупились из-за воды, что просачивалась сквозь кровлю. Между тем Рукоз, за счет своих шелковичных червей с каждым днем процветавший все более, приглашал самых искусных ремесленников, чтобы они устроили ему меджлис, как у самого паши: зала могла вместить сто двадцать персон, притом без толкотни.
Но теперь еще надо было, чтобы эти персоны пожаловали… Чем обширнее становилась гостиная Рукоза, – тем больше бросалось в глаза, что она пуста, чем пышнее ее украшали, тем напраснее казалась вся эта роскошь. Таниос в конце концов стал отдавать себе в этом отчет, и когда в один прекрасный день бывший управитель открыл ему свое сердце, то было по-прежнему сердце изгоя.
– Патриарх защищал меня от шейха, и вот теперь он с ним помирился. Они вместе отправились к эмиру, будто нарочно, чтобы лишить меня второго моего покровителя. С тех пор каждый вечер, отходя ко сну, я говорю себе, что, может быть, это моя последняя ночь.
– А как же твоя охрана?
– На той неделе я удвоил им жалованье. Но если на двенадцать апостолов отыщется один Иуда… Мне больше не на кого рассчитывать, кроме египетского паши, да продлит Господь его дни и расширит пределы его империи! Но у него, надо полагать, довольно других забот, помимо моей персоны…
«Это по настоянию хведжиРукоза, бывшего замкового управителя, войска египтян учредили командный пост в Дайруне, разместили там двести человек, реквизировали для этого три больших дома вместе с садами: офицеры поселились под крышей, солдаты в палатках. Хотя войска паши уже прочно обосновались в большинстве крупных селений Горного края, у нас в округе они до сей поры появлялись разве что с целью каких-нибудь мимолетных рейдов.
Отныне же их патрули по утрам и вечерам растекались по улицам Дайруна, Сахлейна и Кфарийабды…»
Монах Элиас приводит здесь версию, распространенную и в наши дни, но мне она представляется маловероятной. Рукоз, конечно, прожил несколько лет в Египте, знал местное наречие и купил себе кое-какие поблажки, как, скажем, пресловутое рекомендательное письмо, но от этого далеко до возможности по собственному почину распоряжаться передвижениями армий паши… Нет. Если египетские войска подошли к моему селению, то лишь постольку, поскольку планировалось их постепенное развертывание, дабы мало-помалу проникнуть во все уголки Предгорья и тем укрепить свое господство.
Но ясно, что если так, отец Асмы увидел в этом благословение свыше, исполнение своих молитв, шанс на спасение. И быть может, кое-что еще посущественней…
III
Однажды декабрьским днем Таниос, будучи в гостях у отца Асмы, увидел, что к дому приближается командующий гарнизоном в Дайруне Адиль-эфенди в сопровождении еще двоих офицеров в зеленых фетровых колпаках, с пышными, но ухоженными бородами. Поначалу юноша встревожился, насторожился, но хозяин, весь лучась улыбкой, шепнул ему:
– Это друзья, они меня навещают не реже чем раз в три дня.
Тем не менее Рукоз знаком приказал Асме исчезнуть: никогда не следует показывать девушку солдатам.
Приняв сию предосторожность, он оказал пришельцам самый горячий прием. Таниосу он представил офицеров как «братьев и даже больше, чем братьев», им же, разумеется, отрекомендовал парня как «столь же дорогого моему сердцу, как если бы он был моим сыном».
«Воссоединение семьи, ни больше ни меньше», – иронизирует пастор Столтон в подробной депеше об этой встрече, донесении, которым он был обязан своему питомцу, ибо тот, как нетрудно догадаться, рассказал ему обо всем, едва вернувшись в Сахлейн.
Первым делом Таниос приметил, что ни один из этих офицеров египетской армии не являлся египтянином: Адиль-эфенди был уроженцем Крита, один из его адъютантов – австриец, второй – черкес. В этом не было ничего удивительного, ведь и сам Мехмед-Али появился на свет в Македонии от родителей-албанцев. Тем не менее все они говорили по-арабски с египетским акцентом и, казалось, были преданы своему господину и его династии.
Разделяли они и его идеи. Если их послушать, они вели не захватническую войну, а битву за возрождение народов Востока. Они толковали о модернизации, справедливости, порядке и достоинстве. Таниос слушал с интересом, иногда тихонько покачивая головой в знак искреннего одобрения. Могло ли быть иначе, если эти энергичные люди обличали бесхозяйственность оттоманских властей, обещали повсюду открыть школы, вырастить своих врачей, инженеров.
Также вдохновило юношу, когда командующий заявил, что будет покончено со всякой дискриминацией между различными религиозными общинами и отменены любые привилегии. Когда речь зашла об этом, Рукоз поднял кубок за здоровье офицеров, за победу их господина и дал клятву повыщипать шейху усы в качестве упразднения привилегии. Таниос, вообразив себе эту сцену, без малейшего стеснения опрокинул полный стакан арака – он даже охотно подверг бы той же участи бородку Раада, а потом пропустил еще глоточек, когда Адиль-эфенди пообещал уничтожить заодно и «привилегии иностранцев».
Тут же командующий начал пламенную обличительную речь, подкрепляемую примерами, – по всей видимости, тема крепко задевала его за живое:
– Вчера, объезжая селения, я чувствовал себя дома всю ду,куда бы ни завез меня мой конь. Я мог войти в любое жилище, все двери для меня были открыты. До той минуты, пока я не приблизился к дому английского пастора. На калитке я увидел знамя их короля. И я почувствовал себя оскорбленным.
У Таниоса вдруг перехватило горло, он не смог проглотить свой арак и даже не осмеливался поднять глаза, опасаясь выдать себя. Офицер, по всей видимости, не знал, не мог предположить, что этот дом, чей вход ограждало чужеземное знамя, был и его домом.
– Разве это нормально, – настаивал Адиль-эфенди, – что инородцы находятся в преимущественном положении, более уважаемы, внушают больше страха, чем сыны этой страны?
Тут, вспомнив, что и сам не является в полной мере сыном страны, равно как и сыном Египта и, главное, сыном завоеванного им Предгорья, он счел нужным уточнить:
– Вы мне возразите, что я и сам родом не отсюда. (Никто бы не рискнул заметить ему это.) Но я поступил на службу к этой прославленной династии, я усвоил язык страны, ее религию, я ношу ее мундир, сражался под ее знаменем. Между тем как эти англичане, живя среди нас, не стремятся послужить ничему, кроме политических интересов Англии, ничего, кроме английского флага, не уважают, они вообразили, будто вправе ставить себя выше наших законов…
Рукоз поспешил во всеуслышание заявить, что не может быть абсолютно никакого сравнения между эфенди Адилем и этими иностранцами, что эти англичане – самое что ни на есть высокомерное отродье, тогда как его превосходительство, разумеется, никакой не иностранец, а брат родной. Таниос не проронил ни слова.
«И все-таки мой питомец был в замешательстве, причем гораздо большем, нежели мог мне признаться, – запишет впоследствии пастор. – С одной стороны, он питает чистосердечную привязанность ко мне и миссис Столтон, а также чтит нашу просветительскую миссию. Но в то же время он не может оставаться полностью равнодушным к тому факту, что иностранцам дозволено пользоваться привилегиями, к которым нет доступа местным уроженцам. Его чувство справедливости до некоторой степени уязвлено.
Понимая его смятение, я объяснил ему, что привилегии, как правило, возмутительны, если они возникают в обществе, основанном на праве, но там, где господствует произвол, они, напротив, воздвигают барьеры, ограждающие от деспотизма, создавая таким образом, как это ни парадоксально, оазисы справедливости и доброго порядка. Совершенно неоспоримо, что нынешнее общество Востока, будь оно оттоманским или египетским, устроено именно так. Позорно не то, что солдаты лишены возможности, когда им угодно, заявиться в нашу миссию в Сахлейне или в дом английского подданного. Что и впрямь достойно стыда, так это то, что они присвоили себе право вваливаться по собственному произволу в любой другой дом, в любую школу страны. Постыдно не то, что им запрещено хватать британских подданных, а то, что они могут распоряжаться, как им вздумается, каждым, кто не пользуется покровительством какой-либо полновластной европейской державы.
В заключение я сказал, что если эти люди желают упразднить привилегии, то хорошо бы им не подвергнуть иностранцев той же незавидной доле, какую терпит местное население, а, напротив, обращаться с каждой личностью так, как ныне обходятся с иностранцами. Ибо с ними поступают всего лишь так, как надобно поступать со всяким человеческим существом…
Я беспокоился, не прозвучал ли мой ответ немного слишком запальчиво, да и миссис Столтон упрекнула меня в этом. Однако мне показалось, что на моего питомца такой ход мысли произвел немалое впечатление».
Но когда пастор посоветовал своему воспитаннику в будущем избегать посещений дома, куда наведываются египетские вояки, его наставления имели куда меньше успеха. Разумеется, то был глас самого благоразумия. Но противовесом благоразумию служили улыбка Асмы и все надежды на будущее, одаренные той улыбкой. От этого Таниос не отказался бы ни за какие блага мира.
Впрочем, рискованная тема, омрачившая его первую встречу с офицерами, в дальнейшем более не всплывала. В те два или три раза, когда Таниос еще сталкивался с ними у Рукоза, разговоры в основном вертелись вокруг превратностей войны, толковали о неизбежной победе египетского паши над оттоманским султаном и опять об отмене привилегий, но только феодальных, причем здесь особое внимание уделялось шейху Франсису и жребию, уготованному его усам.
Таниос снова не постеснялся выпить за эту забавную перспективу. Касательно вопроса о привилегиях он в некотором роде пришел к полюбовному соглашению с самим собой: надобно, мол, сохранить те, что относятся к выходцам из-за границы, но упразднить те, которыми пользуются шейхи. Это позволяло одновременно разделять тревоги пастора и надежды отца Асмы, да и отвечало его собственным наклонностям.
И в самом деле, разве между этими двумя типами привилегий не было природного различия? Если преимущества, предоставленные англичанам, в настоящее время – он это охотно признавал – впрямь служили ограничению произвола, то привилегии отпрысков знатных фамилий, из рода в род тяжким бременем ложившиеся на плечи покорного населения, не служили никакой вразумительной цели.
Сей компромисс был в согласии с его сердцем и умом, и юноша, выработав его, успокоился. Так успокоился, что даже не замечал еще одного различия между двумя типами привилегий, а между тем оно бросалось в глаза. Против иностранных властей офицеры вице-короля Египта были бессильны, они только и могли, что проклинать да поносить их спьяну. Зато против шейха они многое могли. Выщипать ему усы было куда легче, чем потревожить хотя бы волосок в гриве британского льва.







