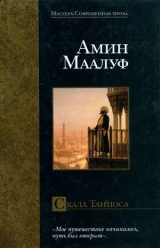
Текст книги "Скала Таниоса"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
АМИН МААЛУФ
СКАЛА ТАНИОСА
Памяти человека с перебитыми крыльями
Вот народ, ради которого воздвиглись эти Аппалачи и Ливаны мечты!..
Чьи добрые руки, какие прекрасные мгновенья вернут мне этот край, откуда приходят и сны мои, и самые малые мои движения?
Артюр Рембо. Озарения. [1]1
Артюр Рембо. Поэтические произведения в стихах и прозе: Сборник. М.: Радуга, 1988. Перевод Вл. Орла.
[Закрыть]
В деревне, где я появился на свет, скалы имеют имена. Есть там и Корабль, и Медвежья Морда, есть Засадная скала, Стена и Близняшки, именуемые еще Упырихиными Сиськами. И, само собой, не может не быть Дозорного камня: именно там выставляли стражу, когда воины преследовали непокорных, никакое иное место не пользуется большим почетом и не обросло таким длинным шлейфом преданий. При всем том, если и случается грезить о краях, где протекло невозвратное детство, мой взор притягивают не эти скалы, а величавый утес, похожий на трон, малость порушенный и словно бы продавленный великанским седалищем, с высокой прямой спинкой и боковыми отрогами, смахивающими на подлокотники, – только этот утес, насколько мне помнится, назван человечьим именем: Скала Таниоса.
Годы и годы я только разглядывал каменный престол, не осмеливаясь туда забраться. И не из страха либо осторожности: скалы в деревне были нашим убежищем и любимым местом забав, а я еще в раннем детстве заимел привычку поддразнивать более старших, решаясь на самые безрассудные вылазки. Хотя единственным нашим снаряжением оставались босые ноги и голые руки, мы так умели приклеиваться всей кожей к телу камня, что ни один отвесный уступ не мог нам противостоять.
Так вот, удерживало меня вовсе не опасение разбиться. Но суеверие и клятвенное обещание. Дед вытребовал его у меня перед самой кончиной. «Все скалы – твои, но только не эта!» – так он сказал. Да и остальные подростки, подобно мне, держались от той скалы подальше, обуянные таким же суеверным страхом. Они тоже кому-то давали клятву, приложив пальцы к пушку на верхней губе. И в ответ на все их недоуменные вопрошания звучало одно и то же: «Его прозывали Таниос-кишк. Он пришел и уселся на эту скалу. С тех пор о нем ни слуху ни духу».
При мне об этом персонаже, герое многочисленных местных побасенок, упоминали довольно часто, но особенно меня тогда заинтриговало само его прозвище. Что до Таниоса, тут мне все было ясно: имя, как я разумел, происходило из того же корня, что Антоний и тамошние его производные: Антун, Антониос, Мтаниос, Таннос и Таннус. Но что за смехотворная добавка «кишк»? На сей счет мой дедушка так и не соизволил меня просветить. Только обронил нечто, дозволительное, по его мнению, для детского слуха: «Таниос – сын Ламии. А о ней ты скорее всего слыхал. Все это так давно было… Даже я тогда еще не родился, да и отец мой тоже. В те времена египетский паша воевал с турецким падишахом, и предки наши очень настрадались, особенно после убийства патриарха. Его подстрелили прямо на подступах к нашей деревне, стреляли из ружья английского консула…» Так отвечал мой дед, когда не желал сказать больше. Просто разбрасывал обрывки фраз, словно показывал тропки: одну, потом другую, третью… не отпуская прогуляться ни по одной. Лишь много позже я смог узнать, что же там на самом деле приключилось. Понадобились годы, чтобы связать все воедино.
Однако же я сразу принялся распутывать нити этой истории, потянув за правильный кончик: имя Ламии мне было известно. Оно два века шло к нам и добралось невредимо благодаря известной всем поговорке: «Эх, Ламиа, Ламиа, разве скроешь такую красу?»
Еще и поныне стоит молодым людям, толпящимся на сельской площади, приметить закутанную в шаль женщину, как среди них обязательно найдется кто-либо, кто прошепчет: «Эх, Ламиа, Ламиа…» Обыкновенно это звучит неприкрашенной лестью, но подчас может скрывать едкую усмешку.
Большинство теперешних юнцов не больно-то чего знают о Ламии, а еще менее – о той человеческой драме, память о коей несет в себе поговорка. Они довольствуются повторением услышанного из уст отцов или дедов, порой вслед за ними повторяя и характерный взмах рукой, указующей на ныне обезлюдевшую верхнюю часть деревни, где доселе темнеют еще не потерявшие величия руины замка.
Жест этот долго побуждал мое воображение наделять прелестную Ламию рангом чуть ли не высокородной госпожи, оградившей свою красоту от досужих взглядов поселян высокими стенами. Бедная Ламиа, доведись мне глянуть хоть разок, как она суетится в замковой кухне или как ее босые ступни семенят по каменным плитам дворцовых прихожих, увидеть ее в накидке и с кувшином в руке, я бы не смог принять ее за владелицу замка.
Еще с меньшим основанием можно было бы счесть ее служанкой. Сегодня мне известно о ней не так уж мало. Прежде всего благодаря старикам и старухам из нашего селения, которых я непрестанно теребил расспросами. Не сейчас, конечно, а лет двадцать назад, теперь-то они все поумирали. За исключением одного. Его зовут Джебраил, он двоюродный брат моего деда, сейчас ему девяносто шесть. Его имя я называю не только из-за того, что ему посчастливилось пережить всех прочих, но прежде всего потому, что страстная, как у многих школьных учителей, любовь к истории родных мест делает его свидетельство наиценнейшим, по правде говоря, просто неоценимым. Я часами пожирал взглядом широченные ноздри и толстенные губы на его сухоньком сморщенном личике – возраст и лысина делают такие физиономии еще выразительнее. В последние несколько лет мы с ним уже не видались, но меня уверяют, что ни доверительный тон голоса, ни беглость речи Джебраила, ни всегдашняя ясность его памяти нисколько не поблекли. Сквозь строки, выходящие ныне у меня из-под пера, подчас проступает его голос, перекрывая мой собственный.
Именно Джебраилу я обязан изначальной заветной уверенностью, что Таниос – не только персонаж местного мифа, что он некогда был существом из плоти и крови. Доказательства явились позже, годы спустя. Когда случай мне помог добраться до подлинных документальных свидетельств.
Среди них чаще всего я буду ссылаться на три источника. Два из них принадлежат людям, неплохо знавшим Таниоса. А третий – ближе к нашим дням. Его автор – служитель церкви, скончавшийся сразу после завершения Первой мировой войны, монах Элиас из Кфарийабды, судя по имени, мой земляк, хотя не могу припомнить, чтобы кто-нибудь о нем упоминал. Его опус имеет такое заглавие: «Хроника горного селения, или История деревни Кфарийабда вкупе с примыкающими к ней поселениями и фермами, а также памятниками истории и архитектуры, расположенными в ее пределах, с описанием местных обычаев и повествованием о заметных людях и происшедших с соизволения Всевышнего важнейших событиях».
Диковинное, неровное, весьма путаное сочинение. Некоторые страницы написаны с очень личным чувством, перо горячится и обходится без условностей, его заносит на каком-либо вираже, вознесшемся над делами земными, отбрасывает за пределы возвышенных дерзновений, и тогда чудится, что перед тобой настоящий писатель. Но внезапно, словно бы устыдившись и раскаявшись в греховной гордыне, наш монах поджимается, стушевывается, его речь делается плоской, сам он умаляется во искупление стилистических излишеств, низводит свою задачу к ремеслу благочестивого компилятора, принимается громоздить заимствования из древних авторов и признанных современных сочинителей, преимущественно тех, кто пишет в стихах, отдавая предпочтение арабским виршам эпохи декаданса, где строка отягчена избытком условных красивостей и напором мертворожденной страстности.
Во всем этом я отдал себе отчет, лишь с превеликим тщанием двоекратно пропахав добрую тысячу страниц, а если точно – девятьсот восемьдесят семь, от предуведомления до традиционного финального стиха, обращенного к читателю книги и взывающего к его, читателя, снисходительности. Впервые заполучив в свои руки и раскрыв сей труд с большим неброским черным ромбом на зеленом переплете, я обратил внимание только на монотонную чреду мелких каллиграфических строк без точек и запятых, равно как и без абзацев – одна плотная вязь, тесно стиснутая узкими полями, словно картина рамой, и лишь то там, то тут – выбившиеся из стада летучие слова, напоминающие о последних слогах предыдущей страницы и предвосхищающие первое слово страницы, которая воспоследует (типографы называют их кустодами).
Еще не решаясь углубляться в чтение, угрожавшее занудить меня сверх меры, я краешком пальца теребил страницы, уголком глаза заглядывая внутрь, когда внезапно сознание высветило вот эти строки (я их тотчас переписал, а впоследствии перевел и снабдил знаками препинания):
На четвертое ноября 1840 года приходится загадочное исчезновение Таниос-кишк'а… И это при том, что у него было все, все, чего при жизни может достичь смертный. Прошлое благополучно разрешилось, дорогу в будущее ему разровняли. Вряд ли покинул он деревню по собственному изъявлению воли. Нет никаких сомнений в том, что над скалой, носящей его имя, тяготеет проклятие.
С этого мгновения все без малого десять сотен страниц уже не казались мне непролазными. Я взглянул на манускрипт совсем иными глазами. Как на проводника и попутчика. А может, и как на верного скакуна.
Мое путешествие начиналось, путь был открыт.
ПРОИСШЕСТВИЕ I
ИСКУШЕНИЕ ЛАМИИ
Да ниспошлет мне прощение Всевышний за те часы и дни, что мне потребуется позаимствовать у богоданного времени, отводимого на молитву и чтение Священных текстов, ради написания сей несовершенной истории людей моего края, приняв в оправдание, что ни одна минута не могла существовать ранее тысячелетий, предшествовавших ей от самого мига Творения, и что ни единого удара сердца нельзя помыслить вне бытия многих поколений предков, идущих одно за другим, с их встречами, обещаниями, освященными законом союзами или, напротив, искушениями.
Предуведомление к «Хронике горного селения», принадлежащей перу монаха Элиаса из Кфарийабды
I
В те времена небо нависало так низко, что никто из поселян не осмеливался выпрямиться во весь свой рост. Но жизнь шла отнюдь не без вожделений и празднеств. И хотя никто не ждал лучшего в этом мире, каждый день нес надежду избавления от худшего.
Все селение целиком принадлежало одному феодальному сеньору. Он был наследником длинной цепочки властителей, но когда сегодня в наших краях упоминают об «эпохе шейхов» без каких-либо уточнений, это никого не способно ввести в заблуждение: речь всегда идет о вполне определенном шейхе – о том, в тени коего жила Ламиа.
Нет, он не был могущественным властителем, отнюдь. Между равниной на Востоке и морем можно было насчитать десятки феодальных доменов, превосходящих его владения. Ему принадлежали только Кфарийабда и несколько близлежащих ферм, так что под его началом находились сотни три семейных очагов, не более. Над ним и прочими местными шейхами стоял эмир Предгорья, а выше эмира были провинциальные паши, сидевшие в Триполи, Дамаске, Сайде или Акре. А еще выше, гораздо выше, у самой границы небес имелся истанбульский султан. Но жители селения не заглядывали так высоко. «Их» шейх казался им весьма и весьма значительной фигурой.
Каждое утро набиралось предостаточно желающих подняться в замок и дожидаться там пробуждения господина, тесной кучкой топчась в коридоре, ведущем в его покои. А при его выходе замок оглашался сотнями благих пожеланий, тихих и громких, в какофоническом многоголосии сопровождавших каждый его шаг.
Большинство пришедших были одеты так же, как их господин: широкие черные шаровары, рубахи в белую полоску, колпаки землистых оттенков, а верхнюю губу каждого бритого лица венчали одинаковые усы: густые и горделиво подвитые кольцами вверх. Чем выделялся шейх? Только яблочно-зеленым жилетом с тонким золотым шитьем, каковой носился во всякое время года подобно тому, как иные не снимают собольей шубы или не выпускают из рук скипетра. Сказав это, нелишне заметить, что ни один чужак не затруднился бы отыскать повелителя в толпе селян: одна за другой их головы ныряли вниз, чтобы поцеловать его руку – церемония, не прекращавшаяся до тех пор, пока господин не вступал в зал с колоннами, а оказавшись в нем – не занимал своего обычного места на софе и не подносил к губам золоченый мундштук кальяна.
Некоторое время спустя, возвращаясь домой, поселяне говорили своим женам: «Сегодня утром я видел руку шейха». Не «целовал руку», нет! Конечно, все ее лобызали, и притом публично, но выговаривать это целомудренно стеснялись. Однако тем паче не произносили: «Я видел шейха», находя подобные речи самонадеянными, как если бы дело шло о встрече двух людей равного состояния, нет, именно «я видел руку шейха» – такова была формула, освященная традицией.
Ничья рука в мире столько не значила. От Божией или султанской десницы не ожидали ничего, кроме всеобщих напастей; лишь шейхова длань расточала беды повседневные. А подчас рассыпала и крохи благ.
В тамошней обиходной речи само слово «kaff» порой обозначало и «руку», и «пощечину». Сколько властителей делали его символом владычества и инструментом повелевания! Когда они судачили промеж себя вдали от ушей верноподданных, это вездесущее словцо то и дело выпрыгивало у них из уст: «Надо, чтобы у селянина пощечина не слезала с уха» – речение, каковое можно истолковать в том смысле, что следует держать народ в непрестанном страхе, с головой, втянутой в плечи. Зачастую «пощечиной» для краткости именовали «заковывание в железа», «порку», «отбывание повинности»…
Никому из владетельных сеньоров не запрещалось дурно обращаться с подданными, а если в некоторых, крайне редких, случаях верховная власть кого-нибудь в подобном обвиняла, то исключительно желая навредить ему по причинам, одной ей известным, и ища малейшего повода его прищучить. Века и века на этих землях царил произвол, а ежели когда-либо ему и предшествовала пора справедливости, о ней ныне не помнил уже никто.
Если кому выпадала удача иметь хозяина менее жадного или свирепого, чем остальные, он почитал себя счастливчиком, благодаря Господа за толикое благорасположение столь истово, как если бы от Всевышнего и нельзя было ожидать большего.
Именно так обстояли дела в Кфарийабде – вспоминаю, как я был удивлен, а подчас и возмущен тем, с каким восторгом некоторые жители деревни толковали о том шейхе и годах его правления. Конечно, говорили они, он охотно позволял целовать себе руку, а время от времени и награждал кого-нибудь из подданных звонкой пощечиной, но никогда никого не обижал зазря. Поскольку именно ему приходилось вершить суд и расправу в своих владениях и все распри – между братьями, соседями, мужем и женой – разрешались по его слову, шейх имел обыкновение выслушивать самих жалобщиков, затем двух-трех свидетелей, а под конец выносить непререкаемое суждение: чаще всего тяжущиеся призывались к незамедлительному примирению и полагающемуся в таких случаях обмену поцелуями, а буде кто заупрямится, хозяйская пощечина служила последним доводом.
Такое наказание было достаточной редкостью, так что потом поселяне неделями не обсуждали между собой ничего другого, умудряясь описывать свист пощечины, длинно распространяться относительно оставленного пальцами следа на щеке, не сходившего целых три дня, и касательно век потерпевшего, которые уже более никогда не переставали моргать.
Близкие получившего пощечину приходили его навестить. Они усаживались вокруг него, но не близко, а у стен комнаты, и молчали, словно на похоронах. Это продолжалось, пока один из них не возвышал голос, замечая, что в случившемся нет позора. Кого не бил по щекам его собственный отец?
Шейх желал, чтобы почтение к нему выражалось именно так. Обращаясь к жителям своих владений, называл их не иначе как «иабнэ!» («сын мой!») или «йа бинт!» («дочь моя!»). Он внушал себе, что с подданными его теснейшим и непосредственным образом связывают некие узы, а потому он вправе ожидать от них подчинения и почтения, а они от него – непременного и исключительного покровительства. Даже тогда, в начале девятнадцатого столетия, такого рода совершенный патернализм выглядел преувеличением, пережитком первоначальных веков невинности, но большинство селян приспособились к нему, а некоторые из их потомков еще вспоминали о нем не без ностальгии.
Да я и сам, могу в том признаться, даже я, узнав о кое-каких свойствах этого человека, умерил собственную к нему суровость. Ибо если «наш шейх» не отказывался от прерогатив своей власти, он отнюдь не пренебрегал, подобно большинству его знатных современников, своими обязанностями. Так, почти все крестьяне были обязаны отдавать ему часть урожая, но он имел обыкновение заверять, что «никому в его владениях не грозит голод, пока в замке найдется хоть одна оливка и одна лепешка». Поселяне имели случай не раз убедиться, что слова эти не были пустым звуком.
То, как шейх относился к приказам вышестоящих властей, также много значило в глазах селян, отсюда в не меньшей мере проистекают их благожелательные воспоминания о нем. Другие шейхи в случаях, когда эмир или паша требовали от них ввести новый налог, не брали на себя труд доказывать его вредоносность, подробно вникая в суть дела, и сходились во мнении, что лишний раз нажать на подданных полезнее, нежели ссориться с власть имущими. Не так поступал «наш» шейх. Он выходил из себя, не жалел сил, громоздил прошение на прошение, не скупился на бакшиши и радел об их своевременном вручении тем, кому надо, – и порой добивался отсрочки или убавления суммы платежей, если не полной их отмены. Говорили, что чиновники и казначеи вытягивали недостающее из более покладистых господ.
Частенько он оказывался и в проигрыше. Власти редко проявляли терпимость, когда дело касалось налогов. Но по крайней мере он не оставлял попечения, крестьяне были ему благодарны и за это.
Не менее ценилось и его поведение во время местных войн. Кичась былыми заслугами, он свято блюл право своих подданных сражаться под собственным знаменем, не растворяясь в общевойсковых порядках. Привилегия, неслыханная для такого крошечного владения, способного поставить под ружье в лучшем случае четыре сотни воинов. Для поселян это значило очень много. Уйти на войну вместе с детьми, отцами, родными и двоюродными братьями, под водительством самого шейха, знавшего своих людей поименно, помнить, что тебя не оставят, раненного, на поле боя, что выкупят, если попадешь в плен, и достойно похоронят, коль встретишь смерть! Что не пошлют на бойню по прихоти какого-нибудь взбесившегося паши! Этой привилегией селяне гордились не меньше самого шейха. Хотя, конечно, право на нее приходилось вновь и вновь подтверждать делом. Недостаточно было «создавать видимость», требовалось храбро сражаться, отважней, чем весь этот сброд, что идет с тобой или против тебя, надо было, чтобы смелость твоих соотечественников приводили в пример во всех селениях Предгорья, во всей империи, отсюда вели свое начало особая гордость здешних обитателей, их чувство чести, ибо только отвага помогала сохранить почетную привилегию.
По всем этим причинам люди Кфарийабды почитали «своего» шейха наименьшим злом. Он представлялся бы им истинным благословением небес, если бы не одно «но», каковое в глазах некоторых жителей деревни сводило на нет все его благороднейшие свойства.
– Женщины! – восклицает старый Джебраил, и на его узком, как у сарыча, лице загораются глаза хищной птицы. – Женщины! Шейх вожделел к ним ко всем, и каждый вечер какая-нибудь да поддавалась его уговорам!
Что касается конца фразы, здесь сильное преувеличение. Но в остальном – и главном – похоже, что шейх, подобно своим предкам и по примеру стольких властительных современников на всех земных широтах, жил в твердом убеждении, что все женщины его владений принадлежат лично ему. Как дома, земли, смоковницы и виноградники. Впрочем, как и мужчины. И что он в любой день, повинуясь лишь собственной прихоти, волен заявить о своем праве.
При всем том не надо воображать его каким-то сатиром, рыщущим по деревне в поисках добычи с плечистыми подручными на амплуа загонщиков. Нет, все обстояло иначе. При всей своей страстности он никогда не терял известного самообладания, никогда бы не унизился до шмыганья в потаенную дверцу, до вороватых похождений в отсутствие законного супруга. Он, можно сказать, служил свои обедни только в собственном дому.
И подобно тому, как каждый мужчина деревни должен был хотя бы раз в месяц карабкаться вверх по дороге к замку, чтобы «видеть руку шейха», всем женщинам приходилось ежемесячно посещать замок, принимая участие в повседневных или сезонных работах, – так они выражали свою верноподданность. Некоторые славились особыми способностями толочь мясо в ступе или тонко раскатывать тесто для лепешек. А когда требовалось готовить кушанья для пиршества, рекрутировались все обладательницы каких-либо кулинарных умений. Короче, своего рода феодальная повинность, но поделенная на всех, на десятки, сотни женщин, а значит, не бывшая слишком в тягость.
Меня, чего доброго, можно понять так, будто лепта мужчин ограничивалась утренним лобызанием руки. Это не соответствовало бы действительности. Они поставляли и рубили дрова, занимались всяческими починками, поправляли размытые террасы на обрабатываемых землях, принадлежавших шейху, и все это помимо основной – то есть военной – повинности, обычной для мужской половины человеческого рода. Но в мирное время замок представлял собой улей, где копошились женщины; они там суетились, болтали, не забывая и о развлечениях. А порой, во время сиесты, когда вся деревня укрывалась в навевающей ленивые грезы полутьме, то одна, то другая из этих женщин терялась в сплетении переходов и комнат, чтобы вынырнуть на поверхность часа через два среди всеобщих перешептываний и ухмылок.
Некоторые предавались подобным забавам с легким сердцем, польщенные расточаемыми им страстными ухаживаниями. Шейх был мужчина видный, осанистый; к тому же от них не укрывалось, что он бегал отнюдь не за всякой юбкой, нет, он высоко ценил шарм и ум. До сих пор в деревне памятно присловье, часто слышанное из его уст: «Только ослы возлежат с ослицей!» Так что он был ненасытен, но переборчив. Именно таким он помнится потомкам, и, вероятно, таковым представлялся он и своим подданным. Посему многим женщинам хотелось быть по меньшей мере замеченными, это укрепляло их веру в собственную неотразимость. Они внушали себе, что вольны поддаться искусителю или в решительный миг дать отпор. Опасная игра, должен признать, но пока наливалась в бутоне, а потом раскрывалась цветком – прежде, чем окончательно поблекнуть, – их красота, разве могли они отказать себе в самом желании очаровывать?
Тем не менее в большинстве – что бы там ни утверждал старый Джебраил – женщины опасались столь предосудительных связей, заведомо лишенных будущего. Они не позволяли себе иных галантных забав, кроме гибкого ускользания от господских поползновений, и, насколько могу судить, их повелитель умел осаживать себя, умеряя пыл, когда «противник» проявлял изворотливость. И не в последнюю очередь – дальновидность, коль скоро мог наступить момент, когда объект страсти лишался права и средств к отступлению: оказавшись с шейхом тет-а-тет, юная особа уже не могла повелеть ему удалиться, не оскорбив. А на такое бы не решилась ни одна селянка. Духу не хватило б. Уловки приходилось пускать в ход чуть загодя, именно с той целью, чтобы не очутиться в стеснительном противостоянии. Посему прелестницы пускались на тщательно просчитанную череду хитростей. Так, кое-кто из них, когда наставала пора идти в замок, являлся туда с малым ребенком – собственным или соседским – на руках. Другие брали с собой сестру или мать, ибо в такой компании пребывали недоступны для атак. Еще одним способом избежать обольстительных наскоков было примоститься в непосредственной близости от молодой супруги правителя, шейхини, и не отходить от нее до самого вечера.
Шейх промедлил с женитьбой до порога сорокалетия, да к тому же в брак вступил чуть ли не по принуждению. Тамошний церковный патриарх, утомленный потоками жалоб на неисправимого соблазнителя, решился пустить в ход все свое влияние, чтобы покончить с вопиющим положением дел. Казалось, он нашел идеальное противоядие: союз с дочерью гораздо более крупного и влиятельного местного феодала, повелителя из Великого Загорья; патриарх питал надежду, что из уважения к супруге и не в меньшей степени из опасения раздражить могущественного свекра хозяин Кфарийабды принудит себя к воздержанности.
В первый же год шейхиня произвела на свет сына, которому дали имя Раад. Меж тем супруг, не усмиренный даже появлением наследника, не замедлил воротиться на дорогу греха, пренебрегая своей половиной в пору ее беременности, а после родов ведя себя еще менее почтительно.
Супруга же, наперекор предположениям патриарха, явила миру свидетельство поразительной для особы ее ранга слабости. Несомненно, она припоминала то, что творили в ее собственном дому глава семейства, известный весьма ветреным нравом, и его не менее легкомысленные сыновья, и как все это смиренно терпела мать. В ее глазах поведение мужа являлось следствием его темперамента и положения в обществе – двух вещей, изменить кои она была не в силах. Она не желала, чтобы при ней заговаривали о шейховых приключениях, ибо тогда пришлось бы что-то делать. Но сплетни до нее доходили и причиняли сердечную боль, хотя плакала она только вдали от чужих глаз, разве что в присутствии матери, у которой подолгу гостевала.
В замке она всем своим видом изображала равнодушие или напирала на горделивую иронию, а горе топила в сладком сиропе. Шейхиню всегда видели сидящей на одном месте, в крошечной гостиной, примыкавшей к ее спальне; голову ее на старинный манер неизменно венчал тантур:водружаемый прямо на темя высокий цилиндрический колпак из серебра, с какового свешивалось легкое покрывало (конструкция настолько сложная, что ее не разбирали на ночь). «Что вовсе не помогало ей, – добавлял от себя Джебраил, – ни отвоевать назад расположение шейха, ни вернуть былую стройность. Говорили, что на расстоянии вытянутой руки она всегда держала корзинку со сладостями, а служанки и посетительницы бдили, чтобы та никогда не пустовала. И хозяйка замка налилась жиром, как свиноматка».
Она была не единственной женщиной, которая страдала от необузданности шейха, но особенно негодовали на него мужчины. Хотя некоторые давали понять, будто верят, что подобное случается только с женами, матерями, сестрами и дочерьми других, все томились неотвязным опасением увидеть однажды пятно на собственных пока не запятнанных одеждах. Какие-то женские имена произносились шепотом, блуждали по деревне, это вызывало все новые приступы мстительной ревности. Споры и стычки вспыхивали то и дело по самым пустячным поводам, выдавая своей ожесточенностью ярость всеобщего подспудного озлобления.
Люди присматривали, послеживали друг за другом. Собирающейся в замок женщине было достаточно приодеться чуть пококетливее, чтобы ее тотчас заподозрили в желании подцепить шейха на крючок. И сразу же она оказывалась виновной, греховнее самого соблазнителя, в оправдание коему допускалось, что «так уж он устроен». Столь же верно и то, что у желающих избежать каких-либо приключений в запасе всегда оставалось самое проверенное средство – представать перед повелителем замотанной в неприглядные тряпки, бесформенной замарашкой.
Но существуют при всем том женщины, которым не удалось бы скрыть свою красоту. А может, самому Творцу не угодно держать такое создание сокрытым от Его глаз… Но бог ты мой! В каком вихре страстей они всегда обретаются!
Одна из таких красавиц и жила в моей деревне как раз в ту эпоху.
Звали ее Ламиа.
Та самая. Из поговорки.
II
Ламиа несла свою красоту, как крест. Обычно для того, чтобы перестать привлекать взгляды, женщине достаточно накинуть покрывало либо задрапироваться в какую-нибудь неуклюжую хламиду – это помогло бы любой. Но только не Ламии. Она была, можно сказать, пронизана светом. Сколько бы ни пряталась, ни пыталась стушеваться, затеряться в толпе, она неизбежно выдавала себя, выделялась, ей хватало одного-единственного жеста, пустяка – поправить волосы, неосмотрительно промурлыкать фразу из затрепанной песенки, – и все уже смотрели на нее одну, только и слышали, что ее голос, звонкий, как журчанье прозрачного родника.
Если в обхождении с прочими, со всеми прочими, шейх давал волю своему пылкому и тщеславному нраву, то с Ламией все обернулось иначе, причем с первой же минуты. Ее очарование наводило на него робость – чувство, которое ему редко случалось испытывать. От этого он возжелал ее еще жарче, однако умерил свое нетерпение. Для достижения побед более заурядных сей прирожденный стратег имел свои отработанные приемы: нежное словцо, фривольный намек, лаконичная демонстрация силы – и крепость взята. Ради Ламии он снизошел до настоящей осады.
Разумеется, он не смог бы столь благоразумно воздерживаться от сближения, если бы не одно обстоятельство, разом и ободрявшее его, и чреватое затруднениями: Ламиа обитала под его же кровом, во флигеле замка, поскольку была женой Гериоса, его управителя.
Этот последний, являясь делопроизводителем при судебных тяжбах, мажордомом, казначеем, секретарем, а подчас и наперсником шейха, был обременен обязанностями, не имеющими четких границ. Ему полагалось исправно уведомлять своего господина о состоянии его владений, об урожаях, распределении воды, ценах, афронтах всякого рода. Он даже скрупулезно вносил в реестр все дары, приносимые в замок поселянами, к примеру: «Тубийя, сын Вакима, к Великому Празднику – сиречь к Пасхе – пришел с половиной окки [2]2
Окка – мера веса на Арабском Востоке, колебалась в пределах от 1,25 до 1,35 кг. – Примеч пер.
[Закрыть]мыла и двумя унциями кофе». Когда же требовалось составление договоров об испольщине – и эта забота равным образом возлагалась на плечи все того же супруга Ламии.
Если бы речь шла о домене побогаче, более обширном, быть бы Гериосу сановником высокого ранга; впрочем, по мнению окружающих, ему и так выпал завидный жребий: он жил, не ведая нужды, и апартаменты, которые он занимал, даром что скромные в сравнении с покоями его господина, выглядели лучше, чем самые приглядные из домов селения.
Получив столь выгодную должность, Гериос тут-то и попросил руки Ламии. Тем не менее его будущий тесть, поселянин довольно зажиточный, чья старшая дочь была замужем за кюре, уступил лишь после продолжительных колебаний. Претендент, по всей видимости, обещал стать надежным оплотом домашнего очага, но отцу Ламии так и не удалось проникнуться к нему сердечным расположением. Положим, его вообще мало кто ценил, хотя толком объяснить, чем он плох, кроме разве что некоторой холодности, тоже никто не умел. Он был, как говаривали односельчане, из тех, «кто и горячему хлебу не улыбнется». Одним словом, его считали скрытным и спесивым. Причем не таили, даже демонстрировали ему свою неприязнь. Он же, если и бывал задет, никогда этого не показывал – ни словом, ни жестом. При своем положении он мог бы изрядно усложнить жизнь тем, кому был так не по нраву. Но запрещал себе мстить. Однако никто не питал к нему за это признательности. Хранили неукоснительную враждебность: «Ни добра принести не умеет, ни зла», – только так и высказывались.







