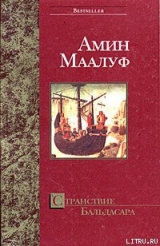
Текст книги "Странствие Бальдасара"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Ночью я хотел обнять Марту, может статься, в последний раз. Но она с плачем оттолкнула меня и ни разу со мной не заговорила. Наверное, она хочет приучить меня к тому, что ее больше не будет рядом со мной, и самой привыкнуть к тому, что она больше не будет спать, положив голову мне на плечо.
Ее отсутствие уже началось.
26 января.
Прямо сейчас я собирался написать, что я счастливейший из людей, живших когда-либо в Генуе и в ее заморских владениях, как говорил когда-то мой покойный отец. Но это было бы еще преждевременно. Скажу только, что я полон великой надежды. Да, великой надежды, великой надежды. Вновь обрести Марту, увезти ее с собой в Смирну, а потом домой в Джибле, где родится наш ребенок. Да не попустит Бог, чтобы мой пыл изменил мне так же внезапно, как охватил меня!
Я так радуюсь потому, что человек, который должен был отвести нас к мужу Марты, пришел к нам сегодня с превосходными новостями. Я, желавший сначала, чтобы его вовсе не существовало, не жалею теперь о том, что мне удалось встретиться с ним, услышать его, поговорить. О, я не питаю никаких иллюзий насчет этого персонажа, подлой кабацкой крысы, я не могу не понимать, что он рассказал мне все с единственной целью: вытянуть из меня второй золотой, вероятно, соблазненный той легкостью, с какой я дал ему первый.
Но вернусь к тому, что меня так обрадовало: упомянутый Драго узнал, что Сайаф в прошлом году снова женился и что он вскоре станет отцом; говорят, его новая супруга – дочь богатого и могущественного нотабля 3939
Нотабль – благородный человек, именитый гражданин. – Примеч. пер.
[Закрыть], жителя этого острова, который, разумеется, не знает, что его зять уже женат. Полагаю, однажды родители его жены обнаружат и другие тайные грани этого проходимца и откажутся от подобного союза, но – да простит меня Бог! – не я буду тем, кто постарается открыть им глаза. Пусть каждый платит за свои ошибки, каждый несет свой крест, а я уже достаточно сгибаюсь под тяжестью своих собственных. Лишь бы освободиться от этой тяжести, и я покину остров, не оглядываясь. Эти известия настолько обрадовали меня именно потому, что они могут полностью изменить поведение мужа Марты. Вместо того чтобы пытаться вернуть ее, как он поступил бы, не будучи снова женат, Сайаф теперь, вероятно, увидит в ее приезде на остров угрозу для своей новой жизни, которую он начал строить. Драго, который хорошо его знает, уверен, что он заключит любую сделку, лишь бы сохранить свое нынешнее положение; возможно, он даже подпишет при свидетелях документ, удостоверяющий, что его первый брак никогда не был действителен и, следовательно, должен быть расторгнут. Если это произойдет, Марта вновь обретет свободу! Свободу выйти замуж, свободу стать моей женой, свободу дать своему ребенку имя его отца.
Но до этого еще далеко, я знаю. Муж «вдовы» ничего еще не подписал, ничего не пообещал. Но то, что говорит Драго, очень здраво. Я полон великих надежд, да, а Марте – между слезами, тошнотой и молитвами – случается улыбаться.
27 января.
Драго отведет нас к Сайафу завтра. Я говорю «нас», потому что таково мое желание, но Марта хочет отправиться туда одна. Она утверждает, что легче сможет добиться желаемого, если поговорит с мужем с глазу на глаз; она опасается, как бы он не заупрямился, увидев рядом с ней мужчину и заподозрив меня в связи с нею. Она, наверное, не ошибается, но я не могу не испытывать беспокойства при мысли, что она собирается отдать себя – пусть это будет всего лишь на час – на милость такого негодяя.
В конце концов мы достигли компромисса, кажущегося мне разумным: до деревни Катаррактис мы доберемся все вместе. Там, как мне говорили, есть небольшой греческий монастырь, где останавливаются многие путники и в котором подают славное вино из Фиты и лучшую пищу, но самое удобное то, что он расположен всего в нескольких шагах от дома нашего Сайафа. Мы там удобно устроимся и будем ждать возвращения Марты.
28 января.
Вот мы и в монастыре, и я берусь за дневник, чтобы время текло быстрее и не казалось мне таким долгим. Я обмакиваю острие моего калама в чернильницу тогда, когда другие грустят, или протестуют, или молятся. Потом я щедро заполняю лист словами, а во времена моей юности я бы ушел и долго бродил бы где-нибудь без цели.
Марта покинула меня час назад. Я видел, как она пошла по переулку. У меня стеснило сердце и перехватило дыхание, я прошептал ее имя, но она не обернулась. Она решительно шагала вперед, словно приговоренная, смирившаяся со своей участью. Драго, шедший впереди, указал ей на дверь. Она проскользнула туда, дверь закрылась. Мне удалось заметить только дом этого разбойника, спрятанный за оградой и высокими деревьями.
Зашел какой-то монах и предложил мне поесть, но я предпочитаю подождать, пока вернется Марта, и мы поедим вместе с ней. Во всяком случае, у меня сжалось горло и сдавило желудок, я и не смогу ничего проглотить, пока ее не будет рядом со мной. Я нетерпелив. Я без конца повторяю себе, что надо было помешать ей идти туда, даже силой. Но как? Я все-таки не собирался удерживать ее силой. Да изгонит Небо мои сомнения, пусть она вернется живой и здоровой, иначе весь остаток жизни я проведу, терзаясь угрызениями совести.
Как давно она ушла? В моей душе столько смятения, я не способен различать часы и минуты. Однако я терпеливый человек; как все торговцы-антиквары, я иногда неделями жду богатого покупателя, который пообещал вернуться, но идет время, а он все не возвращается. Но сегодня у меня нет ни крупицы терпения. Я ощутил, что время тянется слишком долго, с того момента как Марта исчезла. Она – и ребенок, которого она носит.
Вместе с Хатемом я пошел прогуляться по улицам, несмотря на только что зарядивший мелкий дождь. Мы прошлись по переулку до самых дверей дома Сайафа. Мы не услышали никакого шума и не увидели ничего, кроме фрагментов желтоватых стен, проглядывающих сквозь ветви деревьев. Переулок заканчивался тупиком, и мы вернулись обратно той же дорогой.
Уже сгустились сумерки, а Марта еще не вернулась, Драго тоже не видно. Я все еще отказываюсь проглотить хоть кусочек, пока ее нет со мной. Я перечитал предыдущие строки, те, в которых написал, что «я не предам ее», но что будет предательством с моей стороны: если я вмешаюсь в ее дела, или, напротив, не вмешаюсь?
Наступает ночь, я согласился проглотить немного супа, куда плеснули красного вина. Большую порцию доброго вина, придавшего супу цвет свеклы и поддельный вкус сладкого сиропа, – чтобы успокоить мою тревогу, чтобы пальцы прекратили дрожать. От меня не отходят, меня окружают заботой, мной занимаются, словно я тяжелый больной или безутешный вдовец.
Я вдовец, который никогда не был супругом. Я отец, так и не ставший отцом. Я обманутый любовник. Пока не кончилась эта тусклая ночь, я еще позволяю сомнениям и тревогам властвовать надо мной, но с зарей победит генуэзская кровь, с зарей я восстану.
Восходит солнце. Я не спал. Марта еще не вернулась. Но я овладел собой, я сохраняю рассудок и здравый смысл. Я уже не так срываюсь, не так сильно взволнован, как мог бы. Неужели я уже покорился тому, что случилось? Тем лучше, пусть в это верят другие, я-то знаю, на что я способен, чтобы вернуть ее.
Хатем стерег меня всю ночь, боясь, как бы я не совершил какой-нибудь безумный поступок. И только когда я вновь зажег свечу, развернул тетрадь, поставил чернильницу, расправил мои листы и успел написать несколько слов, я увидел, как голова его запрокинулась и он уснул с открытым ртом.
Все вокруг меня спят, а Марта, спит ли она? Где бы она ни была, в постели этого человека или в темнице, я уверен, она не сомкнула глаз и в эту минуту она думает обо мне, так же как и я думаю о ней.
Меня не покидает ее лицо, оно и сейчас стоит перед моим мысленным взором, как будто я вижу ее при свете свечи. Но больше я ничего не вижу. Я не могу представить, где она сейчас, какие люди ее окружают, в какую одежду она одета или на ней уже ничего нет. Я представляю себе постель или темницу, как мог бы представить и хлыст, и кнут, и пощечины, и ее распухшее лицо.
Мои страхи заводят меня слишком далеко. Потому что мне приходит на ум, что, возможно, этот негодяй, ее муж, чтобы не подвергать опасности свой новый брак, подумает о том, как заставить ее исчезнуть. Вчера эта мысль уже приходила мне в голову, но я гнал ее от себя. Слишком много свидетелей, Сайаф не может этого не знать. Я, Хатем, Драго, даже монахи, которые видели, как Марта приехала вместе с нами, а потом как ее отвели к этой двери. И если я снова испытываю тот же страх, это оттого, что бессонная ночь оживляет все тревоги. И потому что я стараюсь не представлять, где Марта провела эту ночь.
Говоря по правде, все возможно, все. Даже жаркие объятия супругов, которые, вдруг вспомнив свою прежнюю любовь, обнимутся с тем большим пылом, чем больше им нужно простить друг другу. Из-за своей беременности Марта не может желать лучшего исхода, чем с первой же ночи очутиться в его постели. Тогда, слегка сплутовав с датами, она сможет уверить Сайафа, что это его ребенок.
Конечно, еще остается вторая жена и ее родители, наличие которых делает такой исход событий немыслимым. Из-за Марты я должен был бы жалеть об этом, но, может, я должен радоваться за себя. Нет, я не могу этому радоваться. Потому что все время думаю о крайних средствах, к каким может прибегнуть этот человек. В этом проклятом деле ничто не обрадует меня, ничто меня не утешит. Особенно в этот час, такой прекрасный, такой мирный… а мой усталый разум рисует только мрачные картины. А впрочем, он уже не рисует, а бестолково марает.
Я добрался до конца страницы, и хорошо бы, воспользовавшись этим, прилечь на минуту, оставив чернила высыхать в одиночестве.
Тетрадь III. Небо без звезд
В Генуе, 3 апреля 1666 года.
Пять месяцев, почти каждый день, излагал я события этого путешествия, а теперь у меня нет ни строчки от всего, что я написал. Первая тетрадь осталась у Баринелли в Константинополе; вторая – в монастыре Хиоса. Я оставил ее в спальне, открытую на последней странице, чтобы просушить чернила. Я дал себе слово вернуться до наступления вечера и описать все, что должно было случиться в тот решающий день. Но я не вернулся.
Решающий день! Увы, он, вероятно, и был таковым и в гораздо большей степени, чем я мог ожидать, и окончился он совсем не так, как мне хотелось. И вот я здесь, один, разлучен со всеми, кого люблю, со всеми своими, и болен. Слава богу, покинувшая меня Фортуна отняла одну руку, но вновь подхватила меня – другой рукой. Лишившегося всего, голого, словно новорожденный младенец на груди матери. Моей вновь обретенной матери. Матери-Земли. Моего родного берега. Генуи, моего родного города.
С тех пор как я здесь, каждый день я собирался писать, чтобы рассказать о своем путешествии, разобраться в том, что я чувствую в беспрестанных метаниях – от бессильного уныния к лихорадочному возбуждению. И если я до сего дня еще ничего не написал, это главным образом только из-за пропажи моего дневника. Я понимаю, конечно, что однажды мои слова «уйдут в небытие», нас самих ждет забвение, но для того, чтобы чем-то заниматься, нам нужна хотя бы видимость времени, иллюзия постоянства. Разве мог бы я марать эти страницы и занимать себя описанием чувств и событий, подбирая самые точные слова, если бы мне не удалось вернуться к ним через десять или двадцать лет, чтобы отыскать в них то, что было когда-то моей жизнью? А впрочем, я писал, пишу и буду писать. И может быть, спасение смертных состоит как раз в их способности к переменам.
Но вернусь к своей истории. В то утро на Хиосе, прождав целую ночь, я решил во что бы то ни стало отыскать Марту. Теперь, когда я пишу эти строки, меня не покидает впечатление, что я говорю о предыдущей жизни, нормальное течение которой отклонилось в сторону после ухода любимой женщины и стало чем-то потусторонним, исковерканным. Я представляю себе ее живот, который уже, должно быть, немного округлился, и спрашиваю себя, увижу ли я когда-нибудь ребенка, зачатого от моего семени. Надо бы мне прекратить стенать, надо взять себя в руки, воспрять духом. Нужно, чтобы слова, которые я пишу, притушили мою тоску, вместо того, чтобы разжигать ее вновь, чтобы мне удалось рассказать все спокойно, так, как я себе обещал.
Итак, проспав всего час на монастырском постоялом дворе у монахов Катаррактиса, я внезапно вскочил и решил отправиться к мужу Марты. У Хатема, отказавшегося от попытки вразумить меня, не осталось другого выбора, как только пойти вместе со мной.
Я постучал в дверь. Нам отворил стражник, бритоголовый гигант с пышной бородой и усами, который спросил, что нам угодно, не пригласив войти. Он обратился к нам без малейшего намека на вежливость, на греческом наречии, бытующем у пиратов, ни разу не улыбнувшись и похлопывая рукой по рукоятке кривого кинжала. В нескольких шагах позади него стояла парочка других громил той же породы, правда, не на таких высоких ходулях, как у предыдущего, но на их лицах застыла такая же гримаса. Я был готов метать громы и молнии, в то время как мой приказчик сохранял равнодушие подчиненного. Беспрестанно улыбаясь и рассыпаясь в приветствиях, – на мой взгляд, более, чем это было необходимо, перед такими грубиянами, – он объяснил им, что мы из Джибле, из той местности, откуда родом их хозяин, и что этот последний будет счастлив узнать, что мы оказались проездом на его острове.
– Его здесь нет!
Тот человек собирался закрыть дверь, но Хатем не хотел сдаваться.
– Если он отсутствует, мы, возможно, могли бы поприветствовать его супругу, нашу родственницу…
– Когда его нет, жена никого не принимает!
На этот раз дверь захлопнулась, мы едва успели отдернуть наши головы, ноги и пальцы.
Поведение шакала; но в глазах закона виновен именно я, честный торговец, тогда как этот мерзавец и его сбиры – в своем праве. Марта вышла замуж за этого человека, а так как он не был столь любезен, чтобы сделать ее вдовой, она остается его женой; ничто не позволит мне ни забрать ее у него, ни даже увидеться с ней, если он не пожелает мне ее показать. Я никогда не должен был разрешать ей так довериться ему и оказаться в его власти. Напрасно я повторял себе, что она сделала то, что хотела сделать, что у меня не было ни одного довода, чтобы помешать ей, – это не смягчало мук моей совести. И если даже я совершил ошибку в своих рассуждениях, если осознал, что должен искупить ее, тем не менее я не покорюсь. Заплатить за свою ошибку, да, но разумную цену! И речи быть не может, чтобы Марта навсегда осталась гнить у этого человека! Я впутал ее в эту историю, мне надлежит найти средство вырвать ее из лап этого мерзавца.
Средство, но какое? В густом тумане, в котором блуждал мой разум после бессонной или почти бессонной ночи, я видел только одно слабое звено в броне моего врага: его второй брак. Это ведь и раньше было моей первой мыслью. Напугать Сайафа тем, что его здешний тесть, богатый и могущественный, сможет узнать правду, и таким образом подвести его к составлению…
Я мог бы исписать целые страницы, рассказывая, как бы я желал, чтобы эти события распутались так-то и так-то, и как они на самом деле развернулись, но я еще слишком слаб и боюсь вновь впасть в отчаяние. Итак, я обрываю рассказ, ограничившись несколькими словами, чтобы описать продолжение этого грустного дня.
Возвращаясь на постоялый двор после неудачи нашего краткого визита в дом негодяя, мы заметили вдалеке зеленую рубашку Драго, который будто поджидал нас, прячась в тени у какой-то стены. Но когда Хатем сделал ему знак приблизиться, он повернулся и начал улепетывать со всех ног. Мы были настолько поражены его поведением, что даже не попытались броситься за ним в погоню. А впрочем, нам никогда не удалось бы отыскать его в закоулках этой деревни.
В то же мгновение мой разум прояснился: никогда не было ни второй супруги, ни тестя-нотабля; все это время муж Марты играл с нами. Узнав, что мы разыскиваем его, он поспешил отправить к нам одного из своих приспешников, этого Драго, и мы попались на удочку. И я дал уйти своей подруге, убежденный, что ей не придется слишком долго уговаривать Сайафа, чтобы добиться его согласия на объявление брака недействительным и на подачу просьбы о его расторжении.
Один из монахов с постоялого двора, которому мы до сих пор ничего не говорили, чтобы не предавать огласке свои планы, громко расхохотался: его сосед из Джибле открыто живет с портовой шлюхой, подобранной им в Кандии, которая никак, ну никак не может быть дочерью именитого горожанина Хиоса.
Что мне оставалось делать? Я помню, что провел остаток этого проклятого дня и часть ночи, не двигаясь с места и отказываясь от пищи, притворяясь, что все еще ищу в уголках своего разума – разума генуэзского купца – какую-то последнюю зацепку, чтобы отразить это несчастье, в то время как я только и делал, что томился и занимался самобичеванием.
В какую-то минуту, почти в сумерках, появился мой приказчик и сказал – грустным и в то же время твердым голосом, – что мне пора принять очевидное, что больше нечего и пытаться что-либо предпринимать и что всякие новые шаги только сделают наше положение, как и положение Марты, еще более трудным и даже гибельным.
Не поднимая на него глаз, я. пробурчал:
– Хатем, ударил ли я тебя хоть раз до сегодняшнего дня?
– Хозяин всегда был слишком добр ко мне!
– Если ты еще раз решишься посоветовать мне оставить Марту и уехать, я изобью тебя так сильно, что ты забудешь о том, что когда-то я мог быть добрым!
– Тогда лучше бы хозяину избить меня прямо сейчас, так как пока он не откажется от мысли бросить вызов Провидению, я не откажусь от своих предостережений.
– Убирайся! Сгинь с моих глаз!
Иногда гнев способствует рождению мысли; в то время как я выгонял Хатема и угрожал ему, заставляя его замолчать, в мозгу стал возникать некий план. И хоть вскоре худшие предвидения моего приказчика подтвердятся, но в то мгновение план показался мне гениальным.
Я замыслил встретиться с главой янычар, чтобы сообщить ему о некоторых моих сомнениях. Супруга этого человека – моя кузина, заявлю я, и до меня дошли слухи, будто бы он ее задушил. Я зашел слишком далеко и знаю это, но заговорить об убийстве – единственный способ заставить власти вмешаться. И потом, мой страх вовсе не был притворным. Я.в самом деле боялся, что с Мартой случилось несчастье. Иначе, говорил я себе, почему же нам не дали войти в этот дом?
Начальник стражи выслушал мои объяснения – довольно путаные, поскольку я излагал их на смеси дурного греческого и дурного турецкого, там и сям вставляя итальянские и арабские слова. Когда я заговорил об убийстве, он спросил, только ли это слухи или же я в этом уверен. Я сказал, что уверен и без этого не решился бы его побеспокоить. Он тотчас спросил меня, готов ли я отвечать за свои слова головой. Я, разумеется, испугался. Но решил не отступать. Вместо того чтобы отвечать на опасный вопрос, я развязал кошель, достал оттуда три полновесные монеты и выложил перед ним на стол. Он схватил их привычным жестом, надел свой тюрбан с плюмажем и приказал двоим из своих людей следовать за ним.
– Можно ли мне тоже пойти с вами?
Я не без колебаний задал этот вопрос. С одной стороны, мне не слишком хотелось показывать Сайафу, насколько меня интересует участь его жены, я боялся, как бы он не догадался о том, что было между нами. Но с другой стороны, начальник не был знаком с Мартой, ему могли бы показать любую женщину, сказав, что это она и с ней все в порядке, а она сама, не видя меня, не решилась бы ничего возразить.
– Я не должен был бы брать вас с собой, у меня могут возникнуть неприятности, если об этом узнают.
Он не сказал «нет», а на его губах обозначилась многозначительная улыбка, пока глаза его украдкой косились на стол – на то место, куда я выложил решившие дело монеты. Я вновь развязал кошелек для дополнительного подношения, которое на этот раз сунул ему прямо в руку. Все это время его люди наблюдали за моими действиями, но их, казалось, ничего не удивило и не возмутило.
Мы тронулись всей командой – трое янычар и я. На пути я увидел Хатема, прячущегося за стеной и подающего мне знаки. Я сделал вид, что не заметил его. Проходя мимо постоялого двора, я, кажется, разглядел в окне двух монахов и их старую служанку, которых вроде бы развлекало это зрелище.
Мы силой проникли в дом мужа Марты. Начальник забарабанил в дверь и прорычал приказание, лысый гигант отворил ему и, не произнеся ни слова, отступил в сторону, чтобы пропустить его. В ту же минуту прибежал Сайаф, торопясь и сладко улыбаясь, будто к нему неожиданно зашли его лучшие друзья. Вместо вопроса о том, зачем мы пришли к нему, с его губ слетали только приветствия, обращенные прежде всего к начальнику, а потом и ко мне. Он называл меня другом, кузеном и братом, ничем не выдав той ненависти, которую мог питать ко мне.
С того времени, как я его не видел, он растолстел, не приобретя достоинства – толстая бородатая свинья в шлепанцах; я никогда не узнал бы под этим слоем лоснящегося жира, под этими богатыми тканями, шитыми золотом, того босоного постреленка, который бегал когда-то по улочкам Джибле.
Из вежливости, а также отчасти заботясь о том, как бы половчее приступить к делу, я притворился, что мне приятен его любезный прием, и не стал уклоняться от его объятий и даже сам подчеркнуто назвал его «своим кузеном». Что позволило мне, как только мы устроились в гостиной, осведомиться о «нашей кузине, его супруге, Мартеханум». Я старался объясняться по-турецки, чтобы начальник ничего не упустил из нашего разговора. Сайаф сказал мне, что она чувствует себя хорошо, несмотря на усталость после долгой дороги, и объяснил турку, что, будучи преданной супругой, она пересекла моря и горы, чтобы воссоединиться с тем, кому она была дарована Небесами.
– Надеюсь, – сказал я, – она не слишком устала, чтобы не прийти поздороваться со своим кузеном.
Муж Марты, казалось, пришел в замешательство; в его глазах я читал, что он виновен в совершении какого-то отвратительного поступка. И когда он произнес: «Если ей полегчает, она поднимется, чтобы поздороваться с вами; вчера вечером она не способна была оторвать головы от подушки», – я убедился, что с ней, без сомнения, произошло несчастье. От ярости, от беспокойства и отчаяния я вскочил с места, готовый вцепиться в горло этому бандиту, и только присутствие представителя закона удержало меня от того, чтобы броситься на него. Я воздержался от действий, но не от слов, выплеснув на этого субъекта все, что так давно лежало у меня на сердце. Я назвал его всеми именами, каких он заслуживал: подлецом и мошенником, злодеем и пиратом, дорожным разбойником и головорезом, презренным беглым мужем, недостойным даже сметать пыль с туфель той, кто была отдана ему в жены, и пожелал ему помереть на колу.
Этот мерзавец позволил мне говорить. Он не отвечал и не протестовал, не доказывал свою невиновность. Пока я все больше и больше воспламенялся, я заметил, как он подал знак одному из своих сбиров, и тот исчез. В то мгновение я не придал этому никакого значения и продолжал свои обвинения, все более повышая голос и смешивая все известные мне языки, до тех пор пока раздраженный начальник не приказал мне замолчать. Он подождал, когда я подчинюсь и успокоюсь, а потом спросил у хозяина:
– Где твоя жена, я хочу ее видеть. Позови ее!
– Да вот она.
И тут вошла Марта, в сопровождении того самого исчезнувшего сбира. Я наконец понял, что ее муж опять играл со мной. Он постарался, чтобы она вошла в подходящий момент, то есть не раньше, чем я опозорю и полностью выдам себя.
Из всех совершенных мной ошибок именно об этой я и сегодня думаю больше всего; кажется, я буду терзаться и сожалеть о ней всю жизнь. По правде говоря, я и до сих пор не знаю, в какую минуту я выдал себя и ее, нашу любовь и нашу тайну. Я не помню, что я сказал тогда в ярости. Я был убежден, что этот злодей убил ее, казалось, все в его поведении подтверждало это, я даже не слышал слов, вылетающих из моих уст. Он же, напротив, слышал их очень хорошо, невозмутимый и высокомерный, как судья, выслушивающий доказательства женской неверности.
Прости мне, Марта, все зло, какое я мог тебе причинить! Я же никогда себе этого не прощу. Я снова вижу тебя, стоящую с опущенными глазами, не решающуюся взглянуть ни на мужа, ни на того, кто был твоим любовником. Печальную, далекую, покорную, приносящую себя в жертву. Я воображаю тебя, не думающую ни о чем, кроме ребенка, которого ты носишь, желающую только того, чтобы закончился этот маскарад и чтобы муж поскорее взял тебя к себе в постель, чтобы через несколько месяцев ты смогла бы убедить его, что твоя беременность от него. Кажется, я возник в твоей жизни лишь минутной тенью – минутой несчастья, минутой иллюзий, обмана и стыда, но Богом клянусь, женщина, я любил тебя и буду любить до конца своих дней. И я не обрету покоя ни на том, ни на этом свете, пока не исправлю совершенную мной ошибку. Я пришел в этот дом, ставший для меня западней, как твой заступник, а оказался в положении обвиняемого. Как бы мне хотелось вернуть свои слова, чтобы избежать того, что случилось, чтобы тебе, Марта, не пришлось расплачиваться за мою болтливость. Но в тот миг я промолчал – из страха, что, попытавшись снять с тебя вину, я еще больше разоблачу тебя. Я потерянно встал и вышел как лунатик, не сказав тебе ни слова, не бросив даже прощального взгляда.
Вернувшись в монастырь, я увидел вдали минарет турецкого квартала, и у меня мелькнула мысль пойти туда, взобраться бегом по его ступенькам и броситься вниз, в пустоту. Но смерть не приходит по внезапной прихоти, а я не солдат и не убийца, я никогда не приучал себя к мысли о смерти, никогда не был настолько храбр, и я почувствовал страх. Страх неизвестной мне смерти, страх страха в ту минуту, когда мне придется прыгать, страх боли, когда моя голова ударится о землю и начнут дробиться кости. Не желал бы я испытать унижения своих близких, в то время как Сайаф станет праздновать, пить и танцевать, заставив Марту хлопать в ладоши.
Нет, я не убью себя, прошептал я. Моя жизнь еще не кончается, но мое путешествие – закончено. «Сотое Имя» потеряно, Марта потеряна, у меня больше нет причин, а впрочем, нет и сил, чтобы слоняться по свету; я уеду в Смирну, возьму племянников, а потом без промедления вернусь домой в Джибле, в свою славную лавку торговца редкостями, чтобы спокойно дожидаться там, пока истечет этот проклятый год.
Я сразу объявил о своих намерениях приказчику, встречавшему меня у ворот постоялого двора, и велел ему подготовиться к отъезду до конца сегодняшнего дня. Ночь мы проведем в городе Хиосе и завтра же выедем оттуда в Смирну, откуда, попрощавшись с Маимуном, пастором Кененом и еще кое с кем, мы сядем на первый же корабль, отплывающий в Триполи.
Хатем должен был бы обрадоваться, но вместо этого я увидел, как на его лице появилось выражение величайшего ужаса. Я не успел спросить его о причине, когда за моей спиной раздался чей-то голос:
– Ты, генуэзец!
Я обернулся и увидел командира янычар вместе с его людьми. Он сделал мне знак подойти. Я приблизился.
– На колени передо мной!
Здесь? Прямо на улице? Перед всеми этими людьми, которые уже собрались за стенами, за окнами, за стволами деревьев, чтобы ничего не упустить из этого зрелища?
– Ты заставил меня потерять лицо, генуэзская собака, теперь ты сам будешь унижен! Ты мне солгал, ты использовал меня и моих людей!
– Клянусь вам, я был убежден во всем, что я вам сказал!
– Молчи! Ты и твои соплеменники, вы все еще думаете, будто вам все позволено, вы убеждены, что с вами ничего не случится, потому что в последний момент ваш консул спасет вас. Но не в этот раз! Из моих рук тебя не вырвет никакой консул! Когда вы в конце концов поймете, что этот остров уже не ваш, что он – отныне и навсегда – принадлежит султану, нашему господину падишаху? Снимай свою обувь, клади ее на плечи и марш за мной!
С обочин дороги неслись смешки босяков. И когда наше жалкое шествие двинулось в путь, воцарилось почти ярмарочное веселье, казалось, что за исключением Хатема к нему присоединились все в округе, начиная с янычар. Шуточки, улюлюканье, насмешки. Стараясь утешиться, я твердил себе, что мне повезло, ведь я подвергнут подобному унижению не на улицах Джибле, а здесь, где никто меня не знает, и что мне больше никогда не придется встретиться взглядом с теми, кто на меня сейчас смотрит.
Приведя меня в караульню, они стянули мне руки за спиной веревкой, а потом бросили в нечто вроде глубокого рва, вырытого в полу этого помещения и такого узкого, что можно было бы не трудиться, связывая меня, чтобы помешать мне двигаться.
Через час или два за мной пришли, развязали руки и отвели к начальнику. Он, казалось, совершенно успокоился и был, вероятно, очень доволен той шуткой, которую он со мной сыграл. Он сразу осторожно намекнул, что не прочь со мной поторговаться.
– Я пока еще не решил, как с тобой поступить. Я должен был бы наказать тебя за ложное обвинение в убийстве. Кнутом, тюрьмой и еще кое-чем похуже, если добавить прелюбодеяние.
Он замолчал. Я поостерегся оправдываться, мои уверения в своей невиновности никого бы не убедили, даже мою собственную сестру. Ложное обвинение в убийстве – я был в этом виновен, и в прелюбодеянии – тоже виновен. Но этот человек сказал мне, что колеблется между двумя решениями. Я не стал его прерывать.
– Я мог бы позволить себе смягчиться, закрыть глаза на все, что ты совершил, и удовлетвориться твоей высылкой из нашей страны…
– Я умею быть благодарным.
Под словом «благодарным» я скорее подразумевал «убедительным». Начальник был продажен, и мне следовало вести себя так, словно сейчас я сам – товар, цену которого требуется определить. Не стану отрицать, что когда дело доходит до этой стадии, я вновь обретаю уверенность в себе. Перед лицом законов человеческих или небесных я чувствую себя лишенным смелости. Но снова обретаю дар речи, как только начинается торг и требуется назначить цену. Господь сделал меня богатым на этой земле несправедливости, я пробуждаю алчность у сильных мира сего, но мне есть чем усмирить ее.
Мы договорились о цене. Не знаю, подходит ли тут слово «договорились». По правде, начальник янычар просто приказал мне положить на стол мой кошель. Что я безропотно исполнил и тотчас протянул ему руку, как делают купцы, когда хотят скрепить договор. Он колебался минуту, потом согласился пожать ее, высокомерно ухмыльнувшись мне прямо в лицо. Мгновение спустя он вышел из комнаты, куда вошли его люди, чтобы снова связать меня и опять отвести в темницу.








