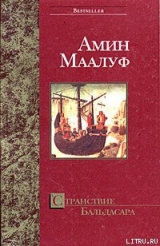
Текст книги "Странствие Бальдасара"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Мы еще ближе подходим к берегу, но огни острова все еще кажутся такими же слабыми, как свет звезд, сияющих в глубине небес. Разумеется, и речи быть не может о том, чтобы зажечь хотя бы одну свечу или фонарь. Я почти не вижу листа, но продолжаю писать. Я пишу, и сегодня ночью это занятие имеет совсем другую цель, не ту, что обычно. В другие дни я писал, чтобы что-то сообщить или проверить себя или для того, чтобы разобраться со своими мыслями – так же, как прочищают горло, или я писал просто потому, что поклялся себе все записывать. Тогда как сегодня ночью я цепляюсь за свой дневник как за спасательный круг. Мне нечем заполнить эти листы, но мне нужно, чтобы они лежали передо мной.
Моя рука следует за пером, и что за важность, если я обмакиваю его в черноту ночи.
Возле Катаррактиса, 30 ноября 1666 года.
Не думал я, что наша встреча после долгой разлуки будет такой.
Я стою на корабле и щурю глаза, силясь разглядеть ее, а она, она – только слабый, неверный свет сигнального огня, мерцающий на полночном берегу.
Когда огонь стал качаться: справа налево и слева направо, будто маятник в ходиках, Доменико велел троим из своих людей спустить шлюпку на воду. Не зажигая света и принимая все меры предосторожности. Должно быть, глаза их сейчас обшаривают побережье, чтобы убедиться что там нет западни.
Окутанное туманом море волнуется, но не слишком яростно. Дует северный и уже совсем декабрьский ветер.
Мои соленые от брызг губы шепчут молитву.
Марта.
Как она близко и как еще далеко! Лодка плывет целую вечность, чтобы достичь берега, и целую вечность идет обратно. Что они там делали? О чем говорили? А ведь надо было просто взять на борт одного человека и вернуться назад! Почему я не поехал с ними? Нет, Доменико бы на это не согласился. И он был бы прав. У меня нет ни сноровки, ни хладнокровия его людей.
Лодка возвращается к нам. Кто-то зажег фонарь.
Доменико шепчет:
– Несчастный! Я же говорил: никакого света!
И в тот же миг, словно они могли услышать его издалека, они погасили огонь. Доменико шумно вздохнул, похлопал меня по плечу: «Клянусь предками!» Потом приказал своим людям готовиться к выходу в открытое море, как только мы подберем людей и нашу шлюпку.
Марту подняли на борт очень осторожно – на толстой веревке, которая представляла собой что-то вроде гибкой лестницы с единственной ступенькой, потому что к ее нижнему концу была прикреплена доска, куда она встала ногами. Когда ее подтянули уже достаточно высоко, я помог ей преодолеть последнее препятствие и переступить через борт. Она подала мне руку как постороннему, но, едва встав на ноги, принялась искать кого-то глазами, и, несмотря на эту темень, я понял, что она ищет меня. Я произнес только одно слово – ее имя, и она взяла меня за руку и сжала ее, но уже совсем иначе. Очевидно, ей уже было известно, что я здесь; я пока не знаю, то ли ей сказал об этом сбир ее мужа, то ли матросы, посланные за ней на берег. Я пойму это, как только мы сможем поговорить. Да нет, к чему, нам столько всего нужно сказать друг другу…
Раньше я представлял себе, что, когда мы встретимся, я возьму ее на руки и буду обнимать – крепко и бесконечно долго. Но теперь, стоя в окружении всех этих славных храбрых моряков, рядом с ее мужем, оставленным на борту дожидаться суда корсаров, было бы неуместно выказывать такую близость и слишком большое нетерпение, и это осторожное и незаметное в темноте прикосновение ее руки стало единственным проявлением наших чувств.
Потом ей стало дурно, и она зашаталась. Чтобы унять недомогание, я посоветовал ей подставить лицо холодным брызгам, но тогда она начала дрожать, и матросы сказали, что ей лучше лечь на матрас, постеленный в трюме, и тепло укрыться.
Доменико, кажется, хотел устроить суд немедленно, выяснить у нее, что же на самом деле случилось с ребенком, которого она носила, произнести свой приговор и отправиться восвояси, в наш родной порт. Но она выглядела так, будто была готова испустить дух, и он смирился, оставив ее отдыхать до утра.
Едва голова ее коснулась подушки, как она тотчас заснула; это произошло так быстро, что я подумал, уж не обморок ли это. Я слегка потряс ее за плечо, пока она не открыла глаза и не пробормотала что-то, тогда я сконфуженно удалился.
Я провел эту ночь, прислонившись к мешкам и безуспешно пытаясь заснуть. Кажется, я задремал только на несколько минут перед самым рассветом…
Всю эту бесконечную ночь мне не удавалось ни заснуть, ни полностью проснуться, и меня осаждали самые мрачные мысли. Едва ли я решусь рассказать здесь о них, настолько они меня пугают. И однако, их породила самая большая радость моей жизни…
Это потому, что мне пришло в голову задать себе вопрос, что же я сделаю с Сайафом, узнав, что он дурно обошелся с Мартой или с ребенком.
Неужели я смогу отпустить его домой безнаказанным? Разве не следовало бы заставить его заплатить за все его преступления?
Впрочем, я говорил себе и то, что даже если муж Марты не совершил ничего дурного, добиваясь смерти ее ребенка, разве я смогу уехать с ней, разве мы сможем жить с ней в Джибле, оставив этого человека на этой земле, человека, который каждый день станет копить свою ненависть и однажды вернется и станет нас преследовать?
Буду ли я спокойно спать, если он останется в живых?
Буду ли я спокойно спать, если я его не…
Не убью?
Я, убью?
Я, Бальдасар, убью? Убью человека, каков бы он ни был?
И прежде всего – как убью? Как убивают?
Подходят к кому-то с ножом в руке и втыкают его прямо в сердце… Подождать, пока он заснет, а то как бы он меня не заметил… О господи, нет!
Но тогда – заплатить кому-нибудь, чтобы он…
О чем я сейчас думаю? Что я сейчас пишу? Господи! Да минует меня чаша сия!
В это мгновение мне кажется, что я никогда больше не засну – ни в эту ночь, ни во все другие, в те, что мне еще остались!
Воскресенье, 5 декабря 1666 года.
Последние страницы, я не хочу их перечитывать из страха, что попытаюсь разорвать их. Они вышли из-под моего пера, это так, но мне нечем гордиться. Я не могу гордиться тем, что задумал запятнать свои руки и свою душу, и не могу гордиться тем, что отказался от этого.
Во вторник на рассвете я все еще не отказался от ночных мыслей, чтобы обмануть свое нетерпение, пока Марта еще спала. Потом, в следующие пять дней, я ничего больше не написал. Я даже собирался – в который уже раз! – бросить вести дневник; но вот я снова сижу с пером в руке, и, может быть, только из верности неосторожному обещанию, данному самому себе в начале этого странствия.
За прошедшую неделю меня трижды одолевало помрачение рассудка – одно за другим. Первый раз это случилось во время нашей встречи, потом я испытал его от крайнего смущения, а теперь – из-за ярости, которая бушует в моей душе; она живет во мне, трясет и ломает меня так, словно я стою на палубе и мне не за что ухватиться, и если мне временами случается приподняться, то лишь для того, чтобы потом упасть еще больнее.
Ни Доменико, ни Марта уже ничем не могут мне помочь. И никто другой, будь он сейчас рядом со мной или где-то вдали, и никакое воспоминание. Все только скользит по поверхности рассудка и только усиливает мои сомнения. Как, впрочем, и все, что меня окружает, как и все, что я вижу сейчас перед глазами, как и все, о чем мне удается вспомнить. И хотя от этого года, от этого проклятого года осталось только четыре недели, но эти четыре недели кажутся мне теперь непреодолимыми, словно океан, над которым никогда не загорается ни солнце, ни звезды, ни луна, а только волны встают до самого горизонта.
Нет, я не в состоянии сейчас ничего написать!
10 декабря.
Наш корабль уже отошел от Хиоса, и мои мысли тоже начинают постепенно от него отдаляться. Моя рана не может закрыться так скоро, но через десять дней мне наконец удается немного отвлечься от случившегося. Быть может, мне следует попытаться снова писать…
До сегодняшнего дня у меня не выходило рассказать о том, что произошло. Но все же пора сделать это, пусть даже вспоминая самые болезненные минуты, мне придется ограничиться пустыми бесстрастными словами: «он сказал», «он спросил», «она сказала», «ясно, что» или «было уговорено».
Когда Марта поднялась на борт «Харибды», Доменико хотел было, не откладывая, расспросить ее обо всем, узнать у нее, что случилось с ребенком, которого она носила, вынести приговор и тотчас отправиться обратно в Италию. Но, так как она не держалась на ногах, он смирился – я уже говорил об этом – и дал ей поспать. Все на корабле получили несколько часов для отдыха, кроме дозорных, оставленных на случай, если бы нас попытался перехватить оттоманский корабль. Но, должно быть, той ночью только мы одни плыли по разбушевавшемуся морю.
С утра мы собрались в каюте капитана. Туда пришли и Деметриос с Янисом – всего нас было пятеро. Доменико торжественно задал Марте вопрос, хочет ли она, чтобы ее расспрашивали в присутствии мужа или без него. Я перевел его вопрос на бытующий в Джибле арабский диалект, и она поспешно ответила:
– Пожалуйста, без моего мужа!
Движение, которым она прижала руки к своей груди, и выражение ее лица не требовали перевода. Доменико принял это к сведению и начал допрос:
– Синьор Бальдасар сказал нам, что вы приехали на Хиос в январе прошлого года и что вы были беременны. Но ваш муж утверждает, что у вас никогда не было ребенка.
Глаза Марты стали печальными. Она быстро обернулась ко мне, потом спрятала лицо в ладонях и заплакала. Я шагнул к ней, но Доменико – всерьез принявший свою роль судьи – подал мне знак оставаться на месте. Другим он также велел ничего не делать, ничего не говорить и просто ждать. Потом, полагая, что у свидетеля было достаточно времени, чтобы взять себя в руки, он сказал:
– Мы вас слушаем.
Я перевел, прибавив:
– Говори, не бойся, никто здесь не сделает тебе ничего плохого.
Казалось, мои слова, вместо того чтобы успокоить ее, потрясли ее еще больше. Ее плач перешел в рыдания. Тогда Доменико велел мне ничего больше не добавлять от себя, точно следуя тому, что говорил он. Я дал ему слово.
Несколько мгновений спустя ее рыдания утихли, и калабриец повторил свой вопрос с ноткой нетерпения в голосе. Тогда Марта подняла голову и произнесла:
– У меня никогда не было ребенка!
– Что ты хочешь этим сказать? – вскричал я.
Доменико призвал меня к порядку. Я вновь принес свои извинения, а потом перевел то, что она сказала. Тогда она повторила твердым голосом:
– У меня никогда не было ребенка. Я никогда не была беременна.
– Но ты сама мне об этом говорила.
– Я говорила тебе об этом, потому что сама этому верила. Но я ошибалась.
Я долго-долго смотрел на нее, но ни разу не смог встретиться с ней глазами. Я стремился увидеть в них то, что казалось мне истиной, по крайней мере мне хотелось понять, лгала ли она все время, что была со мной, или только о ребенке, и лишь для того, чтобы заставить меня как можно быстрее отвезти ее к негодяю мужу, или же она лжет мне сейчас. Она не поднимала глаз, а только два или три раза мельком взглянула на меня, наверное, чтобы проверить, смотрю ли я еще на нее, верю ли я ей. Тогда Доменико спросил ее отеческим тоном:
– Ответьте нам, Марта, вы хотели бы вернуться на берег с мужем или уехать с нами?
Переводя, я сказал: «уехать со мной». Но она ясно ответила, указывая рукой, что хотела бы вернуться в Катаррактис.
С этим человеком, которого она ненавидит? Я уже ничего не понимал. Вдруг пришло озарение:
– Подожди, Доменико, я, кажется, понимаю, в чем туг дело. Ее сын, должно быть, остался на острове, и она боится, что его заберут у нее, если она дурно отзовется о своем муже. Скажи ей, что, если это то, чего она опасается, мы заставим ее мужа привезти сюда ребенка, так же как заставили его привезти ее. Она сама пойдет за ребенком, а мужа удержат здесь до ее возвращения. Он ничего не сможет ей сделать!
– Успокойся, – сказал мне калабриец. – Сдается мне, что это какие-то басни. Но если у тебя есть хоть малейшие сомнения, я желаю, чтобы ты повторил ей все это. И можешь пообещать ей с моей стороны, что мы не причиним зла ни ей, ни ее ребенку.
Тогда я бросился заклинать Марту сказать мне правду. Она слушала меня, опустив глаза. А едва я закончил, взглянула на Доменико и произнесла:
– У меня никогда не было ребенка. Я никогда не была беременна. Я не могу иметь детей.
Она сказала это по-арабски, потом, повернувшись к Деметриосу, повторила те же слова, коверкая греческий. Доменико вопросительно дернул подбородком.
Матрос, который до этого все время молчал, посмотрел на меня, посмотрел на Марту, потом снова на меня и, наконец, на своего капитана.
– Когда я зашел в их дом, мне не показалось, что там есть ребенок.
– Это было глубокой ночью, он уже спал!
– Я постучал в дверь и всех разбудил. Поднялся страшный шум, но я не слышал детского плача.
Я снова хотел ответить ему, но на этот раз Доменико велел мне замолчать:
– Достаточно! По-моему, эта женщина не лжет! Нужно отпустить их, ее и ее мужа.
– Да нет же, подожди!
– Нет, я не стану ждать, Бальдасар. Все уже решено. Мы возвращаемся. Мы и так уже задержались ради тебя, и я надеюсь, что когда-нибудь ты подумаешь над тем, как отблагодарить всех этих людей, которые подверглись из-за тебя большой опасности.
Слова Доменико ранили меня больше, чем он мог бы вообразить. В глазах этого человека я был героем, теперь же я выглядел отвергнутым любовником, нытиком и пустозвоном. В какие-то часы, даже в какие-то минуты, произнеся всего лишь несколько слов, уважаемый и благороднейший синьор Бальдасар Эмбриако превратился в докучливого пассажира, который всем мешает, и которого терпят из жалости, и которому можно даже приказать замолчать.
Я забился в самый темный угол, чтобы выплакать в тишине свое горе, которое мне доставила не только Марта, но еще и слова Доменико. После суда Марта оказалась правой стороной, и полагаю, что Доменико принес извинения ее мужу, думаю, он предложил им сесть в лодку, на которой они вернулись на берег. Мне не захотелось присутствовать при прощании.
Сейчас моя рана уже затягивается, хотя и болит до сих пор. А Марту я по-прежнему не понимаю. Я задаю себе вопросы – такие странные, что не могу решиться .доверить их этим страницам. Мне нужно еще подумать надо всем этим…
11 декабря.
А если все мне солгали?
Если весь наш поход – всего лишь обман, мистификация, затеянная только для того, чтобы принудить меня отказаться от Марты?
Может, все это просто бред – плод унижения, одиночества и долгой бессонницы? Но может быть, в этом – истина?
Грегорио, пожелав, чтобы я раз и навсегда отказался от Марты, мог бы велеть Доменико отвезти меня к ней и сделать так, чтобы я никогда больше не захотел увидеться с этой женщиной.
Разве мне не говорили когда-то в Смирне, что Сайаф связан с контрабандой, и именно с доставкой мастикса? Вполне вероятно, что Доменико знал его, тогда как он делал вид, будто видит его в первый раз. Может быть, именно поэтому он и попросил меня оставаться в своем убежище. Находясь там, я не мог наблюдать их подмигиваний и увидеть то, что они заодно!
И, наверное, Марта знала Деметриоса и Яниса, потому что видела их вместе с мужем. Вот почему ей пришлось сказать то, что она сказала.
Но потом мы остались с ней наедине, в трюме, когда она легла отдохнуть, и как случилось, что она не воспользовалась этим, чтобы не поговорить со мной?
Все это действительно настоящий бред! К чему всем этим людям ломать комедию? Только для того, чтобы навредить мне и заставить отказаться от этой женщины? Разве не проще бы им было жить своей жизнью, вместо того чтобы рисковать оказаться на виселице или на колу из-за того, что я так запутался в своей любви?
Когда-то мой отец вывихнул себе плечо, и понадобилось крепко стукнуть его по руке, чтобы вправить его на место, – вот и я свихнулся, и мне не помешала бы хорошая встряска, чтобы вправить мне мозги.
13 декабря.
Двенадцать дней я блуждал по кораблю как невидимка, все получили приказ избегать меня. Если тому или другому матросу случается заговорить со мной, он цедит сквозь зубы одно-два словечка, стараясь, чтобы его никто не видел. Я ем один, в своем убежище, как зачумленный.
С сегодняшнего дня со мной говорят. Доменико пришел ко мне и обнял меня так, будто хотел показать, что он-то как раз принимает меня на своем корабле. Это послужило сигналом, и теперь со мной снова можно общаться.
Я мог бы заартачиться и отвергнуть протянутую руку, дав волю текущей во мне надменной крови Эмбриаччи. Но я этого не сделал. К чему лгать? Возвращение его расположения принесло мне облегчение. Тогда как этот карантин тяготил меня.
Я не из тех, кому нравится вражда.
Я предпочитаю, когда меня любят.
14 декабря.
По словам Доменико, мне следовало бы возблагодарить Всевышнего за то, что все сложилось так – не по моему желанию, а по воле Его. Слова контрабандиста из Калабрии направили мои мысли в другое русло, и теперь я начал размышлять, взвешивать, сравнивать. И в конце концов, думаю, что он не так уж не прав.
– Представь, что эта женщина сказала тебе то, что ты хотел от нее услышать. Что муж дурно с ней обращался, что из-за этого она потеряла ребенка и что она хотела бы уйти от него. Полагаю, ты бы оставил ее тут, чтобы забрать ее с собой, в свою страну.
– Конечно!
– А муж, что бы ты сделал с ним?
– Пусть катится к черту!
– Разумеется. А что дальше? Ты позволил бы ему вернуться, рискуя однажды услышать, как он стучит в твою дверь, чтобы заставить тебя вернуть ему жену? А что бы ты сказал его близким? Что он умер?
– Ты считаешь, что я сам никогда не думал об этом?
– О нет, уверен, что ты думал об этом тысячу раз. Но мне бы хотелось услышать твое решение из твоих собственных уст.
Он помолчал немного, и я тоже.
– Я не хочу терзать тебя, Бальдасар. Я – твой друг, я сделал для тебя то, чего не совершил бы твой родной отец. Теперь я пришел сказать тебе то, что ты сам не решаешься себе сказать. Этого человека, эту свинью, ее мужа, его надо было убить. Нет, не морщись так, не надо делать вид, будто ты в ужасе, я знаю, что ты думал об этом, и я тоже. Потому что, если бы эта женщина решила бросить его, ни ты, ни я не захотели бы, чтобы он остался в живых и мог бы нам отомстить. Иначе я знал бы, что на Хиосе живет человек, только и мечтающий, как бы мне отплатить, и при каждом моем возвращении на этот остров мне пришлось бы его опасаться. И ты тоже, разумеется, ты предпочел бы знать, что он мертв.
– Несомненно!
– Но способен ли ты на убийство?
– Я думал об этом, – признался я наконец, но не стал больше ничего прибавлять.
– Думать об этом – недостаточно, а тем более – только желать этого. Бывает, что каждый день мы желаем кому-то смерти. Неловкому слуге, изворотливому клиенту, назойливому соседу, даже собственному отцу. Но тут одним желанием не обойдешься. Разве ты мог бы взять, например, нож, подойти к своему сопернику и всадить ему нож в сердце? Ты способен связать его по рукам и ногам и вышвырнуть за борт? Ты думал об этом, и я тоже подумал об этом за тебя. Я спросил себя, какой выход был бы для тебя идеальным. И я его нашел. Мало было бы просто убить этого человека и выкинуть его в море. Ведь нужно, чтобы не только ты знал, что он мертв, надо еще, чтобы об этом знали все жители твоего городка. Нам пришлось бы плыть к Джибле, оставив этого человека в живых и взяв его с собой. Добравшись туда и остановившись в нескольких кабельтовых от берега, мы бы крепко связали его веревкой и подвесили за ноги, спустив болтаться за бортом вниз головой. Там он остался бы задыхаться, положим с час, потом мы снова подняли бы его на борт, но уже покойника. Тогда мы сняли бы с него веревки, положили его на носилки, и вы оба – ты и твоя женщина – притворялись бы опечаленными, сойдя на землю вместе с моими людьми, которые помогли бы вам перенести труп с корабля. Вы стали бы рассказывать, что он упал за борт и утонул, а я подтвердил бы ваши слова. Потом вы похоронили бы его, и год спустя ты женился бы на его вдове.
Вот так бы сделал я. Я уже убил десятки людей, и ни один из них никогда не приходил ко мне, чтобы смущать мой сон. Но ты, скажи мне, способен ли ты так поступить?
Я сознался, что возблагодарил бы Небеса, если бы это смелое предприятие закончилось бы так, как он представлял. Но сам я был бы не в состоянии замарать свои руки в крови, запятнав их таким преступлением.
– Тогда будь счастлив, что эта женщина не произнесла тех слов, которые ты надеялся от нее услышать!
15 декабря.
Я снова думал над словами Доменико. Будь он на моем месте, не сомневаюсь, он поступил бы точно так, как только что мне описал. Я же родился купцом, и моя душа – это душа купца, а не корсара или солдата. И не душа разбойника – может, поэтому Марта и предпочла мне другого? Он, так же как и Доменико, не стал бы колебаться и убил бы любого, чтобы добиться желаемого. И его не мучили бы никакие угрызения совести. Но способны ли такие, как они, сойти с проторенной дороги и изменить свою жизнь ради любви к женщине?
Я до сих пор не забыл ее и думаю, что вряд ли смогу забыть ее когда-нибудь… Но нет, однажды я ее забуду, мне поможет в этом ее предательство.
Я говорю так, но не могу помешать себе опять мучиться сомнениями. Действительно ли она предала меня, или она сказала это, чтобы защитить своего ребенка?
Вот я и снова говорю об этом ребенке, хотя все уверяют меня, что его нет и никогда не было.
А что, если они мне все лгали? Она – чтобы защитить своего ребенка, а другие – чтобы… Ах нет! Довольно! Я не стану возвращаться к этому бреду! Даже если я никогда не узнаю правду, я должен перестать постоянно оглядываться на прошлую жизнь, я должен смотреть вперед, только вперед.
В любом случае этот год заканчивается…
17 декабря.
Прошлой ночью я вновь изучал небо, и мне показалось, что звезд в самом деле становится все меньше и меньше.
Они гаснут одна за другой, а на земле разгорается пламя пожаров.
Этот мир начинался раем, а закончится адом.
Почему я так поздно сюда явился?
19 декабря.
Мы только что прошли Мессинский 6767
Мессинский пролив (назван по г. Мессине) отделяет о. Сицилию от материковой Италии; он очень узкий и считается опасным. – Примеч. пер.
[Закрыть] пролив, счастливо избежав этой бурлящей пучины, которую прозвали Харибдой. Доменико дал это же имя своему кораблю, отводя от себя тень собственных страхов, но он все же заботится о том, чтобы приближаться к ней как можно реже 6868
Харибда и Сцилла (Скилла) – дочери подземной богини Гекаты, покровительницы всякой нечисти. У Сциллы и Харибды было по шесть голов с тремя рядами зубов в каждой, они обитали в Сицилийском (Мессинском) проливе и убивали проплывавших по этому проходу моряков, разрывая их на части. – Примеч. пер.
[Закрыть].
Сейчас мы поднимаемся вдоль итальянского полуострова, направляясь к Генуе. Где, как клянется мне калабриец, меня ждет новая жизнь. Но к чему начинать новую жизнь, если мир уже готов угаснуть?
Я всегда думал, что последние дни этого «года Зверя» я проведу в Джибле, рядом с близкими мне людьми: мы соберемся все вместе в одном доме, мы сможем обнять друг друга и утешиться звуками родного голоса, и пусть случится то, что должно случиться. Я был так уверен, что вернусь туда, что почти не писал об этом, задавая себе только один вопрос: когда и какой дорогой? Может, мне надо было вернуться туда еще в апреле, вместо того чтобы гнаться за «Сотым Именем» в Лондон? Должен ли я заезжать на обратном пути на Хиос? Или в Смирну? Даже Грегорио, взявший с меня обещание возвратиться к нему, прекрасно понял, что я не смогу сдержать слово, прежде чем не приведу в порядок мои дела в Джибле.
И все же вот я уже на пути в Геную. Я буду там к Рождеству, и там я встречу конец этого года – 1666.
20 декабря 1666 года.
Истина в том, что я все время сам от себя скрываю истину, даже в дневнике, который должен был бы стать моим исповедником.
Истина в том, что, возвращаясь в Геную, я уже знал, что никогда не вернусь в Джибле. Порой я шептал себе это, но никогда не решался написать, словно для этой чудовищной мысли не было места на бумаге. Ведь в этом городе живет моя горячо любимая сестра, там – моя торговля, могилы предков, родной дом, в котором появился на свет уже отец моего деда. Но там я – такой же чужак, каким чувствует себя любой иудей. Тогда как незнакомая мне прежде Генуя при первой же встрече узнала своего блудного сына, обняла и прижала меня к своей груди. Я хожу по ее улицам с высоко поднятой головой, свободно и звонко называю свое итальянское имя, я улыбаюсь женщинам, и мне не надо бояться янычар. Может, среди Эмбриаччи и жил когда-то один, которого обвиняли в беспробудном пьянстве, но у них есть и башня, носящая их родовое имя 6969
Briaco – пьяный (итал.). – Примеч. ред.
[Закрыть]. Наверное, у каждой семьи должно быть то место на земле, где стоит башня, носящая ее родовое имя.
Утром я написал то, что, как мне казалось, я должен был написать. Но я мог бы написать и прямо противоположное.
Я бахвалюсь сейчас тем, что в Генуе, и только в Генуе, я у себя дома, тогда как, оставшись там, я до конца дней своих буду гостем Грегорио и его должником. Я собираюсь покинуть свой собственный дом, чтобы жить под чужой крышей и оставить свое дело, чтобы заниматься чужой торговлей.
Смогу ли я гордиться такой жизнью? Зависеть от Грегорио и его щедрости, в то время как я думаю о нем то, что думаю? Ведь меня раздражает его поспешная услужливость, мне смешно его благочестие, и мне уже приходилось тайком ускользать из его дома, потому что я не мог больше выносить ни его намеков, ни кислой физиономии его жены! Я собираюсь просить руки его дочери, как получают дар от приносящего клятву верности вассала, словно я рассчитываю воспользоваться правом первой ночи и только потому, что ношу имя Эмбриако, а он обладает лишь своим скромным именем. Всю свою жизнь он станет работать на меня, он будет вести свое дело, оснащать корабли, приумножать состояние, закладывать фундамент своей семьи – и все это только для меня. Он станет взращивать, поливать, подстригать и убирать свой сад, лишь для того, чтобы я пришел туда и вкусил его плоды. И я еще осмеливаюсь гордиться своим именем и спесиво разгуливать по Генуе! Бросая все то, что построил я сам, и то, что было создано для меня моими предками!
Быть может, в Генуе мне суждено стать основателем нового рода. Но тогда я окажусь могильщиком другого рода, еще более славного, возникшего в начале Крестовых походов, и вот теперь он исчезает и угасает вместе со мной.
Этот год закончится для меня в Генуе, но, если за ним последуют и другие годы, я до сих пор не знаю, где я их проведу.
22 декабря.
Мы укрылись от волн в маленькой бухточке на севере от Неаполя – в пустынном местечке, и все мы постоянно настороже, мы опасаемся мародеров, обирающих потерпевших кораблекрушение.
С нашего судна можно было разглядеть большой пожар на берегу, на окраине Неаполя. Но я уже лег спать и ничего не видел.
У меня снова морская болезнь. И как только я вспоминаю о том, что этот год заканчивается, у меня опять начинается помутнение рассудка, которое я ото всех скрываю.
Через десять дней наш мир решительно преодолеет этот мыс – или разобьется о скалы.
23 декабря 1666 года.
Ни Марты, ни Джакоминетты! Пробудившись сегодня утром, я понял, что у меня на уме сейчас только рыжие волосы Бесс, ее аромат – запах фиалок и пива, ее материнский взгляд – святой и грешный. Не то чтобы мне не хватает Лондона, но я не могу не вспоминать без грусти о его ужасной судьбе погибшей Гоморры. И хотя я возненавидел его улицы и его жителей, я нашел в этом городе – возле этой женщины – странных друзей.
Что с ними сталось? Что сталось с их ветхим «Ale house», с его деревянными лестницами и чердаком? Что сталось с Лондонской Башней? А с собором Святого Павла? А все эти книжные магазинчики с наваленными в них грудами фолиантов? Пепел, пепел. И в такой же прах превратился мой дневник, который я вел тогда каждый день. Да, пеплом стали все книги, кроме той – Мазандарани; той, которая сеет вокруг себя горе и разорение, но сама остается неуязвимой. Где бы она ни оказалась, повсюду – пожары или кораблекрушения. Пожар в Константинополе, пожар в Лондоне, корабле-крушение, в котором погиб Мармонтель; и сейчас, похоже, наш корабль тоже вот-вот пойдет ко дну…
Горе тому, кто дерзнет приблизиться к скрытому Имени, его глаза накрывает тьма. И отныне мне все время хочется повторять в своих молитвах:
Господи, не будь так далек от меня! Но не подходи ко мне слишком близко!
Позволь мне еще любоваться звездами, блистающими на кромке Твоего одеяния! Но не являй мне лика Твоего!
Позволь мне еще услышать плеск рек, которым Ты повелел течь, шум ветра, которому Ты повелел качать деревья, и смех детей, которым Ты повелел родиться! Но Господи! Господи! Не дай мне услышать глас Твой!
24 декабря.
Доменико обещал, что к Рождеству мы будем в Генуе. Но мы там не будем. Если бы море успокоилось, мы могли бы добраться туда завтра вечером. Но дующий с юго-востока Iibeccio 7070
юго-западный ветер, дующий из Ливии. – Примеч. ред.
[Закрыть] удваивает его неистовство и принуждает нас снова укрыться на побережье.
Libeccio… Я уже давно забыл это слово из моего детства, которое вспоминали когда-то и мой отец, и мой дед – со смесью ужаса и ностальгии. Они всегда противопоставляли его scirocco 7171
юго-восточный ветер. – Примеч. ред.
[Закрыть], говоря, если мне не изменяет память, что Генуя надежно защищена от одного из них, но не от другого, и все это – из-за беспечности правящих тогда семей, которые растрачивали целые состояния, воздвигая свои дворцы, но, как только дело касалось общего блага, их одолевала скупость.
Калабрией тоже сказал мне, что еще двадцать лет назад ни один корабль не желал идти зимой в Геную, потому что Iibeccio собирал там обильную жатву. Каждый год на этом пути насчитывали двадцать, а то и сорок затонувших кораблей, а однажды даже более сотни: и торговых судов, и лодок, и фрегатов. Особенно в ноябре и декабре.
Но с тех пор с западной стороны была насыпана новая дамба, которая защищает порт.
– Как только мы окажемся там, можно будет уже ничего не опасаться. Эта бухта превратилась теперь в спокойное озеро. Но чтобы добраться туда в это время года, ох, забери меня к пращурам!
25 декабря 1666 года.
Утром мы попытались выйти в открытое море, а потом снова прижались к берегу. Libeccio дул все сильнее и сильнее, и Доменико знал, что мы не сможем далеко уплыть. Но он хотел, чтобы мы укрылись в одной бухточке – за полуостровом Портовенере, со стороны Леричи.
Я устал от моря и все время чувствую себя больным. Я гораздо охотнее отправился бы в Геную по земле, тем более что Генуя – всего лишь в дне пути отсюда. Но после всего, что сделали для меня капитан и вся команда, я постыдился бы их бросить. Я должен сейчас разделить их судьбу – так же, как они недавно разделяли со мной мою, – даже если мне придется выплюнуть все мои кишки наружу!
26 декабря.
Одному старому моряку, который брюзжал, упрекая его в том, что он не сдержал своего обещания, Доменико ответил: «Лучше немного опоздать в Геную, чем слишком рано попасть в ад!»
Мы все рассмеялись, кроме того старого матроса – он уже слишком близко подошел к собственной кончине, и его не могло рассмешить напоминание об аде.








