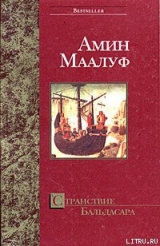
Текст книги "Странствие Бальдасара"
Автор книги: Амин Маалуф
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Монахи приняли нас вежливо, но без особого рвения. Я все же воспользовался именем отца Тома Парижского, хотя, по правде, немного злоупотребил им. Но если бы я попросил у него рекомендательное письмо, он написал бы его для меня. Все произошло так быстро, что я даже не предупредил его о своем предстоящем отъезде. Я не хотел, чтобы те, кто следил за мной в Константинополе, могли, отправившись в церковь, узнать из его уст, куда я уехал. Конечно, я мог бы просить его ничего никому не говорить, но тогда пришлось бы объяснять, почему меня преследуют, и заставлять его лгать, чтобы защитить себя… Словом, я пришел без рекомендации и поступил так, как будто она у меня была. Я даже назвал отца Тома «своим исповедником», хотя это определение вовсе не ложно, но несколько неправильно и отчасти хвастливо.
Но сегодня я желал написать совсем не об этом. Я хотел следовать хронологии событий и рассказать сначала о прошедшей ночи, о своем сне. Прежде чем перейти к главному. К странным вещам, происходящим в этом городе, о которых я слышу со всех сторон. Источники моих сведений многочисленны. Главный – это глубокий старик, капуцин, отец Жан-Батист из Дуэ, проживший двадцать лет на Леванте, а прежде живший пятнадцать лет в Генуе, ностальгию по которой он сохранил и которой гордится, будто это его родной город; он сказал, что польщен беседой с потомком славного рода Эмбриаччи, и открыл мне свое сердце, словно мы были знакомы с детства. Но в том, что я собираюсь сейчас рассказать, я полагаюсь также на иностранцев, встреченных мной сегодня, и на местных жителей.
Все они утверждают, что некий человек в этом городе – еврей по имени то ли Саббатай, то ли Шабтай, а может, и Шабетай – провозгласил себя мессией и объявил о конце света в 1666 году, указав точную его дату, вроде бы июнь. Самое странное то, что большинство обитателей Смирны – даже среди христиан или турок, даже среди тех, кто насмехается над этим человеком, – кажется, убеждены, что его предсказание сбудется. Включая самого отца Жана-Батиста, уверяющего, что появление ложных мессий есть несомненный знак, подтверждающий неизбежность конца света.
Мне сказали, что евреи не желают больше работать, что они все дни теперь проводят в молитвах и ритуальных постах. Их лавки закрыты, и приезжим с трудом удается найти менялу. Я не мог проверить это ни сегодня, ни вчера вечером, потому что был их шабат 3434
Шаббат, или шабат – суббота, праздничный день для верующих иудеев, в который запрещена любая работа. – Примеч. пер.
[Закрыть], но посмотрю завтра: завтра день Господень 3535
День Господень, или день Спасителя, то есть воскресенье. – Примеч. пер.
[Закрыть] – для нас, но не для евреев и не для турок. Я отправлюсь в их квартал, расположенный на холме по дороге к старому замку, тогда как иноземцы, которые здесь большей частью голландцы и англичане, живут у морского побережья, по обе стороны улицы, ведущей в порт. Тогда я смогу увидеть собственными глазами, правду ли мне говорили.
13 декабря 1665
Евреи повсюду кричат о чуде, и для меня, всю жизнь живущего в Оттоманской империи, это так и есть: их так называемый мессия жив и здоров, я собственными глазами видел, как он вышел на улицу свободный, распевая во все горло. Однако еще сегодня утром любой мог предать его смерти.
Его отправили к кади, который представляет в Смирне закон и имеет обыкновение наказывать со всей суровостью тех, кто угрожает общественному спокойствию. То, что происходит сейчас в Смирне, является для властей более чем угрозой – неслыханным вызовом, чтобы не сказать оскорблением. Никто больше не работает. Не только евреи. В этом городе – одном из тех, где живет больше всего иноземных купцов, – уже ничего не продают и не покупают. Носильщики в порту не желают больше ни загружать корабли, ни разгружать их. Лавки и мастерские закрыты, а люди толпами собираются на улицах, чтобы беседовать о конце света и падении империй. Говорят, что уже появляются паломники из самых отдаленных областей и простираются ниц у ног упомянутого Саббатая, что его сторонники называют его теперь не только мессией, но и царем царей.
Я говорю «его сторонники», а не «иудеи», потому что последние резко разделились на два лагеря: большинство верит, что он действительно Тот, Ожидаемый, о ком объявляли пророки, но некоторые раввины видят в нем самозванца и осквернителя, потому что он позволяет себе при всех произносить вслух имя Господа, а это запрещено у евреев. Его же сторонники говорят, что ничто не может быть запретным для мессии и что это нарушение закона как раз и есть ясный знак того, что Саббатай выше других людей, все они неровня Саббатаю. Стычки между этими двумя группами происходили, кажется, уже несколько месяцев, прежде чем слухи об этом получили огласку вне их сообщества. Но несколько последних дней их противостояние приняло другой оборот. Улицы взорвались скандалами, одни иудеи обвиняли других в неверии перед толпой христиан и турок, которые ничего в этом не понимали.
А вчера случилось нешуточное столкновение во время молитвы в большой синагоге, которую называют здесь Португальской. Там собрались противники Саббатая, они не хотели, чтобы он туда вошел. Но он пришел со своими сторонниками и принялся крушить ворота здания ударами топора. Вот после этого происшествия кади и решил вызвать его к себе. Я узнал обо всем сегодня утром на рассвете из уст отца Жана-Батиста, который живо интересуется всеми этими событиями. Он-то и побудил меня пойти и встать у дома кади, чтобы я посмотрел, как выйдет Саббатай, и рассказал ему обо всем, что увижу. Я не заставил себя упрашивать, мое любопытство с каждым днем разгоралось все больше, и возможность быть свидетелем таких огромных потрясений я воспринимал как привилегию. Привилегию и еще – к чему и дальше бояться этого слова – как знамение. Да, знамение. Как по-другому можно назвать то, что происходит? Я уехал из Джибле из-за всех этих слухов о годе Зверя, а по дороге я встретил женщину, с которой мы все время говорили о Смирне, потому что именно там вроде бы в последний раз видели ее мужа. Любовь к ней привела меня в этот город, и тут я узнаю, что здесь и сейчас провозглашен конец света. До 1666 года нам остались считанные дни, и вот теперь я расстаюсь со своими сомнениями, как другие расстаются со своей верой. Из-за ложного мессии, спросят меня? Нет, из-за того, что я увидел сегодня то, что отказывается понимать мой разум.
Дом кади не может, конечно, сравниться с Константинопольским дворцом, но издали он кажется одним из самых внушительных сооружений в Смирне. Три этажа с изящными арками, портал, перед которым проходят только склонив голову, и обширный сад, где щиплют травку лошади охраны. Дело в том, что кади не просто судья, он еще исполняет должность наместника. И если султан – тень Бога на земле, кади – тень султана в этом городе. Это ему надлежит держать подданных в страхе: будь то турки, армяне, евреи и греки или даже иноземцы. Недели не проходит без того, чтобы кто-нибудь не был замучен, повешен, посажен на кол, обезглавлен или – если речь идет о важном лице и Порта настаивает на этом – удавлен самым почтительным образом. Вот почему местные жители стараются обходить его резиденцию стороной.
Даже сегодня утром, хотя зеваки и толпились возле дома, все они рассеялись по соседним улочкам, готовые сбежать при первых же признаках тревоги. Среди них полно было евреев в красных шапочках, они тихо беседовали жарким шепотом, но также много было и иноземных торговцев, пришедших, как и я, чтобы посмотреть на это зрелище.
Вдруг раздались возгласы. «Вот он!» – сказал мне Хатем, показывая пальцем на рыжебородого человека, одетого в длинный плащ и шапку, украшенную драгоценными камнями. За ним по пятам следовало около пятнадцати ближайших сподвижников, тогда как сотня других шла в некотором отдалении. Он шагал медленным, но решительным шагом, как и подобает достойному человеку, но вдруг принялся громко петь, хлопая в ладоши, словно выступал перед толпой. Несколько адептов, шедших за ним, делали вид, что тоже поют, но голоса застревали у них в горле: слышен был только его голос. Другие евреи вокруг него довольно улыбались, посматривая в сторону группы янычар, охраняющих вход. Саббатай же прошел совсем рядом с ними, не удостоив их взглядом и продолжая громко распевать свои песни. Я был уверен, что они сейчас схватят его, сомнут, но они ограничились лишь язвительными улыбками, будто говоря: «Посмотрим, каким голосом ты запоешь, когда кади вынесет свое решение!»
Ожидание было долгим. Многие евреи молились, раскачиваясь всем телом, другие уже плакали. Что до европейских купцов, некоторые выглядели озабоченными, прочие же казались насмешливыми или презрительными – какая у кого была душа. Даже внутри нашей скромной компании не было единения, каждый вел себя по-своему. Бумех сиял, лучась гордостью от сознания того, что все происходящее подтверждало его предсказания о наступающем годе; можно подумать, будто эта его проницательность даст ему право на милосердие Господа в час Апокалипсиса. Его брат, в это же самое время уже позабыв о ложном мессии и о Судном дне, заботился лишь о том, чтобы лучше рассмотреть молоденькую еврейку, равнодушно стоявшую у стены – босиком и согнув ногу в колене – в нескольких шагах от нас; время от времени она бросала взгляды на моего племянника и, склоняя лицо, улыбалась украдкой. Перед ней был какой-то мужчина, может, ее муж или отец, он иногда оборачивался, хмуря брови, словно что-то подозревал, но ничего не видел. Один Хатем, так же как и я, наблюдал за этими галантными маневрами, о которых всякий знает заранее, что они ничем не кончатся, но, думается мне, сердце часто питается подобными невинными желаниями, и так же часто в нем поселяется пустота, если они утоляются.
Что до Марты, она казалась исполненной сочувствия к человеку, которому должны были сейчас вынести приговор; она наклонилась ко мне, спрашивая, не этот ли самый судья из Смирны и не то ли это здание, в котором несколько лет назад судья приговорил ее мужа к повешению, и добавила шепотом: «Да пребудет с ним милосердие Господне!» Тогда как она, должно быть, как и я, думала о другом: «Лишь бы нам удалось раздобыть доказательства!»
Вдруг – новый шум: приговоренный вышел! Впрочем, совсем даже не приговоренный: он вышел свободным, со всеми своими сторонниками, и когда ожидавшие его увидели, как он улыбается и приветствует их, они закричали: «Это Рука Всевышнего явила свое могущество!» Саббатай ответил им подобной же фразой, потом запел так же, как при своем появлении, и на этот раз к нему решились присоединиться другие голоса, хотя не настолько громко, чтобы перекрыть его собственный. Ибо он надсаживал горло так, что даже лицо его покраснело.
Янычары, стоявшие на часах, не знали, что и сказать. В другое время они бы уже давно вмешались – с саблями наголо. Но этот человек вышел от судьи свободным, как они могли его арестовать? Они бы тогда сами были обвинены в неповиновении. И они рассудили вовсе не вмешиваться. И решили даже, по приказу своего начальника, вернуться в дворцовый сад. Их отступление немедленно вдохновило толпу, тут же стали раздаваться крики на еврейском и на испанском: «Да здравствует царь Саббатай!»
Потом толпа, распевая все громче и громче, отправилась в еврейский квартал. С этой минуты весь город кипит.
Чудо, сказал я? Да, чудо, разве я могу назвать это иначе? В этой стране рубят головы и за в тридцать раз меньшие прегрешения, чем то, что я видел сегодня! До самой ночи по всем улицам города шествуют толпы, призывая жителей любых конфессий то к ликованию, то к покаянию и посту. Объявляют о наступлении новой эры, времени Воскресения. Грядущий год они называют уже не «годом Зверя», а «годом Празднования». По какой причине? Неведомо. Зато ясно, что они, кажется, счастливы видеть, как заканчивается это время, принесшее им, как они говорят, только унижения, гонения и страдания. Но какими будут грядущие времена? На что будет похож мир после своего конца? Придется ли нам всем умереть в какой-то катастрофе, прежде чем наступит Воскресение? Или же просто настанет новая эра, новое царство, Царство божие, пришедшее на землю после правителей земных, век за веком являвших неправедность и продажность?
Сегодня вечером в Смирне каждому мнилось, что это Царство у наших врат и что прочие, включая самого султана, будут сметены с лица земли. Не из-за этого ли кади позволил Саббатаю уйти свободным? Уж не хотел ли он угодить завтрашнему властителю, как часто поступают чиновники, чуя, что ветер переменился? Один английский купец сказал мне сегодня, что ему решительно ясно: евреи, разумеется, заплатили судье изрядную сумму, чтобы он отпустил «их царя» живым и здоровым. Мне в это верится с трудом. Ведь если до властей Высокой Порты дойдут слухи о том, что произошло сегодня в Смирне, падет голова самого кади! Ни один дальновидный человек не пойдет на такой риск! Скорее можно поверить тому, что говорил мне еврейский купец, недавно приехавший из Анконы и утверждавший, что турецкого судью в присутствии Саббатая объял трепет и ослепил таинственный свет; вот почему хотя он и принимал его сначала, не поднявшись с места и говоря с ним самым уничижительным тоном, но, когда тот уходил, проводил его до выхода, оказывая ему всяческие почести и умоляя простить свое первоначальное поведение. Но верить этому тоже трудно. Я совсем запутался, и ничто из того, что я слышу, меня не удовлетворяет.
Может быть, завтра все прояснится.
Понедельник, 14 декабря 1665 года
Сегодня я снова готов был кричать о чуде, но не хотел бы опошлить это слово, используя здесь его вульгарное значение. Вот почему я буду говорить скорее о неожиданности, случайности и благословенном совпадении: я только что встретил на улицах Смирны человека, побеседовать с которым мне хотелось больше всего на свете. Я мало спал прошлой ночью. Все, что случилось, поразило меня до глубины души, я постоянно крутился и ворочался в постели, и мысли тоже кружились у меня в голове: я задавался вопросом, чему и кому мне стоит верить и как приготовиться к ожидаемым потрясениям.
Помню, как написал накануне своего отъезда, что все это грозит поколебать мой рассудок. Какого черта, разве он может не колебаться? И тем не менее я все время упорно стараюсь распутать нити этой тайны – спокойно, настолько спокойно, насколько это вообще возможно. Но я не в силах день и ночь запираться в цитадели своего разума, закрыв глаза и зажав уши руками, повторяя себе, что все это ложь, что весь мир ошибается и что знаки становятся знаками, только если их ищешь.
С тех пор, как я покинул Джибле, и до самого конца моего пребывания в Константинополе со мной, полагаю, не происходило ничего необычного, ничего такого, чего нельзя было бы объяснить житейскими случайностями. Смерть Мармонтеля после смерти Идриса? В ту минуту их кончина поразила меня, но ведь это в порядке вещей, когда умирает старый человек, а судно терпит кораблекрушение. Равно как и пожар во дворце благородного валашского коллекционера. В большом городе, где столько деревянных строений, подобные бедствия – обычная вещь. Правда, в каждом из этих случаев шла речь о книге Мазандарани. В другое время это раздразнило бы мое любопытство, заинтересовало бы меня, я, наверное, помянул бы несколько присловий, подходящих к этим обстоятельствам, а потом вернулся к своим торговым занятиям.
Цитатель моего разума пошатнулась во время плавания по морю, я утверждаю это со всей ясностью. И со всей ясностью признаю и то, что не случилось ни одного значительного происшествия, которое могло бы это объяснить. Ничего, кроме воспоминаний, причем самых смутных: эти такие странные мрачные дни, эта внезапно разразившаяся и столь же внезапно утихшая буря, и все эти люди, молчаливо двигавшиеся в тумане, будто бродили уже только их души.
А потом я ступил на землю Смирны. Я спускался по трапу неверными шагами, но надеялся, что мне постепенно удастся опять обрести ясный ум и вновь стать – в этом городе, где так нравится жить европейским купцам, – генуэзским торговцем, тем, кто я есть и кем всегда был.
Увы, события, случившиеся сразу после моего приезда, не оставили мне времени собраться с мыслями. Я не могу больше рассуждать о непредвиденных обстоятельствах и поступать так, будто только чистая случайность привела меня туда, где было провозглашено наступление конца света – в Смирну, тогда как, покидая Джибле, я ни в малейшей степени не помышлял о поездке в этот город. Мне пришлось изменить маршрут из-за женщины, которой не должно было быть рядом со мной в этом путешествии. Словно на Марту легла обязанность привести меня туда, где ждала меня моя судьба. Туда, где внезапно все эти дорожные происшествия обрели наконец свой смысл.
Сейчас каждое из этих событий, приведших меня сюда, кажется если не предзнаменованием, то по крайней мере вехой на извилистом пути, начертанном Провидением, а я прошел его – шаг за шагом, – думая, что иду по собственной воле. Стоит ли и дальше притворяться, будто я сам принимаю решения? Надо ли – во имя разума и свободы воли – утверждать, что в Смирну привело меня лишь собственное желание и что только случайность заставила высадиться здесь именно в ту минуту, когда в этом городе начались разговоры о конце света? Быть может, как раз теперь я называю прозрением то, что на самом деле является ослеплением? Я уже задавал себе этот вопрос, и, кажется, мне придется задать его еще не один раз, не надеясь дождаться ответа…
К чему я рассказываю об этом именно сейчас и спорю сам с собою? Вероятно, потому, что друг, встреченный мной сегодня, приводил мне те самые доводы, которых и я вроде бы придерживался всего несколько месяцев назад, а я не решился поспорить с ним, чтобы не обнаружить перед ним слабость своего рассудка.
Но прежде чем дальше вспоминать об этой встрече, наверное, стоило бы сначала описать сегодняшние события.
Так же, как вчера и позавчера, большинство обитателей Смирны не работали. С самого утра разнесся слух, что Саббатай провозгласил понедельник новым шаббатом, который требуется соблюдать, как и прежний. Мне не смогли пояснить, говорил ли он только о нынешнем дне или обо всех будущих понедельниках. Один английский купец, встреченный мной на улице, заметил мне, что с пятницей турок, субботой евреев, нашим воскресеньем и новым шаббатом Саббатая скоро соберется полная рабочая неделя. На этот час, во всяком случае, как я писал уже выше, никто и не думает трудиться, за исключением торговцев сладостями, для которых эти дни всеобщего ликования принесли вдруг нежданную прибыль. Люди бесконечно перемещаются – не только евреи, но больше всего, конечно, именно они – от праздника к празднику, от шествия к шествию и от одного жаркого спора к другому.
Прогуливаясь днем недалеко от Португальской синагоги, я оказался на небольшой площади и стал свидетелем странной сцены. Вокруг молодой женщины, упавшей на землю перед входом в молитвенный дом, собралась толпа. Казалось, несчастную сотрясают конвульсии. Она произносила отрывистые слова, из которых я ничего не понял, кроме нескольких бессвязных обрывков: «Предвечный», «пленники», «царствие твое», но люди внимали каждому выдоху, а кто-то за мной объяснил вкратце своему соседу: «Это дочь Элиакима Хабера. Она пророчествует. Она зрит Саббатая, восседающего на троне». Я удалился, мне было не по себе. Я чувствовал себя так, словно проник в дом умирающего, не будучи ни членом семьи, ни его соседом. И потом, вероятно, судьба ждала меня в другом месте. Уйдя с площади, я решительным шагом углубился в переулки, словно без тени сомнения знал, куда мне идти и с кем у меня назначена встреча.
Я вышел на улицу пошире, на которой толпились какие-то люди, все они глядели в одну сторону. Показалась процессия. Во главе ее шел Саббатай; за два дня я видел его уже второй раз. Сегодня он снова пел во весь голос. Но не псалом и не молитву, нет – удивительно, но это была любовная песенка, старинный испанский романс: «Я встретил Мелисельду, королевскую дочку, веселую красавицу». Лицо этого человека было таким же красным, как его борода, а глаза сияли, как у юного влюбленного.
Из всех домов, стоявших по обеим сторонам улицы, люди выносили самые дорогие ковры, чтобы бросить их на дорогу ему под ноги – так, что ему ни разу не довелось пройти по песку или камням. Хотя сейчас декабрь, нет ни большого холода, ни дождя, вместо этого солнце заливает город и его обитателей ясным, словно весенним, светом. Сцена, которой я стал свидетелем, не могла бы случиться под дождем. Ковры бы вымокли в грязи, а испанский романс навеял бы только тоску и грусть. А сейчас, в этот ласковый зимний день, ожидание конца света не вызывало ни отчаяния, ни сожаления. Конец света внезапно показался мне началом долгого вечного праздника. Да, я уже спрашивал себя, я, чужак, – но сегодня в еврейском квартале было полно чужаков – не ошибся ли я, опасаясь приближения этого рокового года? Я говорил себе и то, что хотя я приобрел привычку считать это время прожитым под знаком страха, в эти же дни я познал любовь, и они подарили мне жизнь, наполненную событиями гораздо больше, чем в любое другое время. Я даже мог сказать, что сегодня ощущал себя моложе, чем в двадцать лет, и был убежден, что эта молодость продлится вечно. И вот появился друг, снова вселивший в меня сомнения и заставивший меня по-новому мыслить о конце света.
Маимун. Будь он проклят и будь благословен!
Последний сообщник моего расстроенного разума, могильщик моих иллюзий.
Мы бросились обнимать друг друга. Я был счастлив тем, что прижимал к груди своего лучшего друга – иудея, он – тем, что сбежал от всех иудеев, живущих на этой земле, чтобы оказаться в дружеских объятиях «неверного».
Он шагал в хвосте процессии с отсутствующим и угнетенным видом. Заметив меня, он вышел из своего ряда без малейшего колебания, чтобы увлечь меня подальше отсюда.
– Уйдем из этого квартала! Мне надо поговорить с тобой!
Мы спустились с холма и направились к большой улице, на которой селились европейские торговцы.
– Тут есть один французский трактирщик, он только что устроился рядом с таможней, – сказал мне Маимун, – пойдем поужинаем у него и выпьем вина.
По дороге он начал рассказывать мне о своих несчастьях. Его отец, охваченный горячим нетерпением, решил вдруг продать за бесценок все, чем владел, и отправиться в Смирну.
– Прости меня, Бальдасар, друг мой, я кое-что скрыл от тебя во время наших долгих разговоров. Тогда это было еще тайной, и я не хотел предать доверие своих соплеменников. Теперь все это вышло на свет божий, нам на горе. Ты-то до приезда в Смирну и не слышал имени Саббатая Цеви. Может, только в Константинополе…
– Нет, – признался я, – никогда не слышал. Только с тех пор, как я оказался в Смирне.
– Ну а я встречал его еще прошлым летом, в Алеппо. Он оставался там несколько недель, и мой отец даже пригласил его в наш дом. Он был совсем не тем человеком, которого ты видишь сегодня, тогда он был сдержанным, скромным в речах, он не называл себя ни царем, ни мессией и не вышагивал, распевая, по улицам. Поэтому его прибытие в Алеппо не вызвало волнений нигде, кроме нашей общины. Но у нас сразу начались споры, которые продолжаются и по сей день. Потому что в окружении Саббатая уже тогда шептались, что он и есть долгожданный Мессия, что один пророк из Газы по имени Натан Ашкенази признал его таковым и что очень скоро он себя проявит. Наши люди разделились и разделены до сих пор. Мы получили три письма из Египта, во всех утверждалось, что он, несомненно, Мессия; тогда как один из самых уважаемых хакимов написал нам из Иерусалима и предупреждал нас, что этот человек – самозванец и нам следует подвергать сомнению все его слова и дела. В семьях начался разброд, а в нашей – больше, чем у кого бы то ни было. Отец с первого же мига, как услышал о Саббатае, жил только ожиданием его появления. Тогда как я, его единственный сын, плоть от плоти его, не верил этому ни единого мгновения. Все это кончится очень плохо. Наши люди, веками жившие скромно и замкнуто, не повышая голоса, вдруг принялись кричать, что их царь вскоре будет править всем миром, что султан Оттоманской империи склонится перед ним и, преклонив колена, отдаст ему собственный трон. Да, они говорят вслух все эти безумные вещи, ни на минуту не задумываясь о том, что гнев султана может обрушиться на них. «Хватит бояться султана», – сказал мне отец. Это он, проведший всю свою жизнь в страхе пред тенью самого мелкого чиновника, посланного Высокой Портой! К чему бояться султана, его царство повержено, грядет эра Воскресения!
Отец во что бы то ни стало хотел отправиться в Константинополь, как я тебе и рассказывал, но я поехал вместо него, опасаясь, что он не вынесет дорожных тягот. Он обещал подождать меня, а я пообещал ему вернуться, выслушав всех великих хакимов – тех, кого единодушно почитают все наши.
Я сдержал свое обещание, я, но не мой отец. Приехав в столицу, я сразу взялся обходить одного за другим самых знающих людей, заботливо записывая каждое их слово. Но отец был слишком нетерпелив, он не дождался меня. Однажды я узнал, что он выехал из Алеппо с двумя раввинами и еще несколькими почтенными людьми. Их караван прошел через Таре через две недели после нашего, потом они двинулись по дороге на Смирну.
Перед тем как покинуть дом, он распродал за гроши все наше имущество. «Зачем ты это сделал?» – спросил я его. А он сказал: «К чему нам держаться за горстку камней в Алеппо, если началась эра Воскресения?» – «Но если этот человек не Мессия? И время Воскресения еще не настало?» Отец мне ответил: «Если ты не желаешь разделить моей радости, ты мне больше не сын!»
Да, он все продал, а потом пришел и швырнул эти деньги к ногам Саббатая. А тот в знак своего расположения провозгласил его царем! Да, Бальдасар. Мой отец был провозглашен царем, мы должны отпраздновать его восшествие на престол. Я больше не сын ювелира Исаака, я сын царя Азы. Ты теперь должен почитать меня, – сказал Маимун, опрокидывая стакан французского вина.
Я немного растерялся, не зная, надо ли мне разделить его сарказм.
– Может, стоит уточнить, – добавил мой друг, – что Саббатай уже сегодня провозгласил не меньше семи царей, а вчера – около дюжины. Ни в одном городе не бывало столько царей в одно и то же время!
Изложенные таким образом, эти престранные события, свидетелем которых я стал, действительно казались теперь каким-то жалким шутовством. Верить ли мне тому, что сказал Маимун? Или же, напротив, я должен был бы возразить ему, объяснить, почему сам я стал сомневаться во всем, – я, так давно не веривший в чудеса, так давно молча презиравший тех, кто в них верит.
Нет, я не стал с ним спорить, не стал противоречить ему. Я постыдился бы сознаться, что я, – не будучи иудеем и не ожидая того, чего ожидают они, – был потрясен столькими необъяснимыми совпадениями, столькими предзнаменованиями. Я постыдился бы прочесть в его глазах разочарование, презрение к тому «слабому уму», каким я стал. И так как мне не хотелось говорить обратное тому, что я думаю, я ограничился тем, что молчал и слушал.
Как бы я хотел, чтобы он оказался прав! Всем существом своим я надеюсь, что 1666 год будет обычным годом, с обычными радостями, с обычными заботами, и что я проживу его весь – с первого до последнего дня, – как прожил уже сорок других. Но мне не удается убедить даже себя самого. Ни один год из тех, что остались позади, не имел подобного завершения. Ни одному из этих годов не предшествовала такая вереница знаков. Чем ближе подходит новый год, тем больше истончается ткань мира, будто нити его должны вскоре послужить новому полотну.
Прости меня, Маимун, мой разумный друг, если я заблуждаюсь, так же как и я прощаю тебя, если заблуждаешься ты. Прости мне также, что я, пока мы сидели за столом во французском трактире, притворялся, будто согласен с тобой, чтобы теперь, ночью, без твоего ведома, ответить тебе на этих страницах. Разве можно было поступить иначе? Слова, произнесенные вслух, ранят сердце, слова написанные – погребены и покоятся под обложкой из мертвой кожи. Тем более мои, их никто не прочтет.
15 декабря 1665 года
До конца года осталось только семнадцать дней, и по Смирне – от таможни до старой крепости – ветер метет слухи. Некоторые из них тревожны: султан будто бы лично отдал приказ заковать Саббатая в железа и отправить его под конвоем в Константинополь; но сегодня вечером этот так называемый мессия был все еще здесь, прославляемый своими сторонниками; говорят, он провозгласил семь новых царей, среди которых есть городской попрошайка по имени Абрахам Рыжий. А еще рассказывают о таинственном человеке, якобы появившемся у ворот синагоги, старике с длинной шелковистой бородой, которого раньше никто здесь не видел; когда его спросили, кто он такой, он вроде бы ответил, что он пророк Илия, и призвал евреев объединяться вокруг Саббатая.
У этого последнего, по словам Маимуна, еще много хулителей среди раввинов и особенно среди богатых торговцев их сообщества, но они не решаются нападать на него публично и предпочитают сидеть запершись по домам, боясь, как бы толпа не сочла их неверными отступниками. Некоторые из них, говорят, даже собираются покинуть Смирну, отправившись в Магнезию 3636
Магнезия – греческое название, город Маниса в современной Турции, находится недалека от Измира (Смирны). – Примеч. пер.
[Закрыть].
Сегодня в полдень я пригласил Маимуна отобедать со мной у французского трактирщика. Вчера вечером за все платил он. Так как его отец растратил семейное состояние, я полагал, что мой друг стеснен в средствах или будет стеснен в самое ближайшее время; но мне не хотелось дать ему это почувствовать, чтобы не задевать его, и я согласился, чтобы он меня угостил. В этом местечке подают лучшие блюда во всей империи, я очень обрадовался, сделав это открытие. В городе живут еще два французских трактирщика, но к этому ходит больше всего народа. Он решительно восхваляет свое вино, которое турки пить не решаются. Зато он избегает подавать свиной окорок, тонко замечая, что сам его не слишком любит. К нему хочется прийти еще и еще, и я буду ходить сюда каждый раз, как попаду в Смирну.
Я совершил ошибку, рассказав о своем открытии отцу Жану-Батисту, который упрекнул меня за то, что я направил свои стопы в дом гугенота, ел под его крышей и пил вино с привкусом ереси. Мы были не одни, когда он произнес эти слова, и я подозреваю, что он сказал это, чтобы его услышали другие. Он достаточно долго прожил на Леванте, чтобы понимать, что у хорошего вина нет другого цвета и духа, кроме своего собственного.
16 декабря.
Я пригласил Марту пойти сегодня днем к господину Муано Иезекилю – так зовут французского гугенота. Не уверен, что она оценила кухню, но она оценила приглашение и чуть было не переусердствовала с вином. Я удержал ее на полдороге между веселостью и опьянением.








