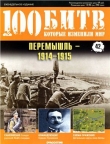Текст книги "Воспоминания"
Автор книги: Альфред фон Тирпиц
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
Глава четырнадцатая
Морское ведомство и внешняя политика
1
Общественное мнение нередко составляло себе неточное представление о системе управления государством. Бисмарковская имперская конституция не создала имперского министерства. В прусском министерстве, членом которого я был, вопросы внешней политики почти никогда не рассматривались. Империей же руководил один человек, под начальством которого стояли главы ведомств в качестве подчиненных, а не коллег. Имперский канцлер мог сам отдавать распоряжения по вопросам морской политики даже через голову начальника ведомства и даже наперекор его воле, хотя морскому ведомству была присвоена известная доля принадлежавшего императору права верховного командования. К тому же, несмотря на закон о правах чиновников, кайзер мог затруднить выход в отставку главе ведомства, являвшемуся офицером, да и сам вопрос о кабинете терял свое значение при слишком частом возбуждении его.
От канцлера, стоявшего в данный момент у власти, зависело, будет ли он привлекать своих «заместителей» – статс-секретарей – к участию в работе или оставит их в неизвестности относительно основных черт своей политики. Монархический характер должности канцлера, скроенной Бисмарком на собственный рост, заключал в себе то неоценимое преимущество, что облегчал выдающейся личности непосредственное вмешательство в ход дела. Зато при менее исключительной личности канцлера имперское министерство могло бы посредством коллегиального рассмотрения основных вопросов легче предупредить возможные ошибки или глупости. Однако изменение в порядке решения дел непременно предполагало либо более благосклонное отношение рейхстага и союзных государств к идее имперского министерства, либо необычное, пожалуй, самоотречение со стороны человека, который после кайзера сосредоточивал в своих руках всю полноту власти. Общественность обычно предполагала гораздо большую внутреннюю солидарность и гораздо более живой обмен мыслями между отдельными министрами, чем это имело место на самом деле, и была бы очень удивлена, если бы узнала, как случайна и ненадежна была та информация, которая в течение серьезных предвоенных лет поступала в столь важное в политическом отношении ведомство, как морское. Правление князя Бюлова внушало мне совершенно иное чувство уверенности, чем впечатлительная и подозрительная натура его неопытного во внешней политике преемника. Во время войны монархический характер должности канцлера приобрел оттенок гротеска, ибо канцлер, не справляясь с мнением морских властей, добивался таких приказов флоту, которые практически были вообще невыполнимы. Число политических вопросов, которыми мне приходилось заниматься, в этих условиях было невелико. Так, например, я не принимал участия ни в переговорах об островах Самоа (1899 г), ни в переговорах с Англией, происходивших в конце века, ни во вмешательстве в марокканские дела. Я уже указывал, что меня обошли и при отправке эскадры в Манилу (1898 г). Что касается экспедиции в Китай, то я высказывался против отправки туда Вальдерзее с 24 000 человек, ибо посылка целой армии могла быть неправильно истолкована, а для достижения реальной цели было достаточно морской пехоты, уже готовой к отплытию. Однако в высших сферах следовали лозунгу: Теперь должен решать потсдамский учебный плац.
Когда меня приглашали высказывать мои политические взгляды, я советовал: 1) всячески сохранять мир, благодаря чему мы ежегодно выигрывали, тогда как в случае войны мы могли бы выиграть мало, зато рисковали потерять все и 2) избегать всяких инцидентов, которые могли произойти вследствие грубостей, особенно невыносимых для англичан, или вследствие вызывающего образа действий. Упрочение же нашего юного мирового могущества я усматривал в политике равновесия на море. Поэтому я сожалел о том, что мы связали себя с Австро-Венгрией на жизнь и на смерть, хотя эта держава не имела никакого значения на море, а также взирал не без опасений на нашу балканскую и восточную политику, которая несла для нас с собой опасность запутаться во второстепенных вопросах из романтических побуждений. То, что Англия при случае советовала нам использовать для своей экспансии этот черный ход, только укрепляло нас в указанном убеждении. Мы должны были, напротив, сосредоточить все свои силы на том, чтобы держать для себя открытым парадный ход в мир – Атлантический океан, хотя необходимая для этого предпосылка – прочный мир на материке – при наших тогдашних отношениях с Францией всегда мог быть нарушен. Я не считал нас достаточно сильными для того, чтобы одновременно с затруднениями, которые испытывала наша политика вследствие соперничества с Англией на мировом рынке, заниматься еще Багдадской дорогой, сулившей гораздо меньше пользы для общих интересов народа, чем для отдельных хозяйственных предприятий. В особенности же я боялся того, что если наша политика не будет направлена на самое существенное, то мы потеряем доверие тех держав, от которых, по моему убеждению, зависело положение: России и Японии.
2
Развитие принципов Бисмарка, касающихся наших отношений с Россией, применительно к современным условиям было, по моему мнению, главным условием успешной внешней политики. Мы должны были установить пункты, в которых неизменные интересы России не сталкивались с такими же интересами Германии, и пойти России навстречу. Мне неизвестно, была ли предпринята хоть одна энергичная попытка в этом направлении до войны; об одной акции, предпринятой во время русско-японской войны и с самого начала не сулившей успеха, я буду говорить ниже.
Обычно же наши начинания сводились к встречам монархов, которые, правда, имели известное значение для поддержания старых династических традиций. Однако другие средства, например использование прессы, не применялись. Стремление Российской империи к земельным захватам даже и после образования Антанты неизбежно сталкивалось с путями развития британского могущества. А тут мы еще самым несчастным образом вклинились с нашей линией Берлин-Константинополь-Багдад{98}. За отказом от договора перестраховки (1890 г) последовало заключение франко-русского союза. Нарастал панславизм, своим острием обращенный против Австрии и нас. Все же сохранились еще многообразные и крепкие традиции русско-германской дружбы и общие интересы. Особенно существенной опорой являлся для нас царизм.
При том положении, которое сложилось после отказа от договора о перестраховке, я был убежден, что возможность побудить Россию к настоящему союзу с нами наступит не ранее, чем она станет осуществима через посредство Японии.
Во время русско-японской войны, 31 октября 1904 года, я присутствовал на заседании у канцлера, на котором фон Гольштейн высказался за то, чтобы вслед за шагами, предпринятыми кайзером, России было послано предложение вступить в союз с нами. По мнению Гольштейна, военное давление соединенных сил России и Германии побудило бы также и французов вступить в столь желательную саму по себе коалицию континентальных держав. Присутствовавший на заседании граф Шлиффен стал на чисто военную точку зрения. Он считал, что в случае возможного похода на Францию Россия всегда могла бы мобилизовать еще несколько армейских корпусов. Я заметил, что в этом случае, как и при обсуждении китайской экспедиции, благородный, скупой на слова и столь авторитетный в своей области стратег обнаружил некоторое пренебрежение к несолдатскому образу мыслей, впрочем, я, как и статс-секретарь по иностранным делам барон фон Рихтгофен, считал психологический расчет Гольштейна неправильным. Я сомневался в том, что принятый под дулом револьвера союз мог заставить французов мобилизовать свои силы ради наших интересов. Равным образом и в 1911 году я полагал, что холодный душ, которым Кидерлен-Вехтер еще раз окатил Париж, уже не соответствовал задачам момента. На упомянутом заседании 1904 года я выразил также сомнение в том, что присоединение к нашей армии двух или трех русских корпусов действительно усилило бы ее и с особой настойчивостью подчеркивал, что союз с Россией вместо ожидаемого успеха, заключавшегося в том, чтобы предохранить нас с помощью Парижа от военных замыслов Англии, напротив, только усилит существовавшую тогда опасность войны. В случае же войны с Англией при нашем еще не развитом флоте, к тому же лишенном тогда поддержки русского Балтийского флота, нам пришлось бы расплачиваться нашей внешней торговлей и колониями, а в таких условиях достигнуть удовлетворительного мира с Англией было бы очень трудно. Г-н фон Гольштейн упорно защищал свой план. На следующий день я послал Рихтгофену следующее письмо: Берлин, 1.11.04.
… Я еще раз продумал сложный вопрос, которым мы занимались вчера у г-на рейхсканцлера, и мне стало еще более ясно, что польза от союза с Россией в случае войны на море равна для нас нулю, о чем я говорил выше, и что даже в сухопутной войне он не имел бы большего значения. Ибо даже если в самом лучшем случае русские раскачаются и дадут нам для похода на Францию несколько армейских корпусов, то польза от лишних 100 000-200 000 человек в войне миллионов будет невелика и возможно, что усложнение работы нашего военного аппарата, вызванное проникновением в него русских элементов, вообще сведет ее на нет. Косвенная же выгода от подобного союза, заключающаяся в обеспечении безопасности нашей восточной границы, по-моему, и без того гарантируется нынешним положением России. С каждым месяцем русско-японской войны это становится все очевиднее. Но и после войны Россия так долго не сможет предпринять наступление на запад, что в вопросах большой политики мы сможем считать нашу восточную границу фактически неугрожаемой. На этой границе мы сможем обойтись одним ландвером. При этом я не принимаю в расчет того, что личность царя делает весьма маловероятным вмешательство России в войну Германии против Англии и Франции, и оставляю открытым вопрос о том, не могли ли бы мы добиться от царя обещания сохранить нейтралитет, даже не заключая с ним союза, а исходя из существующих дружественных отношений.
Важнее всего то, что союз с Россией не принесет нам реальных, то есть военных, выгод.
В то же время не подлежит сомнению, что союз с Россией усилит для нас опасность военного столкновения с Англией. Для этого достаточно, чтобы плавание русских аргонавтов сопровождалось новыми инцидентами, вроде недавно урегулированного Гулльского. Чтобы измерить указанное усиление опасности, представим себе на минуту, что общественность узнает о заключении русско-германского союзного договора; разве в этом случае вся ярость английского общественного мнения не обрушится исключительно на нас? Мысль о союзе с Россией базируется исключительно на желании оказать на Францию такое давление, чтобы она всячески старалась удержать Англию от войны с нами. Помощь же России будет выражаться лишь в трактате, заключенном при подобных обстоятельствах, то есть в клочке бумаги, а не в реальных ценностях. Фактически желаемое «давление» на Францию может оказать лишь угроза войны со стороны Германии. Но для этого на сегодняшний день не нужен союз с Россией. Мы настолько сильны и свободны, что можем сделать это в любой момент; таким образом, усиление опасности войны с Англией, которым чреват подобный союз, отнюдь не является для нас необходимым.
Наконец, остается сомнительным, чтобы посредничество Франции смогло удержать властителей Англии от войны с нами, если они действительно захотят ее, не говоря уже о том, что французы, конечно, не вложат душу в свое посредничество. Но если бы это случилось и Англия отказалась от войны с нами, то тем грубее и энергичнее стала бы она натравливать на нас Японию, а насколько я понял из проекта договора, наше столкновение с одной Японией по окончании нынешней войны не явилось бы casus foederis{99} для России. Вести же войну с Японией без сильных на море друзей и имея за спиной враждебную Англию мы не можем. Таким образом, и в этом случае союз с Россией не даст нам ничего существенного. Если же взять, наконец, наиболее интересующий нас случай (Англия одна объявляет нам войну, и Россия должна выступить на нашей стороне), то существующий сейчас двойственный русско-французский союз, направленный против нас, стеснит свободу наших действий по отношению к Франции, помощь же России не будет играть для нас никакой роли. Положительное значение для дела мира имело бы только заключение подлинно оборонительного союза Германии, Франции и России против Англии, но эта цель не может быть достигнута с помощью предложенной акции.
Приведя эти соображения, касающиеся лишь важнейших вопросов, я хотел бы уточнить свою точку зрения, предложив энергично поддерживать дружбу с Россией, особенно личные отношения императоров, но не заключать с ней договора и выжидать развития событий. В общем выигрыш времени и строительство флота являются нашими важнейшими политическими задачами.
Поскольку высокая политика является высшей сферой и я участвовал в рассмотрении этого вопроса лишь как посторонний, я обращаю к вам эти строки с просьбой разъяснить мою точку зрения г-ну рейхсканцлеру.
Предложение о заключении союза, которое хотя и соответствовало вполне моим принципиальным воззрениям, но в тогдашний острый момент войны казалось мне опасным, было сделано. Как сообщил мне впоследствии Гольштейн, Россия отнеслась к нему холодно. Я предполагаю также, что русские министры уже тогда использовали наше предложение в своих отношениях с западными державами и сумели извлечь из него пользу.
Сам Николай II был настроен в пользу Германии. Общественность составила себе ложное представление о царе, как и о многих политических факторах и деятелях. Это был честный, лично бесстрашный человек со стальными мускулами, в котором сознание своего достоинства самодержца соединялось с корректной привычкой немедленно передавать соответствующему чиновнику все представляемые ему политические вопросы. Николай II особенно стремился уйти в тишину частной жизни. Вот почему он так любил Вольфсгартен в Гессене, где ничто не было ему так приятно, как отсутствие посетителей; по тем же причинам он так охотно бывал на кораблях германского флота, где, свободный от пут своего сана, он чувствовал себя человеком среди людей и держал себя с нами открыто и любезно.
Но среди своих он походил на пленника. Когда во время встречи в Свинемюнде (1907 г) мы пошли навстречу ему (было условлено, что мы останемся на якоре, а царь пройдет на своей яхте между кораблями флота, но кайзеру захотелось выйти навстречу царю), мы встретили его на траверзе Кольберга. Несмотря на сильное волнение, кайзер велел спустить шлюпку и направился к яхте русского царя, что сами русские считали невозможным. Но яхта продолжала держать по ветру и терпеть килевую качку. Мы не могли понять, почему они поступили так; ведь элементарная помощь судна идущей к нему лодке состоит в том, что оно поворачивается и своим корпусом закрывает лодку от ветра. Пока мы обходили яхту с кормы, кайзер крикнул царю: Niki, won't you make a lee{100}. Мы видим, как царь, одетый еще в куртку, пытается отдать распоряжения. Когда мы подходим к борту, то замечаем, что команда уже выстроена для смотра. Но трап, по которому должен был подняться кайзер с обычными церемониями, не спустили. Нам оставалось только подойти к носу, откуда свешивался матросский шторм-трап. Кайзер выходит из себя. Мы видим, как царь, также сильно возбужденный, бросается на нос, в то время как огромные парни неподвижно стоят, вытянувшись в струнку; русские сановники – Ламсдорф, Бенкендорф, Фредерикс и другие остаются у неспущенного императорского трапа. Подъем на яхту был трудным и небезопасным для кайзера. Нам не бросили даже каната. Навстречу кайзеру пошел один царь; все остальные застыли в мертвенном молчании, ибо парад уже начался, наше появление не было предусмотрено, и ни один из командиров (к моему удивлению, их оказалось двое) не взял на себя, несмотря на просьбы нашего морского атташе, ответственность за необходимое распоряжение, которое у нас сделал бы вахтенный офицер.
Весь этот день царь был в дурном настроении из-за описанной сцены. Когда он появлялся в русском обществе вместе с кайзером, ему вообще было не по себе, возможно потому, что кайзер тотчас же становился естественным центром всякого кружка и, одевая русский мундир, вращался среди русских совершенно как русский. Царь же, в характере которого при слабой инициативе была заложена чисто русская сила пассивного сопротивления, чувствовал себя отодвинутым на второй план. Политическая и светская инициатива неизменно исходила от нас. Я всегда старался поддерживать весьма энергичные в своем роде попытки кайзера установить хорошие отношения с Россией и пользовался особым благоволением царя, хотя его характер отличался большой сдержанностью.
В 1903 году кайзер послал меня к царю в Петербург с деликатным поручением, которое я не передал, так как англофильски настроенная императрица не оставляла меня наедине со своим супругом (будущее показало, что я поступил правильно). Я не могу судить, являлась ли эта красивая женщина выдающейся и в духовном отношении; во всяком случае, по моим наблюдениям, она не очень беспокоилась о своей германской родине. Я воспользовался своим визитом, чтобы предостеречь царя против восточно-азиатской опасности, которую я считал весьма серьезной, учитывая известный мне декоративный характер русского восточно-азиатского флота. Николай II, который не выносил японцев, ответил, что считает опасность преувеличенной, ибо он настолько силен, что японцы ничего уже не могут сделать. В наших собственных интересах я сожалел о том, что русско-японская война не была предотвращена, и уже 2 октября 1904 года, когда в широкой публике еще рассчитывали на победу русского солдата, я указал канцлеру на опасность, которая возникнет для нас, если в случае поражения русских наша позиция в Циндао окажется аванпостной. Мы не могли подражать той наглости, с которой англичане поддерживали японцев во время войны, но даже в рамках нейтралитета нами было оказано словом и делом больше услуг русскому флоту, чем французами. Однако когда адмирал Рожественский перед своим отплытием с русским Балтийским флотом просил о том, чтобы его сопровождал тогдашний германский морской атташе фон Гинце, кайзер отклонил эту просьбу как несоответствующую нейтралитету. Между тем уже после начала войны английские команды привели в Японию построенные для нее в Италии крейсеры «Касуга» и «Нисин», английские офицеры играли очень активную и значительную роль в штабе адмирала Того как при Порт-Артуре, так и в Цусимском проливе. В морском сражении близ Порт-Артура Того, положение которого сулило мало успеха, собирался было уже прервать бой, но англичанин, находившийся при штабе, убедил его держаться дальше, и вскоре затем русский адмиральский корабль «Цесаревич» получил смертельный удар. После этого поражения, которому русские обязаны англичанам столько же, сколько японцам, британское влияние стало брать в России верх над германским. Вернувшись из японского плена, Рожественский в разговоре с фон Гинце объяснил это русским народным характером: Тому, кто помогает русскому и относится к нему по-дружески, он дает пинка, ибо смотрит на себя, как на холопа; тому же, кто потчует его кнутом, он целует полу одежды{101}. Несмотря на то, что в 1907 году Россия уладила свои отношения с Англией, я остался при том мнении, что царизм не представляет собой серьезной угрозы для нашего будущего.
Однако морское ведомство не закрывало глаза на рост воинственных настроений в русских сферах. Г-н фон Гинце, который благодаря своей ловкости затмевал при петербургском дворе германского посла, вскоре после японской войны сообщил о признаках враждебного отношения к Германии в русской армии, но Потсдам осудил его за это. Все же не следовало преувеличивать опасность со стороны русской военной партии, великих князей с их парижскими приятельницами и панславизма, хотя и необходимо было противодействовать им всеми средствами. Наша балканская политика 1908-1914 годов, в особенности же посылка военной миссии в Константинополь, возбуждала во мне сомнения.
Николай II, который в одной из последних бесед со мною сказал по собственной инициативе: Гарантирую вам, что я никогда не буду воевать с Германией, в 1914 году также не желал войны с нами. Я оставляю в стороне вопрос о том, в какой мере нам удалось бы подавить влияние воинственных кругов Петербурга посредством более правильного отношения к царю и сербскому вопросу в июле 1914 года. Война с Россией была кардинальной ошибкой нашей политики, и скорейшее заключение мира с царем должно было служить целью государственного искусства, стремящегося к победе. Заключение мира было, безусловно, затруднено выступлением Турции на нашей стороне и невыполнением гинденбургского плана кампании 1915 года. Но все-таки еще в 1916 году можно было заключить приемлемый мир, когда царь, чувствуя, что его трон заколебался, поручил Штюрмеру вести с нами переговоры. Стремлению Бетман-Гольвега свалить свои политические ошибки на военное ведомство соответствует и то, что он старался приписать самую непонятную из этих ошибок – прокламацию к полякам от ноября 1916 года{102} – генералу Людендорфу. Между тем уже на одном из заседаний кабинета зимой 1915/16 года Бетман указал на такое решение польского вопроса как на самое целесообразное. После заседания я сказал одному из своих коллег, что если подобное выступление примет серьезную форму, министерство должно решительно высказаться против него. После моего ухода в отставку я незадолго до принятия решения относительно Польши посетил генерал-губернатора фон Безелера и частным образом высказал ему свое мнение о нецелесообразности и роковой опасности этого шага; мне было ясно, что этим не только создается новый враг для Германии, но и устраняется одна из последних возможностей сепаратного мира. В самом деле, вызванное этим усиление боевого настроения в России было таково, что невозможно было придумать более неудачной прелюдии к нашему мирному предложению от декабря 1916 года, чем эта польская прокламация, которую царь, как говорят, назвал «пощечиной себе» и которая, по выражению Штюрмера, убила мир.
Уже в середине июля 1914 года в связи с предстоящим вручением ультиматума Сербии, я из Тараспа письменно выразил своему заместителю в Берлине опасение, что непонимание английской политики Бетман-Гольвегом может привести нас к непоправимому разрыву с Россией. Не представляя себе тогдашнюю дипломатию Бетмана во всех деталях, я все же писал:
Нужно только представить себе, какую политику по отношению к России и Германии повел бы английский Бисмарк. Канцлер совершенно помешался, он влюблен в свою идею заискивания перед коварным Альбионом. Мы должны coute que coute{103} помириться с Россией и поссорить кита с медведем. Всякие сентиментальные побуждения должны умолкнуть.
Сам Бетман, конечно, и до польской прокламации не смог бы достигнуть сепаратного мира с Россией, ибо последняя решила бы, что он все-таки продает ее англичанам. То, что кайзер не нашел в себе силы уже в 1916 году переменить фронт нашей политики и с этой целью уже тогда произвести смену канцлера, явилось для нас роковым.
В этом несчастье повинно также и тяготение нашей интеллигенции к западной культуре. Сама по себе эта культура является односторонней, ибо мы уже давно усвоили образованность Запада, а его нынешняя однообразная утилитарно-капиталистическая массовая культура, быть может, менее способна оплодотворить германский дух, нежели упрямый идеализм русских и Востока. К тому же здесь дело шло не о культуре, а о политике; чтобы мы могли усилить и развить германскую культуру, нам требовалась прежде всего политическая независимость от западных держав. Никакая политика, стремившаяся к образованию окраинных государств, не могла хотя бы приблизительно гарантировать эту независимость столь же крепко, как всемерное поддержание согласия Германии с великими не англо-саксонскими державами Востока.
Однако вопреки всякому историческому смыслу среди ликования германской демократии, которую ничто не может научить, Бетман увенчал себя славой освободителя поляков. Я не знаю, что побудило его к этому сильнее – ошибочное ли суждение об английской политике, или желание добиться успеха и умение поляков льстить слабостям немцев{104}. В будущем я не видел для нас никакой угрозы даже и в том случае, если бы Российская империя вновь достигла былого могущества. Опасность возникла бы лишь в том случае, если бы нас отрезали от нашей заморской торговли, которой кормилась почти треть немцев, а невозможность вернуть себе наше положение в мировом хозяйстве обрекла бы нас на ужасное обнищание. Даже если бы предположения Бетмана оправдались и нам удалась бы военная экспансия на Восток, ничто не смогло бы вознаградить нас за изгнание Германии с морей, которое Англия ставила себе целью. С какими угодно русскими людьми, даже и с Керенским я постарался бы ценою значительных уступок заключить любое соглашение, которое действительно развязало бы нам руки против другой стороны. Я не знаю, найдется ли в мировой истории пример большего ослепления, чем взаимное истребление русских и немцев ad majorem gloriam{}an» англо-саксов.
Во всяком случае не следовало брать сторону поляков, не требуя от них ответных услуг. Чего только не приходится делать другим нациям мира за то, что англо-саксы берут на себя труд господствовать над ними; мы же ничего не требовали от поляков даже за их освобождение.
Вплоть до 1887 года германский и русский флоты чувствовали себя почти братьями по оружию. Когда охлаждение политических отношений сделало невозможным дальнейший обмен ценной информацией, я все же вопреки господствовавшей идее войны на два фронта продолжал поддерживать хорошие отношения с русским флотом, оказывая ему услуги, которые не могли повредить нам самим.
Все предлагавшиеся нам изобретения, в полезности которых я не был уверен, переправлялись мною в Петербург, где с жадностью хватались за всякую новинку. Там строили так, как будто хотели извлечь белый цвет из всех цветов радуги. Горячее желание русского морского командования превратить свой флот в какой-то конгломерат изобретений отнюдь не пошло ему на пользу. Я неоднократно делал царю различные намеки, которые сводились к следующему: Пусть его величество не выслушивает столько советов; нужно найти человека, которому можно было бы предоставить полную самостоятельность; без этого невозможно внести систему в историю. Высокое доверие, которое царь оказывал немецким офицерам, особенно Гинце, было ценным политическим капиталом, который мы, однако, не сумели использовать, как это сделали бы Штейн и Бисмарк. Не использовали мы в достаточной мере и тот факт, что после отозвания Гинце у царя остался согласно древней традиции прусский флигель-адъютант.
После победы над Россией Япония испытывала большие финансовые затруднения, ибо личное упорство царя и посредничество американцев, за спиной которых ловко укрывалась английская дипломатия, лишили и без того бедную империю ожидавшегося ею возмещения военных расходов. Я слышал из разных источников, что в период между 1905 и 1914 годами Германия не раз могла достигнуть соглашения с Японией, предоставив ей заем. Личные впечатления от встреч с японскими государственными деятелями, с которыми я поддерживал дружественные отношения, заставляют меня признать эту возможность весьма вероятной, и я уверен, что Япония не раз пускала в этом направлении пробные шары, которые наша дипломатия не заметила или не решилась заметить из страха перед англо-саксами. Правда, постичь политическую психологию Японии нелегко.
Если бы вместо того, чтобы разыгрывать из себя того пострела, который везде поспел, мы уяснили себе истинное соотношение сил, на котором зиждется мировая политика, то возможно, что с помощью Японии нам удалось бы вообще устранить возможность мировой войны. Еще в 1915 году и даже в 1916 году Япония одним жестом могла положить конец войне, если не придать ей благоприятный для нас оборот. Но для этого было необходимо столковаться с Россией и обратить главный фронт против англо-саксов. Нам следовало искать союза на жизнь и на смерть с великой державой Азии. Пока руководители империи наносили в войне политические удары России и открыто старались установить тесные отношения с Англией, невозможно было ожидать перехода Японии на нашу сторону. Когда мы склонились перед угрожающими нотами Вильсона, Япония, разумеется, оставила мысль войти с нами в соглашение.
Японцы властолюбивы и алчны. В этом отношении они являются первобытным народом. Но теперь, когда они достигли господствующего положения в Восточной Азии, для них было бы глупостью ссориться с Америкой из-за тихоокеанских островов или расовой чести. Главным спорным вопросом останется Китай, рынок которого Америка не позволит отнять у себя, хотя японцы надеются установить над ним свое господство, как это сделали когда-то маньчжуры. Не думаю, чтобы японцы считались с возможностью пробуждения Китая в ближайшем будущем. Они захотят так крепко забрать Китай в свои руки, чтобы он не только перестал быть для них опасным, но сделался, напротив, полезным.
Если бы японцы не были близорукими политиками, они поняли бы, что соглашение с англо-саксами в конечном счете не принесет им никакой пользы и что их могущество будет покоиться на глиняных ногах, пока они не сделают всего от них зависящего, чтобы на случай столкновения с Америкой обеспечить себе наиболее выгодное международное положение. Сепаратный договор, который Япония заключила с царем в 1916 году, показывает, впрочем, что ее государственная мудрость искала опоры повсюду, где можно было предполагать решимость занять твердую позицию по отношению к англо-саксам. После того как Германия и Россия обратили друг друга в развалины, возможность заключения германо-русско-японского Тройственного союза, который обеспечил бы свободу всего мира, конечно, исчезла, и по крайней мере на ближайшее время Японии придется самостоятельно заняться решением огромных задач, которые она на себя взвалила. Будущее всех неангло-саксонских держав является проблематичным.