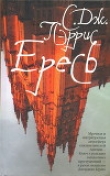Текст книги "Джордано Бруно"
Автор книги: Альфред Штекли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Жан Эннекен старательно готовился к диспуту. Бруно помогал ему составлять вступительную речь.
Послушать диспут собралась пестрая и шумная толпа: студенты, профессора, монахи и миряне, сановники, придворные. Вначале слово было предоставлено Эннекену.
– Высокочтимые ученые господа! Привычка верить, говорит Аристотель, есть главнейшая причина, мешающая человеческому рассудку воспринимать очевидные вещи. Как велика власть этой привычки, доказывают законы, для коих басни и наивные обычаи намного важней, чем факты.
Только отказавшись от предубеждений, – продолжает Эннекен, – можно увидеть истину. В споре веры и разума судьей должен быть рассудок. Чтобы вырваться из плена предвзятых мнений, надо тщательно взвесить все: и то, что представляется неопровержимым, и то, что кажется сомнительным. Как бы истина ни ускользала от разума и чувств, как бы ни страшилась она их прикосновения, люди непременно ее увидят.
Повсюду самонадеянные софисты и мракобесы освистывают верные воззрения. Надо долго собираться с силами, чтобы пойти на приступ столь укрепленных цитаделей Аристотеля и вызволить истину, заточенную в глубоком подземелье. Как день приходит на смену ночи, так в мире мысли на смену заблуждению должна прийти истина. Ведь это Аристотель сказал: необходимо, чтобы не единожды и не дважды, а бесконечно возвращались те же самые воззрения.
Учение Ноланца уходит своими корнями в далекое прошлое. Он не приписывает себе больших заслуг и не претендует на какую-то особую оригинальность. Его укоряют, что он выступает поборником новых мнений. Однако если обвинители захотят приглядеться внимательней, то поймут, что не существует старых мнений, которые однажды не были новыми. Сейчас многие взгляды, защищаемые Ноланцем, вызывают лишь пренебрежение: они, мол, не подтверждаются авторитетом древности, а ведь было время, когда эти взгляды одобрялись всеми знатоками природы. Нет раба, который не происходил бы от древних царей, и нет царя, который не происходил бы от древних рабов – время все перемешивает и все изменяет!
Идеи Ноланца не погибнут. Из невзрачного корня вырастет мощное дерево и принесет драгоценнейшие плоды. Тяжка дорога к истине, и мало тех, кто на нее вступает, но добравшемуся до вершины откроется чудесный вид.
С пылким задором излагал Эннекен мысли своего учителя. Бруно и его последователей хулят за то, что они откололись от школы Аристотеля и покинули толпу вульгарных философов. Как же можно ставить им это в вину, если Аристотелю прощают, что он изменил истине и отступился от великих отцов науки? Заблуждения прокладывали себе путь с помощью софистики и легковерия. Так почему же считают дерзостью стремление здравыми доводами, подкрепленными голосом природы, предвозвестить торжество истины? Разве дерзость отвергать то, что ложно?
Часто ценнейшие мысли кажутся абсурдными, пока их разглядывают в кривом зеркале веры и предубеждений. Когда же устранен этот лживый посредник, истина являет себя в полной красе. Чем сильнее будут подавлять истину, тем в конце концов с большей силой вырвется она на свободу.
– Пусть, коль угодно, объявляют наши положения заимствованными у Лукиана, пусть говорят, что мы плывем против течения авторитетнейшей и благороднейшей философии, пусть издеваются над горсткой тех, кто с нами, заодно. Подобными доводами нельзя доказать, что мы, находясь в меньшинстве, безумны, а они со слишком многими – мудры!
Эннекен говорил хорошо. Недаром Бруно потратил много времени, когда помогал ему готовиться к выступлению. Но никакое красноречие не могло рассеять атмосферы враждебности. Большинство присутствующих не скрывало своей неприязни к Ноланцу. Все громче и злее становились выкрики. Эннекену часто приходилось повышать голос.
– Какая нам польза, что толпа считает нас здоровыми, если мы в действительности хворы? И велик ли вред, если нас считают больными, когда мы на деле здоровы?
Его постоянно перебивали. Но он продолжал. В правоте Ноланца он уверен, хотя тот и стоит почти в одиночестве, ненавидимый тьмою невежд, – за ним лишь скупые высказывания древних, давно забытых философов. А на противоположной стороне столпы науки, на протяжении веков повелевавшие музами, да их бесчисленная свита. Среди перипатетиков, хотя они и выступают под одним знаменем, нет единства: там, где толпа не движима общим денежным интересом и не обуздана страхом понести убыток, каждый ценит только собственное мнение и считает всех, кроме себя, дураками. Подобного не заметишь среди людей, окружающих Ноланца, и, как их ни называй: приверженцами его или даже сектантами, число их постепенно растет.
Эннекен повторяет, что распространенность того или иного мнения еще не свидетельство его правильности. В науке только низкий ум спешит соглашаться с толпой лишь потому, что она составляет большинство. Сам себя обманывает тот, кто слепо верит. Можно ли, не будучи убежденным, что-нибудь одобрять, когда столь мало нужно, чтобы погас как и свет нашей совести, так и свет науки? Куда большее счастье служить истине и не соглашаться с господствующим мнением, чем прислуживать ему, идя наперекор правде.
Не напрасно человек наделен зрением. В угоду фиглярам и невеждам он не должен смыкать веки и быть неблагодарным к природе, пренебрегая разумом, коим она его одарила. Следует ли отказываться от способности познавать – бежать, так сказать, от самих себя? Нет, с пафосом отвечает Эннекен, пытливый человеческий взгляд – залог достоверных знаний, которые создают новую картину мира! Перед ней же распадутся в прах все суеверия и софизмы.
На высокой кафедре, разгоряченный речью, стоит Эннекен, чуть поодаль на другой кафедре, меньшего размера – Бруно, внимательный и сосредоточенный.
– Дух человеческий, – продолжает Эннекен, – был прежде заточен в теснейшее узилище, откуда мог только через щели глядеть на небо. Но, осознав собственное могущество, он отваживается на полет в бесконечность. Рушатся сферы, придуманные безумием философов и математиков. Исследования, которые ведутся одновременно чувствами и разумом, несут прозрение слепцам. Учение о бесконечности и единстве вселенной дает нам истинное представление о природе. Если бы человек оказался на Луне или на каком-нибудь другом небесном теле, он нашел бы целый мир, который был бы хуже или значительно лучше нашего, – один из неисчислимых миров, движущихся в неизмеримом море эфира. Разум человеческий не сдавлен больше оковами фантастических сфер!
Он, Эннекен, убежден, что эти мысли в конце концов восторжествуют, хотя сейчас их повсюду и встречают хулой. Слепые не различают света, и если зрячий видит солнце, то надо ему верить. Никогда глупцы, сколько бы их ни было, не заменят одного мудрого.
– Так дозвольте, – воскликнул Эннекен, – по крайней мере сомневаться в правильности обычных представлений, пока не обсуждены еще наши взгляды! И пусть нам в этом не мешают выученики Аристотеля, которые чем больше уступают в проницательности своему наставнику, тем сильнее восстают против наших воззрений!
Большинство тех, кто участвует в публичных диспутах, – говорит Эннекен, – стремятся скорее победить и прославиться, чем обрести в споре истину. Я же выступаю с другой целью. Хочу, чтобы из нашего диспута каждая сторона вынесла назидание. В серьезных диспутах нередко бывает, что те, кто вначале увяз в величайших заблуждениях, постепенно от них исцелялись.
Эннекен призывал отказаться от предубеждений и посмотреть на мир глазами разума. Ноланец явился сюда, чтобы узнать, какими доводами можно его опровергнуть. Ничто так не вредит науке, как уверенность, что всё уже известно. Поэтому многие высокомерные ученые не терпят возражений и не углубляются в исследования. Согласимся на время, будто мы ничего не знаем и можем здесь кое-чему научиться. Попытаемся переубедить противника, тщательно взвесим его аргументы и по совести или укрепимся в своих взглядах, или вскроем их ложность.
Он призывал к объективности, а в ответ ему неслись оскорбительные реплики.
– Каждому должна быть предоставлена, – Эннекену трудно было перекричать шум, – свобода слова согласно принципу: «Выслушайте и другую сторону!» Поэтому прошу вас, высокоученые господа, при рассмотрении тезисов не выступать в роли людей пристрастных и фанатичных, а быть справедливыми судьями, чтобы не столь красноречием и пылом, сколь весомостью аргументов подтвердить ваше собственное мнение или разбить противоположное!
Когда Эннекен кончил и гул возмущенных голосов затих, воцарилось молчание. Кто встанет на защиту Аристотеля и сокрушит дерзкие тезисы Ноланца? В первых рядах сидели с каменными лицами университетские профессора. Вздорный король разрешил диспут, но это вовсе не значит, что кто-либо из уважаемых ученых снизойдет до спора с безбожным философом. Многозначительным и долгим было молчание. Наконец на кафедру поднялся какой-то молодой человек. Это был Рауль Кайе, адвокат. Он начал свою речь вызывающе развязно. Почему никто из профессоров не пожелал выступить? Да потому, что все они находят Ноланца недостойным ответа!
Кайе изощрялся в оскорбительных выпадах против Бруно. Он считает своим долгом оградить Аристотеля от клеветы, которую возводит на него Ноланец. Велеречивый адвокат говорил очень длинно. Воистину чем меньше доводов, тем пространней речи! Он приводил известные всем Аристотелевы тексты, обильно цитировал его толкователей, блистал эрудицией. Достойный выученик парижских схоластов! Его подбадривали приветственными возгласами и аплодисментами. Молодчина, Кайе!
Странные вещи происходят на этом публичном диспуте! С бранью по адресу Бруно выступает не какой-нибудь отъявленный приверженец Лиги или рьяный кальвинист, а один из «политиков» – тот самый Рауль Кайе, что, очаровавшись «Надгробным словом» Дюперрона, посвятил ему сонет. Дюперрон не имел ничего против, чтобы его считали духовным наследником Ронсара. Благоволение этого влиятельного вельможи позволило Кайе отказаться от адвокатских занятий. Разве без ведома своего покровителя он бы осмелился нападать на Ноланца? Или, может быть, и само разрешение на диспут было дано не без задней мысли? Венсеннская академия мстила человеку, который с явным вызовом называл себя «Академиком ни одной из академий»? Видно, ноланская философия была и для «политиков» слишком радикальной!
Длинная речь Кайе веских аргументов не содержала, но изобиловала грубостями. Оратор лез из кожи вон, чтобы заставить самого Бруно ввязаться в спор. Но тот не поддавался. Волнуясь, стоял он на своей кафедре и слушал. Юнец, ничего не понимающий в философии, под одобрительные возгласы присутствующих называл Бруно суетным бахвалом, который злонамеренно оболгал Аристотеля. По существу представленных тезисов ничего сказано не было. А профессора, ответившие на положения Ноланца презрительным молчанием, теперь изо всех сил поощряли издевательские наскоки Кайе.
Они старались истощить его терпение. Но Джордано устоял. Отвечать Кайе он предоставил Эннекену. Бруно хорошо знал условия диспута и видел, чего добиваются враги. Вступать в спор он имел право только в том случае, если бы его ученик оказался припертым к стенке. Тезисов Ноланца Кайе ни в какой степени не поколебал. Поэтому брать самому слово значило признать неспособность Эннекена и умелость его оппонента.
Без особого труда Эннекен разбил аргументацию противника. Это вызвало новый взрыв злобы. Ему не давали говорить. Такой ответ их не удовлетворяет! Пусть, наконец, раскроет рот его отмалчивающийся наставник!
Кайе снова вызывающе и нагло кричал с кафедры. Пусть Ноланец не прячется за спину своего ученика, а отвечает сам! Со всех сторон на Бруно сыпались оскорбления. Вот вам и ученый диспут в первом университете мира, долженствующий разрешить важнейшие философские проблемы!
Джордано повернулся и пошел к выходу. Вдогонку ему несся рев возмущения. Многие повскакали со своих мест. Он не успел выйти, когда его окружила беснующаяся толпа. Школяры, науськанные профессорами, преградили ему дорогу. Они заставят его отречься от клеветы, которую он возвел на Аристотеля!
С великим трудом удалось Ноланцу вырваться из их рук.
Глава четырнадцатая В Германии

Когда-то он шутливо писал о Германии как о стране беспробудных пьяниц, «милой и славной стране, где щитами служат тарелки, шлемами – кухонные горшки и посуда, мечами – кости, воткнутые, точно в ножны, в соленое мясо, стране, где погребков, харчевен и трактиров больше, чем самих домов». Но Бруно знал, что у немцев есть много ученых, хорошие университеты, превосходные типографии. Поспешно уехав из Парижа, он направился в Германию.
После заключения Аугсбургского религиозного мира, положившего конец долгим войнам между католиками и протестантами, в немецких землях воцарилось относительное спокойствие. Принцип «чья страна, того и вера» восторжествовал: территориальные князья добились полной независимости в вопросах религии. До подлинной терпимости было еще очень далеко, религиозная борьба продолжалась, но теперь по крайней мере фанатичные правители не бросали в сражения полки наемников, чтобы утвердить истинность своей веры.
Около двух недель Бруно провел в Майнце. Ни там, ни в лежащем поблизости Висбадене заработка он не нашел и поехал дальше. В Марбурге, в университете, его вначале приняли хорошо. 25 июля 1586 года ученый-юрист Петр Нигидио, недавно избранный ректором, внес его имя в университетские списки. Но едва Бруно объявил о своем намерении читать публичные лекции по философии, как ему тут же ответили отказом. Философский факультет разрешения на лекции не дал. Что произошло? Кого испугала его громкая слава? Кто-то разведал о его прежних столкновениях с защитниками общепринятых мнений? Подняли голос церковники? Чем объяснить это внезапное запрещение? Ему отвечают: «серьезными причинами». А что это за причины?
Джордано явился в дом к ректору и потребовал объяснений. Тот попытался юлить. Бруно возмутился. Хорош же ректор, который позволяет нарушать элементарные права иностранцев-ученых, поступает вопреки всем традициям германских университетов и совершенно пренебрегает высочайшими интересами науки! Нет, членом такой академии Ноланец больше не желает числиться!
Разгневанный, он тотчас же уехал из Марбурга. Теперь путь его лежал в Саксонию. Виттенберг, оплот лютеранства, славился своим университетом.
В Виттенберге Бруно повезло. Он встретил профессора Альбериго Джентиле, которого хорошо знал в Англии. Тот прибыл к саксонскому курфюрсту с дипломатическим поручением и остался преподавать. Джентиле помог Бруно обосноваться в университете. Ему разрешили прочесть курс по «Органону» Аристотеля.
В то сырое октябрьское утро туман, как назло, долго не поднимался. Сидней нервничал. Год в Нидерландах был не из легких. Лестер, милый дядюшка, оказался на редкость бездарным полководцем. Одержимый честолюбием, он делал глупость за глупостью, мало думал о войне, наслаждался пирами и празднествами, щедро одарял актеров и не выплачивал солдатам законного жалованья. Среди союзников царил разброд. Меж тем испанцы захватывали одну крепость за другой. Англичане не снимали осады Зютфена в надежде, что голод заставит гарнизон сдаться. И вот теперь под прикрытием тумана испанцы двинули к городу обоз с провиантом и отряд пехотинцев. Им ни за что нельзя позволить добраться до ворот Зютфена!
Сидней поскакал в поле. Когда туман рассеялся, картина, открывшаяся взору, не предвещала ничего хорошего. Противник явно превосходил те небольшие силы, которыми располагали англичане. Но Филипп решил нападать. Битва обещала быть жаркой. Увидев, что друг его из-за недавнего рачения носит только легкие латы, он снял с себя часть доспехов. Опасность для всех должна быть равной!
Филипп бесстрашно бросился на врагов и показал образец отваги. Под ним сразили коня. Он еще мечтал о победе, когда пуля раздробила ему бедро, укрытое прежде бронею. Сидней думал не о ране – его тревожил исход сражения. Смелость не принесла англичанам успеха. Испанцы со своим обозом пробились в Зютфен.
Рану вначале сочли неопасной. Филиппа из-за потери крови томила жажда. Он попросил пить. Поднесли фляжку. Неподалеку стонал умирающий солдат. «Отдайте воду ему, – сказал Филипп, – он страдает сильнее меня!»
Гангрены избежать не удалось. Но и на смертном одре Филипп не потерял присутствия духа. Превозмогая боль, он еще две недели сочинял стихи и беседовал о любимом Платоне.
Останки его привезли на родину. Похороны были обставлены с необыкновенной пышностью. Заслуги Сиднея превозносили до небес. Торжественность траурных церемоний кое-кому из маловеров казалась нарочитой. Только что Марии Стюарт отрубили голову. Теперь с великой помпой хоронят героя, погибшего на королевской службе. Чего это ради Елизавета велела посмертно так чествовать Филиппа Сиднея? Не для того ли, чтобы распалить патриотические чувства своих подданных накануне решающих схваток с испанцами?
Кумиром Виттенберга был не Стагирит, а Лютер. Духовный вождь немецких протестантов, теолог до мозга костей, он пренебрежительно отзывался о философии и Аристотеля величал Дуристотелем. Поэтому лютеране не питали особой непримиримости к критике Аристотелевых учений. Бруно не замедлил этим воспользоваться, чтобы, продолжая полемику с перипатетиками, распространять свои собственные взгляды. Круг его преподавания расширился. От лекций по логике Аристотеля и Луллиеву искусству он перешел к лекциям по философии. Уделял много места математике и физике, пропагандировал учение Коперника. Слушать его приходили и профессора. Аудитории, где он читал, были всегда полны. Многие студенты с энтузиазмом воспринимали его идеи. Среди окружавших его учеников были немцы из разных частей Германии, венгры, силезцы. Когда Ноланец читал философию, другие аудитории оставались почти пустыми. Курс его приносил весьма заметные результаты: лекции по богословию посещались плохо. Студенты приходили на них с опозданием или по принуждению.
Начались интриги. Недоброжелатели и завистники не останавливались перед клеветой. Бруно сдерживался. Но долго они еще будут искушать его терпение? Его занятия в университете шли своим чередом. Недовольство, высказываемое у него за спиной, не привело к запрещению лекций. А ситуация в Виттенберге не очень-то благоприятствовала каким-либо проявлениям вольнодумства. Преемник курфюрста Аугуста, Христиан I, погряз в беспробудном пьянстве. Власть в Саксонии все больше прибирал к рукам его родственник, Иоганн Казимир, отъявленный кальвинист и деспот. Он ненавидел всякие мудрствования и считал, что даже выступления богословов-лютеран против доктрин Кальвина не должны быть терпимы.
Сравнительно хорошее положение, занимаемое Бруно в университете, избавило его от необходимости искать случайных заработков. Он имел возможность отдавать много времени новым трудам. Замысел его был огромен: учения свои он хотел изложить в нескольких написанных по-латыни философских поэмах. Лукреций служил ему образцом. Изданные прежде итальянские диалоги имели ограниченный круг читателей. Если он хотел познакомить ученых разных стран Европы со своими идеями, то писать ему следовало по-латыни.
Поэму «О безмерном и неисчислимых или о космосе и мирах» он начал еще в Лондоне. Речь шла не о том, чтобы передать латинскими стихами мысли прежних сочинений. Если в диалогах «О бесконечности, вселенной и мирах», споря с Аристотелем, он основывался главным образом на собственных философских соображениях и выводах, полученных в результате изучения Коперника, то теперь он расширил свои аргументы, опираясь на новейшие успехи астрономии. К умозрительным доводам прибавились факты, добытые опытным путем.
Разумеется, Бруно и здесь самым подробным образом разобрал все аргументы перипатетиков, выдвинутые против мысли о бесконечности вселенной и множественности миров. Он не только опровергал доводы Аристотеля, но и его латинских и арабских комментаторов.
В Виттенберге оживленно обсуждали успехи астрономии. Переписка с учеными Кассельской обсерватории и Уранибурга позволяла узнавать о результатах наблюдений задолго до их опубликования. Бруно с огромным интересом относился к работе Вильгельма Гессенского и Христофора Ротманна, Тихо Браге и его помощников. Он называл Браге князем астрономов. Бруно был в курсе той полемики, которая развернулась вокруг вопроса о новых звездах и кометах. Он испытывал большую радость – наблюдения виднейших астрономов Европы подтверждали правильность его учения о вселенной!
В ноябре 1572 года в созвездии Кассиопеи была замечена новая яркая звезда. Исследования Тихо Браге показали, что она находится намного дальше от Земли, чем Луна. Ее было видно шестнадцать месяцев, потом она исчезла. Один из помощников Тихо; Браге осенью 1585 года опять обнаружил новую звезду. Противопоставление неба земле привело Аристотеля к тому, что он разделил вселенную: находящееся выше Луны объявил вечным и нетленным, а существующее в «подлунном мире» – подверженным изменениям и гибели. Но можно ли было теперь, следуя за Стагиритом, уверять, что изменения происходят только в «подлунном мире», а небо всегда остается одним и тем же? Выходит, и в области фиксированных звезд не все вечно? Там довольно часто появляются и исчезают неведомые прежде небесные тела.

Венеция. Дворец дожей.

Венеция.
Еще в Англии в диалогах «О бесконечности, вселенной и мирах» Бруно критиковал учение Аристотеля о кометах. Тот относил кометы и метеоры к «подлунному миру» и отвергал возможность их космического происхождения. Бруно же считал кометы небесными телами и подчеркивал, что они не движутся вокруг Земли, а обладают своим собственным движением. Благодаря этому комета, будучи своего рода звездой, «приближается к нам и отдаляется от нас, и, по мере того как она приближается, нам кажется, что она растет и как бы вспыхивает, по мере же того как она отдаляется, нам кажется, что она уменьшается и как бы гаснет». Вопрос о природе комет Бруно обещал разобрать подробнее, и теперь он выполнил обещание, использовав новые факты. Тихо Браге, наблюдая за кометой 1577 года, доказал, что она двигалась за пределами «подлунного мира». Это, по мнению Бруно, совершенно опровергало мысль Аристотеля, будто кометы и метеоры рождаются в верхних слоях атмосферы.
Одну из глав поэмы Джордано посвятил восторженному прославлению Коперника. Вспоминал, как в юности держался доктрин, защищаемых целой когортой ученых разных народов. Вспоминал, как усомнился в правильности общепринятых взглядов и как с помощью математики смог оценить Коперниковы аргументы. С великой радостью узнал он тогда, что Коперник тоже был увлечен пифагорейским учением о движении Земли!
Бруно писал о бесконечности вселенной, а то и дело вспоминал маленькую деревушку поблизости от Нолы, Счастливую Кампанью, годы детства. Везувий щитом огромного своего тела отечески защищает любимый край от вторжения суровых ветров. Прекрасная Чикала ведет спор с могучим Везувием…
Душою изгнанник был на родине. Мечта о благословенной Италии скрашивала годы, прожитые под чужим небом.
Луллиево искусство и в Виттенберге находило горячих поклонников. Лекции Бруно собирали большую аудиторию. Они частично вошли в два подготовленных к печати трактата «О Луллиевом комбинаторном светильнике» и «О движении вперед и ловчем светильнике логиков».
Движение вперед – это погоня за истиной. Мир познаваемого – это огромный, труднопроходимый лес, человеческий разум – охотник, убегающая лесная дичь – истина. Логика – великолепное оружие при охоте за истиной!
Обе эти работы были изданы в 1587 году. Первой из них было предпослано пространное обращение к ректору и сенату Виттенбергского университета. Он не хочет быть неблагодарным. Здесь его с самого начала приняли как коллегу, с таким гуманным радушием, что он никогда не чувствовал себя чужаком. Бежавший из Франции из-за волнений, он явился сюда без княжеских рекомендаций, без громкого имени, без каких бы то ни было знаков почета. Его не спросили Даже, какого он исповедания. Это так не вяжется с обычаями варварски нетерпимых педантов из-за которых ire только небо, но и земля, место общения всех людей, или совершенно закрыты для иноверцев, или открыты на тяжелых и унизительных условиях.
Им же было достаточно преисполняющего Ноланца духа человеколюбия и звания философа, чтобы включить его в состав академии, разрешить и частное преподавание и публичные лекции. Это тем более удивительно, что он сообразно с темпераментом, из любви к своим мыслям часто излагал многое такое, что отвергалось не только ценимыми в Виттенберге философами, но и на протяжении столетий почти всем светом.
Здесь не привыкли отводить философии видного места и больше пекутся, чтобы в ее изучении блюлась бы мера. Здесь не любят, когда студенты увлекаются новизной. Да и философию рассматривают как часть физики, которая скорее согласуется с католической теологией, чем с христианской простотой и набожностью, ценимой превыше всего.
Тем поразительнее их отношение к нему! Он проповедовал мысли, которые прежде в Тулузе, Оксфорде и Париже встречались криками и шумом, мысли до сих пор не признанные, на первый взгляд пугающие и абсурдные.
Но здешних университетских мужей, правда, всегда сильнее заботила благочестивость, чем философские искания. Они считают неподобающим, чтобы студенты долго задерживались в сенях философии и из-за этого совсем не появлялись в храме богословия или появлялись против воли. А это легко случится, если восторжествуют новые учения и люди попытаются искать непроторенные тропки.
Однако достохвальные виттенбержцы не уподобились иным варварам, не выказали презрения, не скалили зубы, не колотили крышками пюпитров, не напускались на него с яростью схоластов. Какая гуманность! Их поведение – воплощение мудрости. Они ничем не запятнали своего гостеприимства и дозволили академическим свободам сверкать в полном блеске. Радушию они не изменили. Интриги клеветников были напрасны. Чем он, несчастный, может их отблагодарить? Воздаст им по-настоящему за их добро только господь на небесах, он же, Ноланец, в состоянии принести им лишь скромный дар – свой вклад в «искусство изобретения».
Поименно обращался Бруно к профессорам, напыщенных слов не жалел, для каждого находил звучные обращения, яркие комплименты, громкие эпитеты.
Ректора как председателя высокого сената поспешил заверить, что Ноланец не так уж глуп, дабы считать свою книгу достойной внимания столь благородной компании. Пусть примут только его посвящение. Работу свою он преподносит им не для серьезной оценки. Он будет доволен, если они, лишь взглянув на титульный лист, тут же отложат в сторону его сочинение, этот знак его почтительной благодарности.
Налет иронии был чуть ли не в каждой фразе. В ту пору и в похвале и в поношениях не знали меры. Преувеличения никого не удивляли. Панегирики звучали иногда как пародия. Легко ли приметить ту грань, где искреннее восхищение, вылившееся в потоке безудержных восхвалений, обращается в свою противоположность, а похвальное, слово звучит опаснее иного осуждения?
Он использовал любую возможность, чтобы будить дремлющие души. Даже в лекциях, посвященных Луллиеву искусству, говорил о вечности мира и бесконечности вселенной. Мог ли он не вызвать неприязни у людей, которые высмеивали Коперника и отказывались признать реформу календаря?
Бурный исход диспута в Коллеж де Камбре, разумеется, не отбил у него охоты и дальше настаивать на правильности своих воззрений. Еще в Париже он заявлял о желании познакомить со своими взглядами «все академии Европы». Теперь он работал над книгой, в основу которой были положены «Сто двадцать тезисов о природе и мире». Он снабдил их развернутой аргументацией. Поместил там же письмо к Генриху III, к Филезаку и текст вступительной речи Эннекена. Брошюрка превратилась в целую книгу. Он дал ей замысловатое заглавие: «Камероценский акротизм» [13]13
Акротизм – изложение научных взглядов. Камероценский – то есть имевший место в Коллеж де Камбре.
[Закрыть].
Обстановка в Виттенберге накалялась. Воинственные кальвинисты набирали в Саксонии все больше силы. Борьба партий обострилась до крайности. Она затронула и университет. Люди, которые благоволили к Ноланцу, теряли влияние. Тон начинали задавать кальвинисты, совершенно нетерпимые к новым идеям. Бруно стал подумывать об отъезде.
8 марта 1588 года он обратился к Виттенбергскому университету с «Прощальной речью». Он превозносил до небес успехи просвещения и призывал не считать больше немцев варварами. Они весьма продвинулись вперед в культуре и образованности. Мудрость, обитавшая когда-то среди египтян, халдеев, греков, обрела теперь в Германии новую родину.
Он воздавал должное светлым умам. Кто может сравниться с Николаем Кузанским? Тот превзошел бы самого Пифагора, если бы ряса не мешала его гению!
Бруно отметил большой интерес к астрономии, разделяемый многими людьми, в том числе и императором Рудольфом. С великой похвалою отозвался о наблюдениях ландграфа Вильгельма Гессенского. Конечно, не мог обойти молчанием и разумнейшего Коперника, который в немногих главах сказал больше о природе, чем Аристотель и все перипатетики, вместе взятые!
Не упустил Бруно случая обрушиться и на католическую церковь. Он в высокопарных выражениях возвеличивал Лютера за то, что тот осмелился восстать против римского чудовища, которое своим ядом отравляло весь мир.
Не пожалел выспренних фраз, чтобы прославить лучший в Германии Виттенбергский университет.
Почти два года тут внимали его диковинным лекциям, хотя он и казался им безумцем. Вот и теперь ему оказана величайшая честь: не только студенты, но и высокоученые доктора почтили его своим присутствием. Им, светочам науки, звездам на ее небе, высказывает он свою признательность.
Он прощался с лесами, где любил размышлять, и реками, по берегам которых бродил…
Вслед за «Прощальной речью» виттенбергский типограф Захарий Кратон выпустил в свет и «Камероценский акротизм». «Прощальная речь» могла оставить впечатление, что Бруно, собираясь уезжать, испытывал чувство благодарности и даже грусть. Но по собственной ли воле покинул он Виттенберг? После того как он усладил виттенбержцев риторическими красотами своей «Речи», произошли события, изменившие весьма существенно картину идиллического расставания. И, вероятно, не последнюю роль в этом сыграло издание «Камероценского акротизма».
Джордано предпочитал не разглагольствовать об истинных мотивах отъезда. Но пять лет спустя человек, с которым Бруно был близко знаком, вспоминал, что слышал в Германии, будто Ноланец, слывший еретиком, хотел из своих последователей учредить философскую секту в Саксонии и был оттуда изгнан.