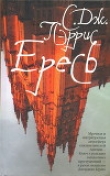Текст книги "Джордано Бруно"
Автор книги: Альфред Штекли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
На смену религиозному мировоззрению должна прийти законченная философская система, которая ответит на коренные вопросы бытия. Ноланская философия и призвана вызволить людей из тьмы предрассудков. Она станет философией рассвета возвестит о приближении времени, когда будет сокрушена власть нелепой религии и наука сделает человеческие души воистину героическими.
Веками идея бога была прикрытием всякого незнания. Любое непонятное явление легче всего было приписать непостижимым действиям божества. Вера в существование бога давала возможность хоть как-то осмыслить окружающий мир. Господь создал все, движет всем, повелевает всем. Бог – начало и причина всего.
Еще в юности Джордано отказался от мысли о творце и верховном распорядителе вселенной. Ссылки на движущую всем потустороннюю силу казались, ему примитивными. Мир должен быть объяснен, исходя из присущих ему внутренних законов. Джордано был многим обязан греческим атомистам и учению Николая Кузанского о совпадении противоположностей. Они помогли ему найти те основные принципы, которые стали краеугольными камнями ноланской философии.
Люди, полагал Бруно, не поймут окружающего бытия, если будут постоянно противопоставлять телесное духовному, материю – душе, живую природу – неживой. Природа едина. В основе всего лежит одна и та же первичная субстанция. Заблуждаются философы, думающие, что некое духовное начало, стоящее над материей, извне формирует ее. Они принижают материю. Однако в ошибку впадают и те, кто говорит, будто формы – это лишь акциденции материи: они принижают жизненное начало, присущее первичной субстанции. Эта основа основ, первичная субстанция, немыслима как без материи, так и без жизненного начала. Жизнь наполняет всю материю. Все, что существует, обладает жизнью, душой или по крайней мере жизненным началом. Это неотделимое от материи и находящееся во всех вещах жизненное начало Бруно называет «душою мира». Бруно предостерегает против вульгарного истолкования его мысли:
«…Ни стол как стол не одушевлен, ни одежда, ни кожа, ни стекло как стекло; но как вещи природные и составные они имеют в себе материю и форму. Сколь бы незначительной и малейшей ни была вещь, она имеет в себе части духовной субстанции…»
Прежде Бруно склонялся к мнению, будто формы не что иное, как лишь случайное расположение материи. Но теперь он думает не так: «Необходимо признать в природе два вида субстанций: один – форма и другой – материя…»
Один из двух видов субстанции, субстанциальная, или всеобщая, форма, и есть душа, находящаяся в каждой вещи. Материя и душа являются постояннейшими началами. В мире все непрестанно меняется: одни материальные формы разрушаются, а другие возникают, первичная же субстанция всегда остается той же.
Вселенная не хаотическое смешение преходящих форм, которые случайно обретает материя, это удивительно согласованное целое, где все подчинено известному порядку и закону.
Христианскому богу, творцу и верховному повелителю мира, нет места в ноланской философии. Коренное отличие ноланской философии как раз и заключается в том, что Бруно отрицает всякое вмешательство какой-либо потусторонней силы в дела природы. В понятие «души мира» он вкладывает смысл, противоположный «божественному началу» теологов. Материя не формируется извне, она изнутри обретает форму посредством того жизненного начала, которое находится в неразрывном единстве с материей и образует вместе с ней первичную субстанцию.
Богословы говорят, что бог вдохнул душу, бог дал жизнь. Они понимают под душой нечто привнесенное извне. Бруно же не устает повторять, что «душа мира» заложена в самой первооснове всего сущего, она в конечном итоге и причина и начало всех вещей.
Все порожденное, порождающее и то, из чего происходит порождение, всегда принадлежат к одной и той же субстанции. Хотя в природе, настойчиво подчеркивает Бруно, мы и обнаруживаем двойную субстанцию – одну духовную, другую телесную, но в последнем счете и та и другая сводятся к одному бытию и одному корню.
Первое начало вселенной должно быть понято как такое, в котором уже не различаются больше материальное и формальное, оно есть абсолютная возможность и действительность. Поэтому мыслить вселенную конечной – значит не только придумывать несуществующий предел, но и усомниться в безграничной потенции, присущей первичной субстанции.
«Вселенная едина, бесконечна, неподвижна. Едина, говорю я, абсолютная возможность, едина действительность, едина форма или душа, едина материя или тело, едина вещь, едино сущее, едино величайшее и наилучшее. Она никоим образом не может быть охвачена и поэтому неисчислима и беспредельна, а тем самым бесконечна и безгранична и, следовательно, неподвижна. Она не движется в пространстве, ибо ничего не имеет вне себя, куда бы могла переместиться, ввиду того что она является всем. Она не рождается, ибо нет другого бытия, которого она могла бы желать и ожидать, так как она обладает всем бытием. Она не уничтожается, ибо нет другой вещи, в которую она могла бы превратиться, так как она является всякой вещью. Она не может уменьшиться или увеличиться, так как она бесконечна».
Центр ее повсюду и нигде. Представления о времени и пространстве, привычные на Земле, не подходят для вселенной: «В бесконечной длительности час не отличается от дня, день от года, год от века, век от момента; ибо они не больше моменты или часы, чем века, и одни из них не меньше, чем другие, в соизмерении с вечностью. Подобным же образом в бесконечности не отличается пядь от стадия, стадий от парасанга; ибо парасанги для соизмерения с безмерностью подходят не более чем пяди».
Беспредельная вселенная охватывает неисчислимые миры. Одни из них могут быть больше Земли, другие меньше, но основа у них та же: «Сущность вселенной едина в бесконечном и в любой вещи, взятой как член его. Благодаря этому вселенная и любая ее часть фактически едины в отношении субстанции…»
Бруно закладывает краеугольные камни ноланской философии – он работает над книгой «О причине, начале и едином».
Вскоре по приезде Бруно в Англию один из лондонских издателей выпустил в свет три его работы. На берегах Темзы Ноланец начал с того же, что и в Париже, – представил на суд читателей сочинения, в которых много писал об «искусстве изобретения» и мнемонике. Опубликованы были вместе: «Новое и полное искусство памяти» – частичное переиздание «Песни Цирцеи», «Толкование тридцати печатей» и «Печать печатей».
Эта книга, а еще больше лекции и диспут в Оксфорде сделали Ноланца предметом оживленных разговоров. Весьма оригинальный ум объявился на английской земле! О Бруно высказывались самые противоречивые суждения. Одни называли его безумным сумасбродом, нагло пытающимся сотрясти основы мироздания, другие видели в нем человека необыкновенных талантов.
Мовиссьер знакомил Бруно со своими гостями. Многие джентльмены стали приглашать его в свои дома. Джордано охотно принимал приглашения: они позволяли ему постигать ту духовную атмосферу, в которой жила британская знать. Но он не обольщался успехом. Вероятно, он вызывал бы куда больший интерес, если бы не рассуждал о вселенной, а кропал любовные стишки. Все итальянское было в моде: галантная поэзия и ученые книги, элегантные чулки и философские трактаты. Считалось хорошим тоном воздавать должное итальянской культуре, говорить на языке Петрарки, украшать гостиные картинами венецианской кисти. При дворе часто слышалась итальянская речь. Дамы и кавалеры соревновались в изяществе стиля и красоте произношения. Сама Елизавета охотно беседовала по-итальянски.
В Лондоне Бруно встречал больше понимания, чем в Оксфорде. Там его мысли вызывали возмущенные крики, а здесь кое-кто из знати не скрывал своего интереса к идеям Коперника и с любопытством внимал Ноланцу. Засилье в Оксфорде обскурантов и «грамматиков», слепых, но воинственных приверженцев плохо понятого Аристотеля мешало настоящим исследованиям. Ученые, восставшие против бесплодного риторического треска, находили, поддержку при дворе. Среди аристократов стало тоже модным покровительствовать наукам, и неизвестно, чего тут было больше: тщеславия или политического расчета. Борьба с Римом подогревала патриотические чувства и питала вражду к ненавистной латынщине. Состоятельные джентльмены начали щедро вознаграждать ученых, которые, отказавшись от латыни, писали трактаты на родном языке.
В общении с Филиппом Сиднеем Бруно находил большое удовольствие. Это была заметная фигура как при дворе, так и в ученых собраниях. Сэр Филипп принадлежал к богатой и влиятельной семье. Отец его был правителем Ирландии, а дядя, граф Лестер, – фаворитом королевы. Восемнадцатилетним юношей Филипп отправился путешествовать. В Париже ему довелось пережить Варфоломеевскую ночь. Он, протестант, избежал смерти, благодаря тому, что успел укрыться в английском посольстве. Тогдашний посол, Френсис Уолсингем, был теперь первым государственным секретарем и ближайшим советником Елизаветы. Недавно Сидней женился на его дочери.
Ужас, братоубийственной резни, свидетелем которой он был в Париже, еще сильнее укрепил Сиднея в ненависти к папистам. Из Франции он направился в Германию. Он странствовал по Италии, жил в Венеции, Генуе, Милане, изучал право в Падуе. Три года продолжались его путешествия. Вернувшись на родину, он был ласково встречен королевой. Вскоре Филипп Сидней, блестящий кавалер и одаренный поэт, сделался любимцем двора. Полагаясь на его ум и обходительность, ему доверяли дипломатические миссии. Елизавета благоволила к нему. Он участвовал в дворцовых увеселениях и, чтобы позабавить королеву, написал маленькую пастораль. Но Сидней чуть совершенно не погубил свою карьеру, когда осмелился выступить против предполагавшегося брака Елизаветы с герцогом Анжу. Выйти замуж за еретика-католика! Вокруг брачного проекта разбушевались страсти. Их тайком подогревал и Лестер, все еще мечтавший стать законным супругом Елизаветы. Королева строго-настрого запретила кому бы то ни было обсуждать эту тему. Филипп ослушался и угодил в опалу. Других карали за дерзость строже. Не спасали и верноподданнические чувства. Пуританину Стеббсу палач отрубил руку, которой он писал свои возражения. Тут же, у плахи, Стеббс левой рукой сорвал с головы шляпу и закричал на всю площадь: «Да здравствует королева!»
Сидней уехал в поместье сестры. Вынужденный досуг пошел ему на пользу. Долгие зимние вечера он отдавал литературе, писал любовные сонеты и сочинял пастушеский роман.
Когда королева сменила гнев на милость, Филипп снова появился при дворе. Его обуревала жажда деятельности, он мечтал о баталиях и заморских странах. Ему необходим был размах, он добивался высокого административного поста, а выполнял второстепенные поручения. Стихи его и проза оставались ненапечатанными. Он носился с широкими и разнообразными планами, но не изменял своей любви к наукам, собирал вокруг себя ученых, поощрял писателей. О нем говорили, что он во всем ратует за хороший вкус, и в политике и в литературе, возвышает свой голос как против крайностей фанатиков, так и против напыщенных подражательских виршей. Людей, несправедливо обвиненных, он защищает от клеветы, поэзию – от злых наскоков пуритан.
Имя Филиппа Сиднея Бруно впервые услышал еще в Милане. О нем, знатоке и ценителе итальянской культуры, отзывались с восторгом. Позже Бруно был свидетелем, что и во Франции Сидней оставил о себе наилучшую память. Познакомившись с ним лично, Джордано на собственном опыте убедился в изяществе его ума и прекрасных душевных качествах.
С одним из своих друзей Сидней был неразлучен. Еще на школьной скамье подружился он с Фулком Гривеллом. Фулк был страстным поклонником его таланта, сам писал стихи, но не ставил их ни в какое сравнение со стихами Филиппа. При дворе Гривелл исполнял обязанности королевского шталмейстера. Знакомство Сиднея с Бруно не оставило Гривелла безучастным. Он тоже стал проявлять к Ноланцу внимание.
В домах, где бывал Бруно, его принимали по-разному: иногда давали свободно высказаться, иногда перебивали с поразительной неучтивостью. Вместо возражений по существу бросали обычную фразу: «Аристотель не может ошибаться!» Бруно стоило большого труда держать себя в руках. Но даже когда разговоры велись в обстановке вежливости и радушия, в них было мало утешительного. Вопреки завидной репутации ученых его собеседники часто оказывались людьми неотесанными и недалекими. Хорошим воспитанием они тоже похвалиться не могли.
Многое в Англии приходилось Бруно не по нутру. И он был столь неблагоразумен, что говорил об этом во всеуслышание. Его возмущали и облеченные властью плуты, корчившие из себя вельмож, и угодничество дворян, и пуританское лицемерие. С подобными праведниками он уже сталкивался в Женеве. Терпеть не мог он этих «реформаторов», которые, латая ветхую религию, прибавляли к старым суевериям кучу новых, не менее постыдных.
Джордано постоянно вспоминал родину. К счастью, в Лондоне много итальянцев. Правда, по большей части это кальвинисты, спасавшиеся на чужбине от гонений католической церкви. Но среди них были и люди, с которыми Бруно охотно встречался. Алессандро Читолини, глубокий, восьмидесятилетний, старик, не прекращал своих ученых занятий. Но не страстью к грамматическим изысканиям и любовью к мнемонике нравился он Бруно. Читолини был ярым поборником литературы на родном языке. Даже ученые трактаты надо писать не по-латыни, а по-итальянски!
К землякам Джордано питает естественную тягу. Однако у него и впрямь несносный характер. Он и им, как и англичанам, не делает никакой скидки. Бруно быстро замечает, что среди выходцев из Италии вдосталь разных самозванцев, полуграмотных невежд, выдающих себя за учителей, неразборчивых авантюристов. Они неплохо устраивались, втираясь в доверие к влиятельным придворным, и без излишней щепетильности брали на себя весьма сомнительные поручения. Вот два преуспевающих флорентийца: Убальдини и Сассетти. Первый – человек далеко не бездарный, искусный миниатюрист и бойкий писатель. В разносторонности его талантов изрядная доля шарлатанства. Он долго служил в наемниках, но теперь, устав от ратных дел, вместо шпаги продает перо. Второй – капитан Сассетти – и вовсе темная личность. Поговаривают, что Лестер, покровительствующий чужестранцам, которым нечего терять, с его помощью обстряпывает свои делишки. В Ирландии Сассетти сражался за королеву, а в Лондоне чуть было не пропал. За убийство его приговорили к смерти. Но Лестер помог ему избежать виселицы. Земляки? Обладают сильными связями при дворе? Да будь они хоть трижды земляками – ничто не помешает Ноланцу откровенно высказывать о них свое мнение!
Устав от работы, Бруно отправлялся проведать кого-нибудь из друзей. Но опасности подстерегали на каждом шагу. В Неаполе Джордано любил улицу с ее шумной толчеей, но здесь, в Лондоне, улица была враждебной. И эту враждебность он почувствовал с первых же дней. Как только в нем узнавали иностранца, начинались насмешки и оскорбления. Мальчишки строили рожи. Лавочники и мастеровые, высунувшись из своих нор, осыпали его бранью. Он научился различать кое-что из ругательств, которые неслись вдогонку: «собака», «предатель», «чужак».
Иностранец всегда виноват. Толкнет нечаянно прохожего – не оберется беды, вступится за собственную честь – поплатится побоями. Его могут нарочно сбить с ног на потеху зевакам. В Англии Читолини жил давно, выполнял, случалось, поручения королевы. Но для толпы он так и остался ненавистным чужаком. Никто не посмотрел на его седины: ему на площади под смех и одобрительные возгласы зверски сломали руку. Когда же он обратился с жалобой к одному из судейских, его утешили признанием, что подобное здесь не в диковинку.
Вспыльчивость Бруно служила ему плохую службу. Он не привык спускать обидчикам и частенько попадал в рискованные переделки. Нельзя было ответить ударом на удар или поднять палку, чтобы защищаться. В мгновение ока, точно из земли, вырастал целый лес кольев, рогатин, алебард. Вооруженные люди, не разобравшись, в чем дело, с яростью набрасывались на иностранца. А когда ему, избитому, посчастливится вырваться, подоспевшие стражники сочтут его же виновным и, награждая тумаками, потащат в каталажку!
Бруно не раз имел неприятности с властями, и только заступничество Мовиссьера избавляло его от еще больших бед. Грубость англичан выводила Джордано из себя. В самых резких выражениях порицал он лондонские нравы. Но он, разумеется, был далек от того, чтобы неприязнь к заносчивым грубиянам распространять на всех лондонцев. Среди них он нашел немало культурных и благожелательных людей. Бруно вызывал к себе интерес не только в ученых кругах. У женщин Ноланец, остроумный и пылкий, пользовался неизменным успехом. О нимфы Англии, прелестные создания! Им, милым и ласковым женщинам, вдохновлявшим его на чужбине, посвящал он строки, полные страстной признательности.
Споры нередко приносили Бруно разочарование. «Пробудитель дремлющих душ» прослыл любящим парадоксы острословом. Занятно излагает он хитрые домыслы Коперника! Такая слава бесила Бруно. Это он-то изощренный софист и любитель парадоксов!
Он проповедовал мысль, что истинный философ должен полагаться на собственный разум и чувства, а не на догматы, которые заставляют принимать не рассуждая. Он отстаивал свободу мысли и был врагом предубеждений, а о нем все чаще говорили как о человеке, чуждом всякой вере. Случалось, он и сам давал пищу для подобных толков.
Однажды гости, собравшиеся у Мовиссьера, затеяли игру в гадания. Гадали по книге Ариосто. Когда настала очередь Бруно, ему выпал стих: «Враг всякого закона, всякой веры…,.» Ноланец был очень доволен: как хорошо эта строфа передает суть его натуры. Он смеялся и шутил.
Мэтью Гвинн всплеснул руками:
– Видно, синьор Джордано, вы не верите ни во что на свете!
– А вы верите во все на свете?
Выпавшую ему строку из Ариосто «Враг всякой веры…» Бруно повторял неоднократно и с явным удовольствием.
Глава девятая Пир на пепле

Шпионы Уолсингема доносили со всех сторон, что против королевы опять готовится заговор. Прежний план совершить вторжение на Британские острова вновь нашел сторонников среди католических князей. Но теперь речь шла не о высадке в Шотландии. Герцог Гиз собирался перебросить из Фландрии прямо на английский берег несколько тысяч отборных солдат. В другом месте должны были высадиться немецкие наемники и англичане-эмигранты. Филипп II выделил крупные суммы, чтобы снарядить войско для операций в Ирландии. Но основной удар Елизавете предполагалось нанести внутри страны: ее подданные-католики восстанут против еретички и вернут Англию в лоно истинной веры.
Уолсингем не дремал. Его люди без излишнего шума арестовывали подозрительных. Вдохновительницей этих заговоров, мнимых и действительных, обычно считали Марию Стюарт. За французским посольством велась неусыпная слежка. Было известно, что Мовиссьер помогает пленнице поддерживать тайную переписку с ее сторонниками. На посла нередко взваливали вину за интриги, к которым он не был причастен.
Мовиссьер давно предупреждал Генриха III, что как бы ни складывались отношения с Елизаветой, пренебрегать шотландскими делами нельзя. Упрочение древнего альянса Франции с Шотландией было той уздой, которая позволяла хоть в какой-то степени сдерживать непомерные домогательства англичан. Но король остался глух к этим советам. Елизавета, чтобы выгадать время, водила его за нос, принимала ухаживания герцога Анжу и обсуждала возможность их брака, а сама старалась под шумок прибрать Шотландию к рукам. Когда, наконец, Генрих III понял, что французское влияние в этой стране может совершенно ослабнуть, то велел Мовиссьеру предпринять энергичные шаги, добиваться освобождения Марии Стюарт и предложить свое посредничество в попытке примирить пленницу с сыном. Если будет необходимо, пусть посол лично отправится в Шотландию.
Аудиенция на этот раз была весьма бурной. Елизавета и слышать ничего не хотела о помощи Мовиссьеру в миссии, возложенной на него королем. Она обвиняла Марию в тяжких преступлениях и с гневом говорила о ее бесконечных интригах. Королева напустилась на Мовиссьера: не слишком ли ретиво участвует он во всех этих аферах и не злоупотребляет ли свободой, ему предоставленной?
Резкий тон Елизаветы возмутил Мовиссьера. Он не замедлил ответить, что своим поведением никогда не походил на английских послов: те, подстрекая гугенотов, действовали во Франции не как дипломаты, а как враги. Его же усилия направлены на то, чтобы поддерживать мир. Он меньше всего хочет военного столкновения и поэтому вынужден на многое закрывать глаза.
«Я знаю, – дерзко добавил Мовиссьер, – что ваше величество не прочь половить рыбку в мутной воде!» Елизавета сдержалась. Вернувшись к основному предмету беседы, посол повторил, что необходимо начать переговоры и освободить Марию Стюарт из ее долгого заточения. Королева уже полностью владела собой. Она перевела разговор на другую тему. Отпуская Мовиссьер а, все же обещала поразмыслить над предложением о его поездке в Шотландию.
Несколько дней спустя в Лондоне разразился величайший скандал. Один из схваченных по подозрению в заговоре сделал важные разоблачения. Когда его пытали в четвертый раз, он не выдержал и признался, что был осведомлен о планах иноземного вторжения. Его посвятили в это герцог Гиз и дон Бернардино Мендоса, испанский посол.
Посла вызвали в королевский совет. Хорошо же он пользуется своими правами дипломата – подбивает людей на мятежи и готовит свержение законной власти! Ему приказали в две недели покинуть страну. Мендоса категорически отрицал свое участие в заговоре. Перёд обвинителями он не остался в долгу: на него возводят напраслину, а сами только и делают, что строят козни против монарха Испании!
Члены совета повскакали со своих мест. Пусть он тотчас же подобру-поздорову убирается из Англии и не ждет, чтобы королева его покарала!
– Ни королева, ни кто-либо на свете, – с жаром воскликнул Мендоса, – не имеет права меня обвинять! И пусть никто из вас не позволит себе заходить слишком далеко, коль нет у него в руках шпаги. Ваша королева покарает меня? Меня? На такую угрозу я могу отвечать лишь усмешкой. Я буду счастлив отсюда уехать, как только получу паспорта.
Раз я не угодил вашей королеве, – зловеще закончил Мендоса, – как посланник мира, то я сделаю так, что она найдет, во мне посла войны!
Однажды Флорио и Гвинн, придя к Бруно, сказали, что их прислал королевский шталмейстер. Он горит желанием побеседовать с Ноланцем, очень интересуется его новой философией, желает постичь выдвигаемые им парадоксы, Коперниковы и все прочие. Бруно резко ответил, что хотя и обязан многим Копернику, но смотрит на мир не его глазами и не глазами Птолемея, а своими собственными.
Фулк Гривелл не думал отступать от своего намерения. При встрече с Бруно он повторил, что охотно бы услышал из его уст доводы в защиту мысли о движении Земли. Сэр Фулк, избалованный успехами при дворе, не привык, чтобы ему отказывали. Бруно ответил с подкупающей прямотой: не зная его способностей, он не собирается приводить какие-либо доводы и не хочет уподобляться человеку, который убеждает статую или беседует с мертвецами. Прежде чем излагать взгляды относительно вращения Земли, он желал бы выслушать аргументы, подкрепляющие противоположное мнение, и оценить по достоинству способности своего собеседника. Несостоятельность Птолемеевой теории он докажет, исходя из тех принципов, которыми будут ее обосновывать.
Гривелл был в восторге от такого ответа и заявил, что принимает предложение. Через неделю, в первый день великого поста, он соберет в своем доме многих джентльменов и ученых. Надо надеяться, синьор Бруно получит достаточно материала, чтобы обнаружить всю силу своей аргументаций.
Джордано не хотел приумножать горький свой опыт и откровенно сказал Гривеллу: он принимает приглашение, но просит устроить так, чтобы ему не пришлось выступать перед малосведущими или грубыми субъектами.
Сэр Фулк поспешил рассеять его сомнения и уверил, что запасется наилучшими оппонентами, людьми высокой учености и безупречного воспитания.
Наступил первый день великого поста, который католики зовут днем пепла или днем поминовения, – 14 февраля 1584 года. Бруно напрасно ждал вестей от Гривелла. Прошло время обеда, но никто так и не явился. Джордано решил, что Фулк, занятый другими делами, забыл об их разговоре или почему-то не смог исполнить задуманного. Бруно отправился проведать друзей итальянцев. Вернулся он в сумерках. У дверей встретил Флорио и Гвинна. Они сбились с ног, разыскивая его.
– Идемте же скорее, вас ждут!
Они направились к Темзе в надежде сократить путь и отыскать лодку, которая доставила бы их прямо ко дворцу, где находились апартаменты, занимаемые Фулком Гривеллом. Выйдя на набережную, спустились к причалу и очень долго звали лодочника. Наконец издали откликнулись двое. Медленно, словно их ждала виселица, подплыли к берегу. После бесконечных препирательств из-за платы один дал руку Ноланцу, другой помог остальным.
Ветхая ладья застонала под грузом. О, лишь бы она не стала ладьей Харона! Бруно все время смеялся и шутил. Стариков лодочников он называл перевозчиками из Тартара, уверял, что лодка, конечно, обломок, оставшийся после всемирного потопа.
Погода стояла премерзкая. Поздний февральский вечер на реке, холодный и ветреный. Лодка скрипела. Чем заглушить эту унылую музыку? Флорио затянул песню, сложенную на стихи Ариосто. Бруно ее подхватил.
Размашистые движения гребцов могли обмануть только простака. Весла едва касались воды, и лодка плыла с поразительной медлительностью. Около Темпля перевозчики вдруг пристали к берегу. Бруно спросил, каковы их намерения. Они хотят немного отдышаться? Он должен был ждать, пока Флорио переведет их ответ. Лодочники сказали, что дальше не поедут: здесь их стоянка. Все уговоры были напрасны. С ними пришлось расплатиться и даже поблагодарить, чтобы не нарваться на неприятность.
Бруно и его спутники двинулись дальше и сразу же угодили в лужу. Не успели из нее выбраться, как попали в худшее болото. Свернуть некуда: по обе стороны высилась каменная ограда. Переулок не освещался, фонарей у них с собой не было. Им не оставалось ничего иного, как идти наугад. Поминутно скользя и оступаясь, они шли вперед, пока не выбрались на улицу. К своему изумлению, они обнаружили, что находятся почти там же, откуда начали поиски лодки. Французское посольство было рядом.

Мигель Сервет.

Жан Кальвин.
Все, казалось, настойчиво советовало отказаться от дальнейшего путешествия: и неудача с лодочниками, и поздний час, и туман, и близость дома. Но ведь их ждут! Бруно верен своему слову. Он обещал прийти. Разумеется, люди, которые при таких обстоятельствах не догадались прислать за гостями лошадь или лодку, и в случае их неприхода на них же взвалят вину. Они припишут Ноланцу неведомо что. Но разве только в этом дело? Он жаждет послушать ученых мужей, которых Фулк Гривелл вызвался собрать у себя для беседы. Надо идти.
С великим трудом добрались они, наконец, до дворца. Толпившиеся в прихожей слуги встретили их без всякой почтительности. Не кивнув даже головой, с видом одолжения показали, как подняться наверх. Конечно, какие тут почести: явился чужеземец в весьма заурядном наряде. У него не увидишь на груди знаков отличия, скорей уж заметишь, что недостает пуговицы.
Гости сидели за столами. После небольшой заминки разместились и вновь пришедшие. В ученых людях, как и обещал Фулк, недостатка не было. Разодетые в бархат, в длинных мантиях, они воплощали достоинство и гордыню. Кто эти доктора? Медики и философы? Из Оксфорда? Неужели в Лондоне не нашлось знатоков философии? Но оксфордские доктора были весьма внушительны, и Бруно едва сдержал усмешку. Важнейшие персоны!
У того, кто сидел слева от Джордано, шея была украшена двумя золотыми цепями и орденом, другой, восседавший наискосок, походил на богатейшего ювелира. Пальцы его были унизаны перстнями и кольцами. Словно он приехал на ярмарку торговать драгоценностями.
Гости продолжали о чем-то беседовать. Потом доктор с перстнями, приосанившись, огляделся вокруг и со снисходительной улыбкой спросил по-латыни Ноланца, разумеет ли синьор, о чем идет речь. Джордано ответил, что не понимает английского. Разговор, пояснил оксфордец, касается следующего: Коперник, по их мнению, вовсе и не держался мысли, что Земля движется. Это неприемлемо и невозможно. Он приписал движение Земле, а не восьмому небу, лишь для того, чтобы удобней производить астрономические расчеты.
Так вот как английские доктора толкуют Коперника! Знакомая песенка! Они действительно вертели в руках его книгу, запомнили год и место издания и набрались премудрости из дурацкого предисловия какого-то самонадеянного осла, который хотел, чтобы подобные ему четвероногие нашли и здесь латук себе по вкусу. Невежда, накропавший предисловие, извратил основную идею Коперника!
Диспут начинается совсем не так, как предполагал Бруно, когда уславливался с Фулком: приверженцы Птолемеевой системы не приводит доводов в защиту своих взглядов, а твердят, что сам Коперник не верил в движение Земли. Коперник, с пылом возражает Бруно, не только был убежден во вращении Земли вокруг Солнца, но и всеми силами доказывал это.
Джордано воздает должное Копернику и другим великим ученым, говорившим о движении Земли. Но он, Бруно, рассматривая вселенную, исходит из собственных принципов, которые опираются не на авторитеты, а на живое чувство и разум.
Кое-кто из слушателей насмешливо переглядывается. С какой горячностью Ноланец излагает свои взгляды! Да он и впрямь неистощим на парадоксы. Ему мало, что он заставляет Землю вращаться вокруг Солнца, он еще допускает, будто на земной шар можно взглянуть со стороны!
С увлечением развивает он свою диковинную мысль. Какой покажется Земля человеку, если он будет смотреть на нее из какой-нибудь точки мирового пространства? Чем больше будет он удаляться от Земли, тем шире сможет охватить ее своим взглядом, а уйдя на определенное расстояние, увидит, что Земля – шар.
– Мы увидим Землю, – восклицает Джордано, с такими же подробностями, с какими видим Луну, ее светлые и темные части!
Однако увеличивающееся расстояние, – продолжает Бруно, – будет все больше мешать нам различать детали. Луна по мере удаления от нее потеряет привычный нам облик. Пятна ее будут становиться все меньше и меньше, и, наконец, Луна покажется нам маленьким светящимся телом. А совсем издалёка и наша Земля будет казаться нам звездой, одной из бесчисленных звезд бескрайнего неба.