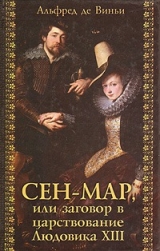
Текст книги "Сен-Map, или Заговор во времена Людовика XIII"
Автор книги: Альфред де Виньи
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Сначала он пропустил несколько ничем не примечательных придворных или таких, чьи достоинства были ему бесполезны, и остановил это шествие только на маршале д'Эстрэ, который приехал попрощаться с ним перед отъездом в Италию; все шедшие позади маршала остановились. В соседней приемной это послужило знаком, что кардинал с кем-то беседует дольше, чем обычно; Жозеф, ожидавший этой минуты, появился в кабинете и обменялся с кардиналом взглядом, который, с одной стороны, говорил: «Не забудьте о данном мне обещании», а с другой: «Не беспокойтесь». В то же время капуцин ловко обратил внимание хозяина на то, что держит под руку одну из своих жертв, которую он собирался превратить в свое послушное орудие: то был молодой дворянин в очень коротком зеленом плаще, камзоле того же цвета и узких красных штанах с великолепными золотыми подвязками,– словом, в костюме пажей из свиты брата короля. Отец Жозеф разговаривал с ним очень конфиденциально, но отнюдь не в интересах своего хозяина; обуреваемый желанием стать кардиналом, он подготавливал запасные ходы на случай отступничества первого министра.
– Передайте его королевскому высочеству, чтобы он не судил обо мне слишком поспешно, ибо у него нет более преданного слуги, нежели я. Здоровье кардинала день ото дня слабеет; и я считаю, что совесть призывает меня предупредить о его ошибках того, кто, быть может унаследует королевскую власть до совершеннолетия будущего короля. В доказательство моего чистосердечия передайте принцу, что здесь собираются арестовать преданного ему Пюи-Лорана; пусть принц распорядится, чтобы его где-нибудь спрятали, иначе кардинал и его посадит в Бастилию.
Пока слуга предавал своего господина, господин не отставал от слуги и предавал его. Самолюбие, а также остаток уважения, с которым кардинал относился к делам церкви, не позволяли ему без отвращения думать, что на презренном наймите окажется тот же головной убор, которым увенчан он сам, и что этот наймит займет столь же высокое положение, как и он, если не считать временной должности министра. Беседуя вполголоса с маршалом д'Эстрэ, он говорил:
– Нет надобности досаждать Урбану Восьмому относительно капуцина, который стоит вон там. Достаточно и того, что его величество соизволило представить его к кардинальскому сану. Мы вполне понимаем, что его святейшеству претит облачить этого оборванца в римский пурпур.– Потом, переходя от этой мысли к общим вопросам, он продолжал: – Право же, я не знаю, почему святейший отец так охладел к нам. Что мы сделали такого, что не служило бы к вящей славе нашей святой матери, католической церкви? Я сам отслужил первую мессу в Ларошели, и вы, маршал, собственными глазами видите нашу мантию всюду, даже в войсках. Кардинал де Лавалет недавно покрыл себя славой, командуя армией в Пфальце.
– Он превосходно провел отступление, – вставил маршал, слегка подчеркнув слово отступление.
Министр не обратил внимания на этот маленький выпад, подсказанный профессиональной ревностью, и продолжал, повысив голос:
– Господь доказал, что он не отказывает своим левитам в военном гении, ибо в завоевании Лотарингии благочестивый кардинал помог нам не меньше, чем герцог Веймарский, и никто еще так превосходно не командовал морскими силами, как наш архиепископ Бордоский под Ларошелью.
Все знали, что в то время министр был недоволен этим прелатом, ибо высокомерие его достигло такой степени, а дерзкие выходки до того участились, что в Бордо разгорелись два весьма прискорбных дела. Четыре года тому назад герцог Эпернонский, тогдашний губернатор Гийенны, находясь в окружении своих приближенных и солдат, встретился с архиепископом, который шел в процессии среди духовенства; поравнявшись с архиепископом, герцог назвал его наглецом и два раза сильно ударил палкой; за что архиепископ отлучил его от церкви; но, несмотря на полученный урок, у архиепископа еще– совсем недавно произошло столкновение с маршалом де Витри, который наградил его «двадцатью ударами палкой, или жезлом – назовите, как хотите,– писал кардинал-герцог кардиналу де Лавалету,– и теперь он, по-видимому, намерен всю Францию наводнить отлученными». И действительно, архиепископ отлучил от церкви и маршальский жезл де Витри, памятуя, что в тот раз папа заставил герцога д'Эпернона попросить у него прощения; но Витри, некогда убивший маршала д'Анкра, пользовался слишком большим расположением двора, чтобы, согласиться на это, и архиепископом был не только бит, но вдобавок еще получил выговор от министра.
Поэтому господин д'Эстрэ, не лишенный чуткости, подумал, что в похвалах, которые кардинал расточает военным и морским талантам архиепископа, таится доля иронии, и он ответил с невозмутимым хладнокровием:
– Конечно, монсеньер, никто не решится утверждать, что архиепископ был побит на море.
Его преосвященство не мог не улыбнуться; но, заметив, что под электрическим воздействием его улыбки в зале возникли другие улыбки, а также шепот и всяческие кривотолки, он сразу же вернулся к обычной серьезности и, непринужденно взяв маршала за руку, произнес:
– Ничего не скажешь, господин посол, вы за словом в карман не полезете. Пока вы будете в Ватикане, мне не страшен ни кардинал Альборнос, ни все Борджа мира, ни все происки Испании у престола святейшего отца.
Потом, оглянувшись вокруг и. словно обращаясь ко всей затихшей и завороженной гостиной, он продолжал, возвысив голос.
– Надеюсь, что мы не подвергнемся гонению, как некогда, за то, что заключили союз с одним из самых выдающихся людей нашего времени; но Густав Адольф умер, и у католического короля уже не будет предлога добиваться отлучения христианнейшего монарха. Согласны ли вы со мной, дорогой монсеньер?– обратился он к кардиналу Де Лавалету, который приближался к ним и, к счастью, не слышал того, что было сказано на его счет.– Господин д'Эстрэ, не отходите; нам еще многое надо сказать вам, и вы не лишний в наших беседах, ибо секретов у нас нет; наша политика – откровенная и у всех на виду: интересы его величества и государства – вот и все.
Маршал отвесил глубокий поклон, стал за креслом министра, а свое место уступил кардиналу де Лавалету, который не переставал кланяться, льстил и распинался в преданности и полной покорности кардиналу, словно желая искупить непреклонность своего отца, герцога д'Эпернона; но кардинал удостоил его лишь несколькими туманными словами, отвечал ему рассеянно и неопределенно, причем все время обращал взор к дверям, высматривая: кто будет следующий. К огорчению де Лавалета, в самый разгар его медоточивой лести кардинал-герцог резко прервал его, воскликнув:
– Ах, наконец-то и вы, мой дорогой Фабер! Как мне хотелось повидать вас и поговорить об осаде!
Генерал поспешно и довольно неуклюже поклонился кардиналу-генералиссимусу и представил ему офицеров, которые прибыли вместе с ним из лагеря. Он рассказал о подробностях осады, а кардинал, казалось, хотел своей любезностью расположить его к себе, чтобы подготовить к распоряжениям, которые он намеревался дать ему на самом поле сражения; он поговорил и с офицерами, которых называл по имени, и расспросил их о лагере.
Все они посторонились, чтобы уступить место подошедшему герцогу Ангулемскому; этот Валуа, долгое время боровшийся против Генриха IV, теперь заискивал перед Ришелье. Он хлопотал о должности командующего, ибо при осаде Ларошели занимал лишь третье по старшинству место. Вслед за ним появился молодой Мазарини, всегда изящный и вкрадчивый, но уже полный веры в свою судьбу.
За ним вошел герцог д'Алюен. Кардинал прервал любезности, которые он расточал, и громко сказал герцогу:
– С удовольствием объявляю вам, ваша светлость, что ради вас король учредил должность маршала Франции. Вам надо именоваться Шомбергом, не так ли? В освобожденном вами Лекате все так считают. Но простите, вот господин де Монторон, у него, несомненно, какая-то важная новость для меня.
– Нет, нет, монсеньер, я хотел только доложить, что тот молодой человек, которого вы соблаговолили считать состоящим на вашей службе, умирает с голоду.
– Ах, что же вы так не вовремя говорите мне о подобных вещах! Ваш маленький Корнель не желает написать ничего замечательного; мы видели только «Сида» да еще «Горациев». Пусть трудится, трудится; всем известно, что он состоит при мне, мне и самому это неприятно. Впрочем, раз вы принимаете в нем такое участие, я назначу ему пенсию в пятьсот экю из моих личных средств.
И казначей удалился в восторге от щедрости министра; он поспешил домой, чтобы милостиво принять посвящение «Цинны», в котором великий Корнель сравнивает его с Августом и благодарит за милостыню, поданную музам.
Кардинал, помрачневший от этого неуместного сообщения, встал, сказав, что уже поздно и что пора ехать к королю.
Среди знатнейших вельмож, которые подощли к министру, чтобы поддержать его, оказался и человек в мундире рекетмейстера; он поклонился с такой уверенной и самонадеянной улыбкой, что присутствующие, привыкшие к придворному этикету, были весьма удивлены. Он как бы говорил: «У нас секретные дела; вот увидите, как кардинал будет ласков со мной; в его кабинете я словно у себя дома». Онако его тяжеловесные, неуклюжие манеры выдавали в нем человека весьма низкого происхождения: то был Лобардемон.
Увидев его перед собою, Ришелье нахмурился и бросил на Жозефа испепеляющий взгляд; потом, обращаясь к окружающим, сказал с горьким смехом:
– Разве среди нас скрывается преступник?
С этими словами кардинал повернулся к Лобардемону спиной, а тот покраснел, как кардинальская мантия; затем Ришелье стал спускаться по большой лестнице архиепископского дома, предшествуемый толпой царедворцев, которые собирались сопровождать его в каретах или верхом.
Нарбоннские обыватели и представители власти с изумлением наблюдали этот чисто королевский выезд.
Кардинал один взошел на огромные крытые носилки квадратной формы, в которых ему предстояло совершить путешествие до Перпиньяна, так как из-за болезненного состояния он не мог ехать ни в карете, ни верхом. В этой своего рода странствующей комнате помещались кровать, стол и стульчик для пажа, чтобы он мог писать или вслух читать кардиналу. Сооружение это, покрытое пурпурным узорчатым шелком, несли восемнадцать человек, сменявшие друг друга через каждое лье; их отобрали среди гвардейцев, и они несли эту почетную службу не иначе как с непокрытой головой – будь то в жару или в дождь. Герцог Ангулемский, маршалы де Шомберг и д'Эстрэ, Фабер и прочие высокопоставленные лица следовали верхом по обе стороны носилок. В этой угодливой свите можно было заметить кардинала де Лавалета и Мазарини, а также Шавиньи и маршала де Витри,– последний старался избежать Бастилии, которая, по слухам, грозила ему.
За носилками следовали две кареты, предназначенные для секретарей кардинала, его медиков и духовника, восемь экипажей для свиты и двадцать четыре мула с поклажей; на очень близком расстоянии от носилок шли двести пеших мушкетеров; взвод телохранителей на великолепных конях и отряд летной конницы, сплошь состоявшей из дворян, ехали впереди и позади кортежа.
В таком окружении и прибыл министр несколько дней спустя в Перпиньян. Из-за больших размеров носилок не раз приходилось расширять дорогу и ломать стены домов в городах и селах, ибо иначе носилки не проходили. «Поэтому,– говорят некоторые мемуаристы того времени, преисполненные искреннего восторга перед этой роскошью,– поэтому кардинал казался завоевателем, входящим в город через пробитую брешь». Мы с большим рвением искали какой-нибудь документ, который свидетельствовал бы о таком же восторге владельца или жильца разрушенного дома, но должны признаться – найти нам таковой не удалось.
Глава VIII ВСТРЕЧА
Мой изумленный дух трепещет перед ней.
Расин. «Британик»
Пышный поезд кардинала остановился перед лагерем; все полки выстроились под ружьем в безупречном порядке, и под звуки пушечных залпов и музыку, последовательно гремевшую возле каждого полка, носилки проследовали вдоль длинного строя кавалерии и пехоты, растянувшихся от крайней палатки до палатки министра, которая была раскинута поодаль от королевской ставки и обтянута пурпурной тканью, благодаря чему ее можно было различить издалека. Каждого командира кардинал удостоил приветственным жестом или словом; добравшись наконец до своей палатки, он отослал свиту и заперся в ожидании часа, когда можно будет предстать перед монархом. Все его приближенные сразу же отправились в ставку короля и, не входя внутрь, стали ждать в длинных, крытых полосатым тиком галереях, которые вели в палатку короля. Здесь придворные встречались друг с другом, прогуливались группами, раскланивались и обменивались рукопожатиями или надменно оглядывали друг друга – в зависимости от тех или иных корыстных соображений и смотря по тому, при ком они состояли. Иные подолгу перешептывались и знаками выражали удивление, радость и неудовольствие, из чего можно было заключить, что произошло нечто чрезвычайное. В одном из уголков главной галереи возник, среди прочих, следующий странный диалог:
– Позвольте узнать, господин аббат, почему вы смотрите на меня так пристально?
– А как же, господин де Лоне? Мне очень любопытно, что вы теперь будете делать? С тех пор как вы побывали в Турени, все отступаются от вашего кардинала-герцога; что же вы медлите, поговорите скорее с людьми, близкими к брату короля или к королеве; кардинал де Лавалет вас опередил уже минут на десять; он только что пожимал руки Рошпо и приближенным покойного графа Суассонского, которого я буду оплакивать всю жизнь.
– Прекрасно, -господин де Гонди, я вас понял; вы бросаете мне вызов, весьма польщен этим.
– Да, ваше сиятельство,– продолжал молодой аббат, степенно отвешивая поклон, по обычаю того времени,– я искал случая бросить вам вызов от имени господина д'Атики, моего друга, с которым в Париже у вас произошла размолвка.
– К вашим услугам, господин аббат; пойду за секундантами, а вы пригласите своих.
– Драться будем верхом, на шпагах и пистолетах, не так ли?– добавил Гонди с таким видом, словно речь шла о загородной прогулке, и пощелкал пальцем по рукаву, чтобы смахнуть какую-то пылинку.
– Как вам будет угодно,– ответил тот.
И они на время расстались, обменявшись глубокими, безупречно вежливыми поклонами.
Мимо них беспрестанно двигалась блестящая толпа молодых дворян. Соперники присоединялись к ним, ища своих друзей. В то утро двор сверкал всем великолепием тогдашних нарядов: вышитые золотом и серебром короткие бархатные и атласные плащи всевозможных цветов, кресты св. Михаила и св. Духа, брыжи, шляпы со множеством перьев, золотые шнурки, длинные шпаги – все блестело, все сияло, а еще ярче сверкали взоры этой воинственной молодежи с ее остроумными шутками и задорным, искристым смехом. Среди толпы медленно шествовали важные, родовитые вельможи в окружении многочисленной свиты.
Маленький, очень близорукий аббат де Гонди прогуливался среди придворных, хмурясь, прищуриваясь, чтобы лучше видеть, и покручивая ус, ибо в то время усы носили и духовные лица. Он каждому заглядывал в лицо, разыскивая приятелей, и наконец остановился перед очень высоким юношей, с ног до головы одетым в черное, причем даже стальная его шпага была покрыта чернью. Он беседовал с гвардейским капитаном, но аббат де Гонди отозвал его в сторону.
– Господин де Ту, – сказал он,– через час вы будете нужны мне как секундант в поединке верхом, на шпагах И пистолетах, и если вы согласны оказать мне эту честь…
– Вы отлично знаете, сударь, что я к вашим услугам всегда. Где мы встретимся?
– Перед испанским бастионом, прошу вас.
– Простите, я продолжу очень интересный для меня разговор. Я буду на месте вовремя.
И де Ту снова подошел к капитану. Все сказанное им аббату он произнес голосом очень мягким, полным спокойствия, и даже как-то рассеянно.
Маленький аббат пожал ему руку с чувством удовлетворения и отправился в дальнейшие поиски.
Зато с другими молодыми дворянами, к которым он обращался, ему было не так легко сговориться, ибо они знали его лучше, чем господин де Ту; едва завидев его, они старались уклониться от встречи или же потешались над ним вместе с ним самим и никак не соглашались услужить ему.
– Вы все еще в поисках, аббат; бьюсь об заклад, что вы себе подыскиваете секунданта,– сказал герцог де Бофор.
– А я держу пари,– добавил господин де Ларошфуко,– что дело касается кого-нибудь из приближенных кардинала-герцога.
– Вы оба правы, господа; но с каких это пор вы посмеиваетесь над делами чести?
– Упаси меня бог,– возразил господин де Бофор,– люди военные, как мы, всегда чтят хороший удар шпаги, а вот что касается покроя сутан, то уж в этом я ничего не смыслю.
– Полноте, сударь; как вам известно, сутана ничуть не связывает мне рук, и я готов доказать это любому желающему. К тому же я ничуть ею не дорожу.
– А-а, значит, для того вы так часто и деретесь, чтобы порвать ее? – вставил Ларошфуко.– Однако не забывайте, дорогой аббат, что под сутаной-то обретаетесь вы сами.
Гонди взглянул на часы и, не желая терять времени на пустые шутки, отправился дальше; но и с другими ему не везло: когда он атаковал двух дворян из свиты молодой королевы, которые, по его предположению считали себя обиженными кардиналом и, следовательно, были готовы помериться силами с его приспешниками, один из них ответил ему строго:
– Неужели вы не знаете, что сейчас произошло, господин де Гонди? Король сказал во всеуслышанье: «Желает или не желает этого наш надменный кардинал, а вдова Генриха Великого вскоре вернется из изгнания». Надменный, – понимаете это господин аббат? Никогда еще король так резко не высказывался против него. Это не что иное, как окончательная опала. Теперь, право же, никто не решится даже заговорить с ним; можно не сомневаться, что он сегодня же покинет двор.
– Слышал я об этом, но у меня дело…
– Для вас, которому он не давал ходу, это большое счастье.
– Дело чести…
– А Мазарини за вас…
– Но выслушайте же меня.
– А раз он за вас – он припомнит ваши подвиги, прекрасную дуэль с господином де Кутенаном и прелестную булавочницу; он даже рассказал обо всем этом королю. Однако, дорогой аббат, прощайте; нам недосуг; прощайте, прощайте…
Тут насмешник взял своего приятели под руку и, не слушая аббата, быстро зашагал по галерее и скрылся в толпе.
Бедный аббат пребывал в отчаянии, что ему никак не удается подыскать второго секунданта, и с грустью наблюдал, как рассеивается толпа и уходит время, но тут на глаза ему попался незнакомый молодой человек, сидевший с меланхолическим видом, облокотившись на столик. Он был в трауре, и по платью его нельзя было определить, является ли он приближенным какой-нибудь знатной семьи или членом какой-нибудь корпорации; терпеливо ожидая часа, когда можно будет войти в палатку короля, он равнодушно смотрел на окружающих и, казалось, не видел их и никого не знал.
Гонди заметил молодого человека и сразу же направился к нему.
– Что и говорить, сударь, я не имею чести быть с вами знакомым; но дуэль всегда по душе благородному юноше, и если вы согласитесь быть моим секундантом, то через четверть часа мы с вами уже будем на лугу. Я – Поль де Гонди, а соперник мой господин де Лоне из свиты кардинала, – впрочем, вполне воспитанный человек.
Незнакомец, ничуть не удивившись этому обращению, ответил, не меняя позы:
– А кто его секунданты?
Право, не знаю. Но не все ли вам равно? Если слегка и кольнешь своего приятеля, так ведь это никак не может испортить отношений.
Приезжий небрежно улыбнулся, погладил длинные каштановые волосы, посмотрел на большие часы-луковицу, висевшие у него на поясе, и равнодушно ответил:
– Хорошо, сударь; делать мне нечего, и друзей у меня здесь нет, я пойду с вами; предпочитаю это чему-либо другому.
Он взял со стола широкополую шляпу с черными перьями и медленно пошел вслед за воинственным аббатом, который все время забегал вперед и возвращался, чтобы поторопить своего спутника,– подобно тому как мальчуган бежит впереди отца или как щенок раз двадцать возвращается назад, прежде чем добежит до конца аллеи.
Тем временем двое слуг в королевских ливреях раздвинули большие портьеры, отделявшие галерею от палатки короля, и сразу воцарилась тишина. Присутствующие стали один за другим не спеша входить во временные покои монарха. Король милостиво встречал придворных, каждый входящий прежде всего видел его.
Людовик XIII стоял у столика, обставленного золочеными креслами, в окружении высших военачальников; одет он был весьма изящно: своеобразная светло-желтая куртка с разрезными рукавами, украшенными шнуром и синими лентами, спускалась пониже талии. Широкие, в складках, штаны из полосатой желто-красной ткани с синими лентами внизу доходили только до колен. Ботфорты, поднимавшиеся чуть выше лодыжки, были украшены множеством кружев и так широки, что кружева помещались в них словно цветы в вазе. Короткий, из синего бархата плащ с вышитым крестом св. Духа ниспадал на его левую руку, опиравшуюся на эфес шпаги.
Он стоял с непокрытой головой, и хорошо видно было его благородное бледное лицо, освещенное лучами солнца, которые пробивались сквозь облака. Острая бородка, какие носили в то время, подчеркивала худобу его лица и вместе с тем придавала ему еще более грустное выражение; по высокому лбу, античному профилю, орлиному носу в нем сразу можно было узнать монарха из великого рода Бурбонов; он унаследовал от предков все, кроме решительности взгляда: глаза его, казалось, покраснели от слез и затуманились от постоянной дремоты, а близорукость придавала ему несколько растерянный вид. Он намеренно окружил себя в это время самыми заклятыми врагами кардинала и внимательно слушал их в ожидании, что с минуты на минуту появится и сам министр, при этом он переминался с ноги на ногу, по привычке, переходившей в их роду из поколения в поколение; он говорил довольно оживленно, но часто прерывал речь, чтобы милостиво кивнуть или жестом приветствовать вельмож, проходивших мимо него с глубокими поклонами.
Уже почти два часа проходили придворные перед королем, а кардинал все не появлялся; позади монарха и в крытых галереях за его палаткой тесной толпой собрался весь двор; теперь уже реже стали раздаваться имена вновь входивших вельмож.
– Разве мы сегодня не увидим нашего любезного кардинала?– спросил король, обернувшись и обратив взор на Монтрезора из свиты Гастона, как бы поощряя его ответить.
– Говорят, государь, что кардинал-герцог опять расхворался,– ответил тот.
– Но кто же другой, кроме вашего величества, в силах исцелить его?– сказал герцог де Бофор.
– Мы исцеляем только золотушных, – возразил король,– а недуги кардинала всегда так загадочны, что, признаюсь, я в них ничего не понимаю.
В отсутствие Ришелье король храбрился и в шутках черпал силы, чтобы сбросить с себя его невыносимое, подавляющее бремя. Он почти совсем уверовал в свое торжество и, видя вокруг веселые лица, в душе хвалил себя за то, что взял верховную власть в свои руки; в настоящую минуту он наслаждался своей мнимой силой. Но какая-то внутренняя тревога, таившаяся в глубине его сердца, все же говорила ему, что эти счастливые мгновения минуют и тогда все бремя по управлению государством ляжет на него одного; он разговаривал с окружающими, чтобы отогнать от себя эту назойливую мысль, и, не признаваясь себе в том, что втайне сознает свою неспособность царствовать, уже не тешился мыслью о результатах предпринятых им действий и тем самым поневоле забывал о трудностях, которые ему встретятся на этом пути. Он одну за другой бросал краткие фразы:
– Перпиньян мы скоро возьмем,– издали сказал он Фаберу.– Итак, кардинал, Лотарингия наша,– добавил он, повернувшись к Лавалету. Потом обратился к Мазарини, коснувшись его плеча:– Управлять государством не так уж трудно, как думают, не правда ли?
Итальянец, отнюдь не столь уверенный, как остальные в опале кардинала, уклончиво ответил:
– Ваши последние успехи государь, и во внешней и во внутренней политике достаточно доказывают мудрость в выборе сподвижников и в руководстве ими, и…
Но герцог де Бофор, прерывая Мазарини с той самоуверенностью, которая впоследствии заслужила ему прозвище Влиятельного, громко и решительно воскликнул:
– Конечно, государь, нужно только желание; подданными, как конем, правят при помощи шпор и поводьев; а так как все мы хорошие наездники – остается лишь сделать выбор.
Ловкий выпад самодовольного герцога не успел еще произвести надлежащего впечатления, как двое слуг одновременно провозгласили:
– Их высокопреосвященство.
Король невольно покраснел, словно его застали на месте преступления, но сразу же овладел собой и принял решительный, надменный вид, что не ускользнуло от министра.
Ришелье, во всем великолепии кардинальского наряда, медленно шествовал к королю, опираясь на двух юных пажей; за ним шли начальник охраны и более пятисот дворян из его свиты, причем кардинал то и дело останавливался, словно преодолевая нестерпимую боль, на самом же деле для того, чтобы рассмотреть окружающих. Ему достаточно было самого беглого взгляда.
Свита остановилась у входа, а когда кардинал вошел в королевскую палатку, никто из присутствующих не осмелился приветствовать его или хотя бы обратить на него взгляд; даже Лавалет притворился, будто всецело поглощен беседой с Монтрезором. Король, желавший оказать кардиналу дурной прием, приветствовал его с нарочитой небрежностью и продолжал вполголоса разговор с герцогом де Бофор.
Кардиналу не осталось ничего другого, как, поклонившись королю, остановиться, а затем направиться к толпе придворных, как бы намереваясь смешаться с нею; но истинной целью его было изведать настроения вельмож. Все они отпрянули, словно при появлении прокаженного, только Фабер с обычной для него непосредственностью и развязностью подошел к кардиналу и обратился к нему, прибегая к выражениям, свойственным его ремеслу:
– Итак, ваше высокопреосвященство, вы пробиваете здесь брешь, как пушечное ядро, прошу вас – извините их.
– А вы не отступаете передо мной, как не отступаете и перед неприятелем; вы не пожалеете об этом.
Мазарини тоже приблизился к кардиналу, но с опаской, и, придав своему подвижному лицу выражение глубокой грусти, отвесил несколько низких-пренизких поклонов, однако стал при этом спиною к королевской группе, так что оттуда могло показаться, будто он кланяется небрежно и холодно, как кланяются тому, от кого хотят поскорее отделаться; зато со стороны кардинала эти поклоны представлялись изъявлением одновременно и глубокого уважения, и затаенной, молчаливой скорби.
Министр, по-прежнему спокойный, презрительно улыбнулся; но вдруг он придал взгляду своему ту твердость, а всей осанке то величие, которые ему были свойственны перед лицом опасности, снова оперся на пажей и, не дожидаясь слова или взгляда монарха, вдруг принял решение и направился через всю палатку прямо к королю. Никто не спускал с него глаз, хотя каждый и делал вид, будто не смотрит на него; все умолкли, даже те, что беседовали с королем; придворные насторожились, чтобы не упустить ни единого слова, ни малейшего жеста.
Людовик XIII с удивлением обернулся, и окончательно растерявшись, застыл в ожидании, взгляд его был холоден, как лед; только в этом и заключалась сила короля – сила пассивная, но весьма ощутимая, когда речь идет о монархе.
Приблизившись к королю, кардинал не поклонился; не меняя осанки, опустив взор и опираясь обеими руками на плечи полусогнувшихся мальчиков, он сказал:
– Государь, умоляю вас – увольте меня наконец в отставку, которой я так давно жажду. Здоровье мое пошатнулось; чувствую, что жизнь моя скоро оборвется; я приближаюсь к вечности и, прежде чем дать отчет владыке небесному, хочу дать отчет владыке земному. Прошло уже восемнадцать лет, государь, с тех пор как вы передали в мои руки слабое и раздробленное королевство; я возвращаю его вам сплоченным и могущественным. Враги ваши повержены и посрамлены. Дело мое завершено. Прошу у вашего величества позволения удалиться в Сито, в монастырь, где я числюсь игуменом, чтобы окончить там свои дни в молитве и покаянии.
Король, задетый некоторыми высокомерными выражениями этой речи, не проявил, вопреки ожиданиям кардинала, никаких признаков слабости, как это бывало всякий раз, едва только он начинал угрожать, что отстранится от дел. Наоборот, чувствуя на себе взгляды всего двора, король величественно посмотрел на него и холодно ответил:
– Что ж, мы благодарим вас за услуги, господин кардинал, и желаем вам покоя, о котором вы просите.
В глубине души Ришелье был потрясен; его охватил гнев, но он ничем не выдал себя. «Вот та самая холодность,– подумал он,– с которой ты допустил убийство Монморанси; но от меня ты так не избавишься». Поклонившись, он продолжал:
– За свои труды я прошу одну-единственную награду: соблаговолите, ваше величество, принять от меня в дар Кардинальский дворец, который я соорудил в Париже на собственные средства.
Король удивился, но кивнул в знак согласия. Среди насторожившихся придворных пробежал гул изумления.
– Припадаю также к стопам вашего величества и молю об отмене одной жестокой меры, которая была принята по моему предложению (признаюсь в этом публично), ибо я, быть может, без достаточных оснований, считал ее полезной для государства. Да, живя в миру, я ради блага государства часто подавлял в себе прежние чувства благоговения и привязанности; теперь мне уже светит свет отшельничества, и я понимаю, что был не прав. Я раскаиваюсь в этом.
Присутствующие еще более насторожились, а король стал проявлять явные признаки беспокойства.
– Да, государь, есть особа, перед которой я всегда благоговел, несмотря на то что она бывала несправедлива к вам и что государственные дела вынуждали меня находиться с ней во враждебных отношениях; особе этой я многим обязан, а вам она должна быть особенно дорога, невзирая на то, что предпринимала против вас действия, в которых даже применялось оружие; эту особу я прошу вас вернуть из изгнания: я имею в виду королеву Марию Медичи, вашу матушку.
У короля вырвался невольный возглас – до такой степени не ожидал он услышать это имя. На всех лицах появилось изумление, которое, однако, сразу же постарались сдержать. Присутствующие, затаив дыхание, ожидали, что ответит король. Людовик XIII долго смотрел на своего старого министра молча, и этот взгляд решил участь Франции. Король мгновенно припомнил все заслуги Ришелье, его безграничную преданность, его поразительные способности, и сам удивился тому, что хотел с ним расстаться; он был глубоко тронут этой просьбой, которая проникла в самую глубину его сердца, чтобы вырвать оттуда злобу, и отнимала у него единственное оружие, которым он располагал против своего старого слуги; сыновняя любовь внушала ему слова прощения и вызывала на глаза слезы; он был счастлив согласиться на то, чего и сам хотел больше всего на свете, и он протянул герцогу руку с тем неповторимым благородством и добротой, какие свойственны были Бурбонам. Кардинал поклонился и почтительно поцеловал ее, а его сердце, которое должно было разорваться от раскаяния, преисполнилось лишь горделивой радостью торжества.








