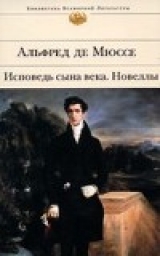
Текст книги "Исповедь сына века"
Автор книги: Альфред де Мюссе
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Проговорив все это, я упал в кресло, и слезы потоком хлынули у меня из глаз.
– Ах, Деженэ, – вскричал я, рыдая, – не это говорили вы мне. А разве вы не знали об этом? Если же знали, то почему не сказали?
Но Деженэ сидел неподвижно, сложив руки, словно для молитвы. Он и сам был бледен как смерть; слеза катилась по его щеке.
Несколько мгновений мы оба молчали. Раздался бой часов. И вдруг я вспомнил, что ровно год тому назад, в этот самый день, в этот самый час я узнал, что моя любовница изменяет мне.
– Слышите вы бой этих часов? – воскликнул я. – Слышите вы его? Я не знаю, что он возвещает мне теперь, но это страшная минута, и она будет решающей в моей жизни.
Я говорил это в страшном возбуждении, не понимая сам, что происходило во мне. Но почти в ту же секунду в комнату поспешно вошел слуга. Он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал вполголоса:
– Сударь, я пришел сообщить вам, что ваш отец при смерти. С ним сделался удар и доктора говорят, что он безнадежен.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Отец мой жил в деревне недалеко от Парижа. Приехав, я встретил на пороге врача, и он сказал мне:
– Вы опоздали. Ваш отец хотел обнять вас в последний раз.
Я вошел в комнату и увидел своего отца мертвым.
– Сударь, – сказал я врачу, – распорядитесь, пожалуйста, чтобы все ушли и оставили меня здесь одного. Отец мой хотел мне что-то сказать, и он скажет это.
По моему приказанию слуги вышли. Тогда я подошел к кровати и осторожно приподнял саван, которым уже успели закрыть лицо отца. Но едва я взглянул на него и бросился к нему, чтобы его поцеловать, как тут же лишился чувств.
Придя в себя, я услышал чей-то голос, говоривший:
– Если он будет просить об этом, придумайте какой угодно предлог, но не позволяйте.
Я понял, что решено было не допускать меня в комнату покойного, и притворился, что ничего не слышал. Увидев, что я спокоен, меня оставили одного. Я дождался, чтобы все в доме улеглись, взял свечу и вошел в спальню отца. Там я застал молодого священника, который сидел у его кровати.
– Сударь, – обратился я к нему, – было бы слишком смело оспаривать у сироты право провести последнюю ночь возле его отца. Я не знаю, что вам могли сказать по этому поводу, но прошу вас – перейдите в соседнюю комнату. Если что-нибудь случится, я беру это на себя.
Он вышел. Единственная свеча, стоявшая на столе, освещала постель. Я занял место священника и еще раз открыл лицо, которое мне более не суждено было видеть.
– Что вы хотели сказать мне, отец? – спросил я. – Какова была ваша последняя мысль, когда вы искали взглядом вашего сына?
Отец мой писал дневник, в котором имел привычку изо дня в день записывать все, что он делал. Дневник этот лежал сейчас на столе и был открыт. Я подошел к столу и опустился на колени. На развернутой странице было всего несколько слов: "Прощай, сын мой, я люблю тебя и умираю".
Я не проронил ни одной слезы, ни одно рыдание не вырвалось из моей груди. Горло мое было судорожно сжато, а губы словно скованы. Не двигаясь с места, я смотрел на отца.
Ему была известна моя беспорядочная жизнь, и поведение мое не раз служило ему поводом для огорчений и упреков. Во время наших свиданий он всегда говорил о моем будущем, о моей молодости и о моих безумствах. Его советы нередко вырывали меня из рук злой судьбы, и сила их была особенно велика потому, что его жизнь от начала и до конца могла служить образцом чистоты, спокойствия и доброты. Я предполагал, что перед смертью он пожелал меня видеть затем, чтобы еще раз попытаться убедить меня свернуть с того пути, по которому я шел, но смерть слишком поторопилась, внезапно он почувствовал, что успеет сказать одно только слово, и он сказал, что любит меня.
2
Невысокая деревянная ограда окружала могилу моего отца. Исполняя его волю, выраженную задолго до смерти, его похоронили на деревенском кладбище. Я ежедневно приходил сюда и просиживал большую часть дня на маленькой скамеечке, поставленной внутри ограды. Остальное время я проводил в одиночестве в том самом доме, где он умер, и держал при себе только одного слугу.
Каковы бы ни были страдания, причиняемые нам нашими страстями, нельзя сравнивать горести жизни с горем, вызываемым смертью. Первое, что я почувствовал, сидя у постели отца, было сознание, что я неразумный ребенок, который еще ничего не изведал и ничего не знает. Вместе с тем эта смерть вызвала в моем сердце ощущение чисто физической боли, и порой я в отчаянье ломал руки, словно неопытный юноша, внезапно познавший все бремя жизни.
В течение первых месяцев, проведенных мною в деревне, мне и в голову не приходили мысли о прошлом или о будущем. Мне казалось, что это не я жил до сих пор. То, что я испытывал, не было отчаянием и нисколько не походило на ту яростную боль, какую я ощущал прежде. Это была лишь какая-то нравственная разбитость, какая-то усталость и полное безразличие ко всему, сопровождавшееся, однако, жгучей горечью, которая подтачивала меня изнутри. Я по целым дням сидел с книгой в руках, но читал мало, или, вернее сказать, вовсе не читал и о чем-то задумывался – не знаю и сам о чем. У меня не было никаких мыслей, все во мне молчало. Удар, который меня поразил, был так силен и действие его было так продолжительно, что я превратился в какое-то пассивное существо, совершенно неспособное к сопротивлению.
Ларив – так звали моего слугу – был очень предан моему отцу. Пожалуй, после отца это был лучший человек, какого я когда-либо знал. Он был одного с ним роста и, не имея ливреи, носил старое платье отца, которое тот дарил ему. Он был почти одних лет с отцом, в волосах его тоже серебрилась седина, и так как в течение двадцати лет они не расставались друг с другом, то в его манере держаться появилось нечто схожее с манерами отца.
Расхаживая взад и вперед по своей комнате после обеда, я слышал, как Ларив ходит взад и вперед у себя в передней. Несмотря на то, что дверь моя была открыта, он никогда не входил ко мне, и мы не обменивались ни единым словом, но время от времени я замечал его слезы, а он видел мои. Так проходили вечера, и лишь после захода солнца, когда было совсем уже темно, я вспоминал о том, что пора попросить зажечь свечи, а он – о том, что пора принести их.
Все в доме оставалось без изменений, мы не тронули с места и листочка бумаги. Большое кожаное кресло отца по-прежнему стояло у камина; его стол, его книги – все было там же, где прежде. Я бережно относился даже к пыли, которая покрывала его мебель, потому что он не любил, когда ее переставляли при уборке. Пустынный дом, привыкший к тишине и полнейшему покою, не ощутил никакой перемены. Мне казалось только, что иной раз, когда, завернувшись в отцовский халат, я усаживался в его кресло, стены дома с состраданием смотрели на меня и чей-то тихий голос спрашивал: "Куда же ушел отец? Мы ясно видим, что тут сидит сирота".
Я получил из Парижа несколько писем и на все эти письма ответил, что хочу провести лето один в деревне, как это обычно делал мой отец. Я начинал проникаться той истиной, что во всяком несчастье есть какая-то частица счастья и что большое горе, что бы там ни говорили, это вместе с тем и большое успокоение. Каковы бы ни были вести, которые нам приносят посланцы божий, предупредив нас своим прикосновением, они всегда делают доброе дело, отвлекая нас от жизненных треволнений, и там, где раздается их голос, смолкает все остальное. Мимолетные горести богохульствуют и обвиняют небо, истинное горе не обвиняет и не богохульствует, оно внемлет.
По утрам я проводил целые часы, созерцая природу. Мои окна выходили на широкую долину, посреди которой возвышалась деревенская церковь. Все вокруг меня было бедно и спокойно. Зрелище весны, распускающихся цветов и листьев не производило на меня того мрачного впечатления, о котором говорят поэты, видящие в контрастах жизни глумление смерти. Мне кажется, что эта вздорная мысль, – если только она не является нарочитым противопоставлением, – на деле принадлежит тем людям, которые умеют чувствовать лишь наполовину. Игрок, выходя утром, после безобразно проведенной ночи, с горящим взглядом и пустыми руками, может чувствовать себя врагом природы, но что дурного могут сказать зеленеющие листья сыну, который оплакивает своего отца? Слезы, льющиеся из его глаз, – родные сестры росы. Листья плакучей ивы – это те же слезы. Именно глядя на небо, леса и луга, я понял, что представляют собой люди, которые воображают, будто они нашли утешение.
У Ларива не было ни малейшей охоты утешать меня или искать утешения самому. Когда умер мой отец, старик испугался, как бы я не продал дом и не увез его с собой в Париж. Не знаю, была ли ему известна моя прежняя жизнь, но вначале он обнаруживал беспокойство. Когда же он понял, что я прочно водворился в доме, он только взглянул на меня, и его взгляд проник мне в самое сердце. Это было в тот день, когда, по моему приказанию, привезли из Парижа большой портрет отца и повесили его в столовой. Войдя в столовую, чтобы прислуживать за столом, Ларив увидел его. Он остановился в нерешимости, взглядывая то на портрет, то на меня. В его глазах была такая грустная радость, что я не мог устоять перед ней. Казалось, он говорил мне: "Какое счастье! Так, значит, мы будем страдать спокойно!" Я протянул ему руку, и он, рыдая, покрыл ее поцелуями.
Он, так сказать, ухаживал за моим горем, как за хозяином своего собственного. По утрам, подходя к могиле отца, я заставал его там за поливкой цветов. Увидев меня, он тотчас же удалялся и шел домой. Он сопровождал меня во время моих прогулок. Так как обычно я ехал на лошади, а он шел пешком, то я не позволял ему следовать за мной, но не успевал я отъехать и на сто шагов, как Ларив появлялся сзади, с палкой в руке, отирая пот со лба. Я купил ему у одного из местных крестьян лошадку, и мы стали вместе разъезжать по лесам.
В деревне жило несколько человек, которые прежде часто бывали в доме отца. Моя дверь оказалась закрытой для них. Подчас я и сам жалел об этом, но все люди вызывали во мне раздражение. Погруженный в свои одинокие думы, я решил, спустя некоторое время после смерти отца, ознакомиться с оставшимися после него бумагами. Ларив принес их мне с благоговейным почтением и, дрожащей рукой развязав пачки, разложил их передо мной.
С первых же строк я почувствовал в сердце ту живительную свежесть, какая стоит в воздухе над тихим озером. Безмятежная ясность души моего отца, словно благоухание, лилась с пыльных страничек по мере того, как я перелистывал их. Вся его жизнь развернулась предо мной, и я мог сосчитать биения этого благородного сердца – день за днем. Я с головой ушел в бесконечные сладкие грезы, и, несмотря на серьезный и твердый тон, господствовавший в этих записках, я открыл в них неизъяснимую прелесть спокойное сияние его доброты. Когда я читал, мысль о смерти отца все время примешивалась к повести его жизни, и не могу передать, с какой грустью я следил за течением этого прозрачного ручья, который на моих глазах исчез в Океане.
– О праведник, – восклицал я, – человек без страха и упрека! Как ясен твой путь! Преданность друзьям, божественная нежность к моей матери, преклонение перед природой, возвышенная любовь к богу – вот твоя жизнь! Ни для чего иного не было места в твоем сердце. Девственный снег на вершинах гор не чище твоей святой старости, твои седины напоминали его. О отец, отец! Отдай их мне, они моложе моих белокурых волос. Научи меня жить и умереть, как ты. Я посажу на той земле, где ты спишь, зеленую ветвь моей новой жизни, я орошу ее моими слезами, и бог – покровитель всех сирот даст ей взойти над благочестивой скорбью ребенка и над воспоминаниями старика.
Прочитав эти дорогие мне бумаги, я привел их в порядок и принял решение также писать свой дневник. Я велел переплести точно такую же тетрадь, какая была у отца, и, тщательно изучив по его дневнику распорядок его жизни, взял за правило следовать ему до мельчайших подробностей. Бой часов всякий раз вызывал слезы на моих глазах. "Вот что делал в этот час мой отец", – говорил я себе, и, что бы это ни было – чтение, прогулка или завтрак, – я всегда делал то же. Таким образом я приучил себя к жизни спокойной, размеренной, и эта пунктуальная точность была бесконечно мила моему сердцу. Я ложился спать в блаженном состоянии, которое моя грусть делала еще приятнее. Отец мой много времени уделял уходу за своим садом; остаток дня он посвящал наукам, прогулке, причем физический труд строго чередовался у него с работой ума. Я унаследовал также его привычку к благотворительности и продолжал делать для несчастных то, что делал он. Во время моих поездок по окрестностям я старался отыскать людей, которые могли нуждаться во мне, – а таких в нашей долине было немало, – и вскоре бедняки стали издали узнавать меня. Сказать ли?.. Да, я смело скажу: доброе сердце только очищается страданием. Впервые в жизни я был счастлив. Бог благословлял мои слезы, а страдания учили меня добродетели.
3
Однажды вечером, гуляя по липовой аллее на окраине деревни, я увидел, как из одного уединенно стоявшего домика вышла молодая женщина. Она была одета очень просто и носила вуаль, так что я не мог видеть ее лица, но ее фигура и походка показались мне столь очаровательными, что я еще долго следил за ней взглядом. Когда она проходила по соседнему лугу, к ней подбежал белый козленок, который пасся там на свободе. Она погладила его и стала осматриваться по сторонам, словно отыскивая его любимую травку. Возле меня росло дикое тутовое дерево. Я отломил от него ветку и направился к ним, держа ветку в руке. Козленок медленно и боязливо пошел мне навстречу, потом остановился, не решаясь взять ветку из моих рук. Его хозяйка махнула ему рукой, словно желая ободрить его. Но козленок продолжал с беспокойством оглядываться на нее. Тогда молодая женщина подошла ко мне и положила на ветку свою руку, после чего козленок сейчас же взял ветку. Я поклонился, и молодая женщина продолжала свой путь.
Придя домой, я описал Лариву то место, где я был, и спросил, не знает ли он, кто живет там, в маленьком, скромного вида домике с садом. Ему был знаком этот дом. Единственными его обитательницами были две женщины – одна пожилая, слывшая очень благочестивой, и другая – молодая, имя которой было г-жа Пирсон. Должно быть, ее-то я и видел. Я спросил у Ларива, кто она и бывала ли она у моего отца. Он ответил, что она вдова, ведет уединенную жизнь и что ему случалось видеть ее у отца, но редко. Это было все, что он мне сообщил. Затем я снова вышел из дому, вернулся к своим липам и сел на скамейку.
Какая-то странная грусть внезапно овладела мною, когда козленок опять подошел ко мне. Я встал, рассеянно глядя на тропинку, по которой пошла раньше г-жа Пирсон, задумчиво побрел по ней и, погруженный в свои мечты, зашел довольно далеко в горы.
Было около одиннадцати часов вечера, когда я вспомнил о том, что пора возвращаться домой. Устав от долгой ходьбы, я направился к видневшейся неподалеку ферме, намереваясь спросить чашку молока и кусок хлеба. К тому же крупные капли начинавшегося дождя предвещали грозу, и я решил переждать ее там. Несмотря на то, что в доме горел свет и оттуда доносился шум шагов, никто не ответил на мой стук, и я подошел к окну, чтобы посмотреть, есть ли там кто-нибудь.
В маленькой комнате ярко горел огонь; знакомый мне фермер сидел возле кровати. Я стукнул в стекло и окликнул его по имени. В ту же минуту дверь отворилась, и я с изумлением увидел г-жу Пирсон, которую тотчас узнал.
– Кто там? – спросила она.
Ее присутствие здесь было для меня столь неожиданным, что я не мог скрыть своего изумления. Попросив у нее позволения укрыться от дождя, я вошел в комнату. Я никак не мог понять, что она делает в столь поздний час на этой отдаленной ферме, затерянной среди полей, как вдруг чей-то жалобный стон заставил меня обернуться, и я увидел жену фермера, которая лежала на кровати с печатью смерти на лице.
Госпожа Пирсон, шедшая вслед за мной, села на свое прежнее место напротив бедняка-фермера, видимо подавленного горем, и сделала мне знак не шуметь: больная спала. Я взял стул и сел в уголке, собираясь переждать грозу.
Пока я сидел там, г-жа Пирсон то и дело вставала, подходила к постели, что-то шепотом говорила фермеру. Один из малышей, которого я усадил к себе на колени, рассказал мне, что с тех пор как мать больна, г-жа Пирсон приходит к ним каждый вечер, а иногда проводит здесь и всю ночь. Она была в этих краях настоящей сестрой милосердия, другой в деревне и не было. Кроме нее, был единственный врач, весьма невежественный.
– Это Бригитта-Роза, – тихо сказал мне малыш. – Разве вы не знаете ее?
– Нет, – ответил я ему так же тихо. – А почему ее называют Розой?
Он ответил, что не знает, что, кажется, когда-то, когда она была еще девушкой, ее наградили венком из роз за скромность, и с тех пор это имя так и осталось за ней.
Госпожа Пирсон была теперь без вуали, и я мог рассмотреть ее лицо. Когда мальчик отошел, я поднял голову и взглянул на нее. Она стояла у кровати и, держа в руке чашку, подносила ее к губам проснувшейся крестьянки. Она показалась мне бледной и немного худощавой, волосы у нее были белокурые с пепельным оттенком. Я не мог бы назвать ее красавицей. Но ее большие черные глаза были устремлены на больную, бедное умирающее существо тоже смотрело на нее, и в этом бесхитростном обмене милосердия и благодарности была та высшая красота, какую нельзя передать словами.
Дождь все усиливался, глубокий мрак окутывал пустынные поля, на секунду освещавшиеся резкими вспышками молнии. Шум грозы, завывание ветра, гнев разнузданных стихий, бушевавших над соломенной крышей, – все это, именно по контрасту с благоговейным молчанием, царившим в хижине, придавало еще большую святость сцене, которой я был свидетелем, придавало ей какое-то странное величие. Я смотрел на это жалкое ложе, на залитые дождем стекла, на густые клубы дыма, возвращаемые назад порывами ветра, на тупое отчаяние фермера, на суеверный страх детей, на всю эту неистовую ярость, осаждавшую обитель умирающей, и когда взор мой падал на кроткую и бледную женщину, которая ходила на цыпочках взад и вперед, ни на минуту не прекращая своих терпеливых благодеяний, и, видимо, не замечала ни бури, ни нашего присутствия, ни своего мужества, ничего, кроме того, что кто-то нуждается в ней, мне казалось, что в спокойной работе этой женщины есть нечто такое, что яснее самого прекрасного безоблачного неба и что сама она, окруженная всеми этими ужасами, но ни на минуту не теряющая упования на своего бога, – какое-то неземное существо.
"Кто же она? – спрашивал я себя. – Откуда она явилась? И давно ли она в этих краях? Очевидно, давно, если здесь еще помнят, как ее наградили венком из роз. Как могло случиться, что я до сих пор ничего не слышал о ней? Она приходит одна в эту хижину, приходит так поздно. А если опасность минует и ее больше не позовут сюда, она, конечно, пойдет к другим страждущим. Да, просто одетая, под вуалью, она проходит сквозь все эти грозы, леса и горы, неся жизнь туда, где она гаснет, держа в руке эту маленькую хрупкую чашу и лаская мимоходом своего козленка. Таким же спокойным и тихим шагом она идет навстречу и собственной смерти. Да, вот что она делала в этой долине, пока я бегал по притонам. Должно быть, она и родилась тут и тут ее похоронят в скромном уголке кладбища, рядом с милым моим отцом. Так умрет эта безвестная женщина, о которой никто не говорит и только дети с удивлением спрашивают: "Разве вы не знаете ее?"
Не могу передать, что я чувствовал в эти минуты. Я неподвижно сидел в углу, боясь вздохнуть. Мне казалось, что если бы я попробовал помочь ей, если бы протянул руку, чтобы избавить ее от лишнего шага, то совершил бы святотатство, словно коснувшись священных сосудов.
Гроза продолжалась около двух часов. Когда она утихла, больная, приподнявшись на подушке, сказала, что ей лучше и что лекарство, которое она приняла, помогло ей. Дети тотчас подбежали к ее постели и, цепляясь за юбку г-жи Пирсон, глядели на мать широко раскрытыми глазами, в которых светились и тревога и радость.
– Еще бы! – сказал муж, не двинувшись с места. – Ведь мы отслужили обедню за твое здоровье, и она стоила нам немалых денег!
При этих грубых и глупых словах я взглянул на г-жу Пирсон. Синие круги под глазами, бледность, вся ее поза ясно указывали на усталость, на то, что бессонные ночи подрывают ее здоровье.
– Бедный мой муженек, – ответила больная, – пусть бог вознаградит тебя за это!
Я не мог больше выдержать. Взбешенный тупостью этих грубых существ, которые милосердие ангела ценили менее, нежели услугу корыстолюбивого священника, я вскочил с места, собираясь упрекнуть их в черной неблагодарности и разбранить, как они того заслуживали, но в эту минуту г-жа Пирсон взяла на руки одного из Малышей крестьянки и с улыбкой сказала ему:
– Поцелуй свою мать, она спасена.
Услышав эти слова, я остановился. Никогда еще наивное удовлетворение счастливого и доброго сердца не выражалось с большей искренностью на более милом и кротком лице. Теперь на нем не было ни усталости, ни бледности, оно сияло чистейшей радостью. Молодая женщина тоже возносила благодарность богу: больная заговорила, и не все ли равно, что она сказала.
Несколько минут спустя г-жа Пирсон попросила детей разбудить работника, чтобы тот проводил ее домой. Я подошел к ней и предложил свои услуги. Я сказал, что незачем будить работника, так как нам по дороге и что она окажет мне честь, если позволит проводить ее.
Она спросила, не я ли Октав де Т. Я ответил утвердительно и в свою очередь спросил, помнит ли она моего отца. Мне показалось несколько странным, что этот вопрос вызвал у нее улыбку. Она непринужденно взяла меня под руку, и мы отправились в путь.
4
Мы шли молча. Ветер стихал, деревья бесшумно трепетали, стряхивая с веток капли дождя. Изредка вспышки молнии еще сверкали где-то вдалеке. Потеплевший воздух был полон аромата влажной зелени. Вскоре небо очистилось, и луна осветила горы.
Я не мог не думать о странной случайности, пожелавшей, чтобы я оказался ночью, среди пустынных полей, единственным спутником женщины, о существовании которой еще не подозревал несколько часов назад, при восходе солнца. Она позволила мне сопровождать себя благодаря имени, которое я носил, и теперь шла уверенным шагом, рассеянно опираясь на мою руку. Мне казалось, что источником этой доверчивости была либо большая смелость, либо большое простодушие, и, должно быть, в ней действительно было и то и другое, потому что с каждым нашим шагом я чувствовал, как мое сердце становится благородным и чистым.
Мы начали беседовать о больной, от которой шли, обо всем, что попадалось по дороге. Нам и в голову не приходило задавать друг другу те вопросы, какими обычно обмениваются люди при первом знакомстве. Она заговорила о моем отце – все тем же тоном, каким ответила на мой вопрос, помнит ли она его, – то есть почти весело. Слушая ее, я, кажется, начал понимать причину этой веселости: она говорила так не только о смерти, но и о жизни, о страданиях, обо всем на свете. Дело в том, что зрелище людских горестей не отнимало у нее веры в бога, и я почувствовал все благочестие ее улыбки.
Я рассказал ей об уединенной жизни, которую я вел. Из ее слов я узнал, что тетушка ее чаще виделась с моим отцом, нежели она сама, по вечерам они вместе играли в карты. Она пригласила меня бывать у нее, сказав, что я буду желанным гостем в ее доме.
На полпути она почувствовала усталость и присела на скамейку, которую густые деревья защитили от дождя. Я стоял перед ней и смотрел, как бледные лучи луны освещают ее лицо. После недолгого молчания она встала.
– О чем вы задумались? – спросила она, увидев, что я медлю. – Пора идти.
– Я спрашивал себя, – ответил я, – для чего вас создал бог, и решил, что, должно быть, он создал вас для того, чтобы врачевать страждущих.
– Вот фраза, которая в ваших устах может быть только комплиментом, возразила она.
– Почему?
– Потому что вы кажетесь мне слишком молодым.
– Иногда человек бывает старше своей наружности, – сказал я.
– А иногда человек бывает моложе своих слов, – со смехом ответила она.
– Разве вы не верите в опытность?
– Я знаю, что этим словом большинство мужчин называет свои безрассудства и свои огорчения. Что можно знать в ваши годы?
– Сударыня, мужчина в двадцать лет может иметь больший жизненный опыт, чем женщина – в тридцать. Свобода, которой пользуются мужчины, быстрее приводит их к познанию сущности вещей. Они беспрепятственно идут туда, куда их влечет. Они пытаются изведать все. Как только им улыбнется надежда, они тотчас пускаются в путь, бегут, спешат. Оказавшись у цели, они оборачиваются: надежда осталась позади, а счастье обмануло.
Когда я говорил это, мы находились на вершине небольшого холма, откуда начинался спуск в долину. Как бы увлеченная крутизною склона, г-жа Пирсон слегка ускорила шаг. Я невольно последовал ее примеру, и мы побежали вприпрыжку, не разнимая рук, скользя по влажной траве. Наконец, прыгая и смеясь, мы, словно две беззаботные птицы, добрались до подножия холма.
– Вот видите! – сказала г-жа Пирсон. – Еще недавно я чувствовала усталость, а сейчас больше не ощущаю ее... И знаете что, – добавила она самым милым тоном, – я бы посоветовала вам обращаться с вашей опытностью точно так же, как я со своей усталостью. Мы совершили отличную прогулку и теперь поужинаем с большим аппетитом.
5
Я пошел к ней на другой же день. Я застал ее за фортепьяно, старая тетушка вышивала у окна, комнатка была полна цветов, чудеснейшее в мире солнце светило сквозь спущенные жалюзи, большая клетка с птицами стояла рядом со старушкой.
Я ожидал найти в ней чуть ли не монахиню, или по меньшей мере одну из тех провинциалок, которые не знают, что происходит на расстоянии двух лье от их очага, и живут в замкнутом кругу, никогда не выходя за его пределы. Должен сознаться, что люди, ведущие такое обособленное существование, всегда отпугивали меня. Погребенные в городах под тысячей неведомых кровель, их жилища похожи на водоемы со стоячей водой. Мне кажется, что там можно задохнуться: во всем, что дышит забвением на этой земле, всегда есть частица смерти.
На столе у г-жи Пирсон лежали свежие газеты и книги – правда, она даже не разворачивала их. Несмотря на простоту всего, что ее окружало, в ее мебели, в ее платьях чувствовалась мода, другими словами – новизна, жизнь. Она не уделяла этому особого внимания, не занималась этим, но все делалось само собой. Что касается ее вкусов, то, как я сразу заметил, вокруг нее не было ничего вычурного, все дышало молодостью и было приятно для глаза. Беседа ее свидетельствовала о солидном образовании. Она обо всем говорила непринужденно и со знанием предмета. Несмотря на ее простоту, в ней чувствовалась глубокая и богатая натура. Разносторонний и самостоятельный ум тихо парил над бесхитростным сердцем и привычками к уединенной жизни. Так чайка, кружащаяся в небесной лазури, парит с высоты облаков над кустами, где она свила свое гнездо.
Мы разговаривали о литературе, о музыке, чуть ли не о политике. Этой зимой она ездила в Париж. Время от времени она появлялась и в свете. То, что она там видела, служило ей основой, остальное дополнялось с помощью догадок.
Но самой характерной чертой г-жи Пирсон была ее веселость – веселость, которая не переходила в радость, но была неистощима. Казалось, что она родилась цветком и что эта веселость была его благоуханием.
При ее бледности и больших черных глазах это как-то особенно поражало, – тем более что некоторые ее слова, некоторые взгляды ясно говорили о том, что когда-то она страдала и что жизнь оставила на ней свой след. Всматриваясь в нее, вы почему-то чувствовали, что кроткая ясность ее чела была дарована ей не в этом мире, что она дана богом и будет в полной неприкосновенности возвращена богу, несмотря на общение с людьми. И в иные минуты г-жа Пирсон напоминала заботливую хозяйку, защищающую от порывов ветра робкое пламя своей свечи.
Пробыв в ее комнате каких-нибудь полчаса, я не смог удержаться, чтобы не высказать ей всего, что было у меня на сердце. Я думал о своем прошлом, о своих огорчениях, о своих заботах. Я расхаживал взад и вперед, нагибаясь к цветам, вдыхая их аромат, любуясь солнцем. Я попросил ее спеть, она охотно исполнила мою просьбу. Пока она пела, я стоял, облокотясь на подоконник, и смотрел, как прыгают в клетке ее птички. Мне пришло в голову изречение Монтеня: "Я не люблю и не уважаю грусть, хотя люди точно сговорились окружить ее особым почетом. Они облачают в нее мудрость, добродетель, совесть. Глупое и дурное украшение".
– Какое счастье! – невольно вскричал я. – Какой покой! Какая радость! Какое забвение!
Добрая тетушка подняла голову и взглянула на меня с удивленным видом. Г-жа Пирсон перестала петь. Я густо покраснел, сознавая всю нелепость своего поведения, и сел, не сказав более ни слова.
Мы вышли в сад. Белый козленок, которого я видел накануне, лежал там на траве. Заметив свою хозяйку, он тотчас подбежал к ней и пошел за нами уже как старый знакомый.
Когда мы собирались повернуть в аллею, у калитки вдруг появился высокий бледный молодой человек, закутанный в какое-то подобие черной сутаны. Он вошел не позвонив и поздоровался с г-жой Пирсон. Я заметил, что его физиономия, которая и без того показалась мне мало приятной, несколько омрачилась, когда он меня увидел. Это был священник, и я уже встречал его в деревне. Его звали Меркансон. Он недавно окончил курс в семинарии св.Сульпиция и состоял в родстве с местным кюре.
Он был одновременно тучен и бледен, что никогда не нравилось мне и что действительно производит неприятное впечатление: болезненное здоровье, ну, не бессмыслица ли это? К тому же у него была медленная и отрывистая манера говорить, изобличавшая педанта. Даже его походка, в которой не было ничего молодого, ничего решительного, отталкивала меня. Что же касается его взгляда, то взгляда у него, можно сказать, не было вовсе. Не знаю, что думать о человеке, глаза которого ничего не выражают. Вот признаки, по которым я составил себе мнение о Меркансоне и которые, к несчастью, не обманули меня.
Он уселся на скамейку и начал говорить о Париже, называя его современным Вавилоном. Он только что прибыл оттуда и знал решительно всех. Он бывал у г-жи де Б., это сущий ангел. Он читал проповеди в ее салоне, и их слушали, преклонив колена. (Хуже всего было то, что он говорил правду.) Одного из его друзей, которого он сам ввел туда, недавно выгнали из коллежа за то, что он обольстил одну девицу, и это очень дурно, очень печально. Он наговорил тысячу любезностей г-же Пирсон, восторгаясь ее благотворительной деятельностью. До него дошли слухи о ее благодеяниях, о том, как она заботится о больных, вплоть до того, что сама ухаживает за ними. Это так прекрасно, так благородно. Он не преминет рассказать об этом в семинарии св.Сульпиция. Уж не собирался ли он сообщить об этом и самому господу богу?








