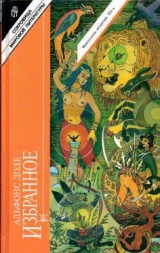
Текст книги "Фромон младший и Рислер старший"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
II. ЖЕМЧУЖИНА НАСТОЯЩАЯ И ЖЕМЧУЖИНА ПОДДЕЛЬНАЯ
«Что с ней такое? Что я ей сделала?» – часто спрашивала себя Клер Фромон, думая о Сидони.
Она понятия не имела о том, что произошло когда-то в Савиньи между ее подругой и Жоржем. Прямая, бесхитростная натура, она даже не подозревала, какое завистливое и низкое честолюбие произрастало рядом с нею в течение пятнадцати лет. А между тем загадочный взгляд, который порою бросала на нее Сидони, и холодная улыбка, появлявшаяся на ее хорошеньком личике, безотчетно волновали ее. Подчеркнутая вежливость, неуместная между подругами детства, сменялась вдруг у Сидони вспышками плохо скрытого гнева, сухим, резким тоном, приводившим Клер в недоумение, как неразрешимая загадка. Порой к ее беспокойству примешивалось странное, смутное предчувствие большого несчастья, – ведь все женщины в какой-то мере ясновидящие и даже у самых неискушенных при всем их неведении зла бывают иногда проблески удивительной прозорливости.
Случалось, что после какого-нибудь продолжительного разговора или одной на тех неожиданных встреч, когда застигнутые врасплох лица выдают затаенные мысли, г-жа Фромон невольно задумывалась над странным поведением Сидони, но повседневная жизнь с ее обязанностями и заботами не давала ей времени останавливаться на таких мелочах.
Для каждой женщины наступает период, когда жизнь делает вдруг такой крутой поворот, что сразу меняется весь ее кругозор, все прежние взгляды.
Будь Клер молодой девушкой, ее сильно огорчило бы сознание, что связывающие их узы дружбы постепенно рвутся, словно от прикосновения чьей-то злой руки. Но за это время она потеряла отца – самую большую, единственную привязанность своей юности, – потом вышла замуж. Появился ребенок с его милыми непрерывными требованиями. Кроме того, с нею жила мать, почти впавшая в детство, отупевшая после трагической смерти мужа. При такой, полной забот, жизни Клер не могла уделять особого внимания капризам Сидони; она даже почти не удивилась ее браку с Рислером. Конечно, он слишком стар для нее, но раз они любят друг друга…
Ну, а досадовать на то, что маленькая Шеб заняла такое положение, стала ей почти ровней, – такие низкие чувства были несвойственны благородной натуре Клер. Напротив, она от всего сердца хотела бы видеть счастливой и уважаемой эту молодую женщину, которая жила бок о бок с нею, жила, можно сказать, ее жизнью и была подругой ее детства. Она искренне пыталась научить ее чему-нибудь, ввести в свое общество, поступала с ней так, как поступают с одаренной провинциалкой, которой недостает очень немногого, чтобы стать очаровательной.
Но молодые хорошенькие женщины неохотно принимают друг от друга советы. Как-то раз, в день званого обеда, г-жа Фромон увела Сидони в свою комнату и, улыбаясь, мягко, чтобы не обидеть ее, сказала:
– Слишком много драгоценностей, дорогая. Затем, видишь ли, при закрытых платьях не носят цветов в волосах…
Сидони покраснела, поблагодарила подругу, но в глубине души затаила против нее еще одну обиду.
В кругу Клер ее приняли довольно холодно.
У Сен-Жерменского предместья свои претензии, у Маре – свои!
Жены и дочери промышленников и богатых фабрикантов знали историю маленькой Шеб, но они угадали бы ее по одной только манере Сидони держать себя с ними.
Как ни старалась она подладиться под их тон, в ней все-таки проглядывала бывшая мастерица. Ее преувеличенная, иногда слишком заискивающая любезность шокировала, как фальшивый тон лавочников, а ее надменность напоминала надменность старших продавщиц из модных магазинов, этих особ, что, щеголяя в черных шелковых платьях, которые они вечером, уходя, оставляют в гардеробной, и гордясь своими пышными прическами, величественно ввирают на мелких людишек, позволяющих себе торговаться.
Сидони чувствовала, что за ней наблюдают, что ее критикуют, ей всегда приходилось быть начеку. Имена, которые называли в ее присутствии, развлечения, празднества, книги, о которых при ней говорили, – все это было ей незнакомо. Клер по мере сил посвящала ее во все, старалась чуть что протянуть ей дружескую руку. Но многие из этих дам находили Сидони красивой, а этого было достаточно, чтобы ее вторжение в их общество вызвало всеобщее недовольство. Некоторые из них, кичась положением и богатством своих мужей, из кожи лезли, чтобы унизить эту маленькую выскочку оскорбительным молчанием или снисходительной вежливостью.
Сидони объединяла их всех в одном слове – враги. Подруги Клер – это значило: ее враги. Но настоящую неприязнь питала она только к ней одной.
Компаньоны понятия не имели о том, что происходило между их женами.
Рислер-старший, поглощенный изобретением печатной машины, просиживал иногда до глубокой ночи за чертежным столом. Фромон-младший проводил целые дни вне дома, завтракал в клубе и почти никогда не бывал на фабрике. У него были на то свои причины.
Соседство Сидони волновало его. Воспоминания о былом пылком увлечении, о любви, принесенной в жертву последней воле дяди, преследовали его вместе с сожалением о том, что уже ничего нельзя поправить, и, чувствуя свою слабость, он избегал Сидони. Это был мягкий, бесхарактерный человек, достаточно умный, чтобы разобраться в себе, но слишком безвольный, чтобы управлять собою. В вечер свадьбы Рислера Жорж, хотя сам женился всего несколько месяцев назад, вновь был охвачен в присутствии этой женщины тем волнением, какое испытывал когда-то в грозовой вечер в Савнньи. С тех пор он инстинктивно избегал встреч с нею, разговоров о ней. К несчастью, они жили в одном доме, женщины по десять раз в день заходили друг к другу, нечаянные встречи были неизбежны. И получалось так, что муж, желая остаться верным семейному очагу, совершенно забросил его и стал искать развлечений вне дома.
Клер нисколько не удивлялась атому. Отец приучил ее к постоянным отлучкам «по делам». В отсутствие мужа, верная долгу жены и матери, она придумывала для себя бесконечные обязанности, всевозможные занятия: гуляла с ребенком или же отдыхала на солнышке, радуясь, что так хорошо растет ее девочка, а потом возвращалась домой, вся пронизанная весельем и смехом играющих на воздухе малышей, с отблеском их радости в своих всегда серьезных глазах.
Сидони тоже много выходила. Поздно вечером коляска Жоржа, въезжая в ворота, заставляла сторониться г-жу Рислер в роскошном туалете, возвращавшуюся после продолжительных прогулок по Парижу. Бульвары, витрины магазинов, покупки, которые она делала не торопясь, как бы наслаждаясь новым для нее удовольствием покупать, задерживали ее подолгу вне дома. Они обменивались поклоном и холодным взглядом на повороте лестницы. Жорж, словно спасаясь от опасности, поспешно входил к себе и, чтобы скрыть только что пережитое волнение, принимался ласкать ребенка, которого протягивала ему жена.
А Сидони, казалось, все забыла и сохраняла одно лишь презрение к этому безвольному, малодушному человеку. К тому же ее мысли были заняты сейчас совсем другим.
В их красной гостиной, в простенке между окнами, стояло теперь пианино, которое недавно купил ей муж.
После долгих колебаний она наконец решила заняться пением, считая, что уже поздно начинать учиться игре на фортепьяно. Два раза в неделю г-жа Добе он, красивая сентиментальная блондинка, приходила давать ей урок от двенадцати до часу дня. Ее протяжные «а… а… а…» и «о… о… о…», настойчиво повторяемые по десять раз кряду при открытых окнах, разносились в тишине близлежащих дворов, придавая фабрике сходство с пансионом.
Да и в самом деле, это упражнялась школьница, неопытное и легкомысленное создание, полное скрытых желаний, существо, которому нужно было еще многому учиться и много узнать, чтобы стать настоящей женщиной. Но честолюбие Сидони не простиралось дальше желания усвоить внешний лоск.
«Клер Фромон играет на рояле, а я… я буду петь… Она слывет за изящную, утонченную женщину, – я хочу, чтобы так же отзывались и обо мне».
Но она и не думала чему-нибудь учиться, а проводила целые дни в беготне по магазинам и поставщикам, интересуясь только тем, «что будут носить этой зимой». Ее привлекала роскошь витрин, все, что бросается в глаза прохожим.
Она так долго перебирала поддельные жемчужины, что на кончиках ее пальцев остался как бы налет их искусственного перламутрового отлива, что-то от их хрупкости, от их эфемерного блеска. Она и сама была поддельной жемчужиной, круглой, блестящей, вставленной в хорошую оправу жемчужиной, которая легко могла обмануть толпу, тогда как Клер Фромон была жемчужиной настоящей, с великолепным, но скромным блеском, и, когда обе женщины бывали вместе, разница между ними резко бросалась в глаза. Сразу скажешь, что одна была жемчужиной всегда. Маленькая жемчужинка в детстве, она с годами приобрела изящество и благородство, превратившие ее в натуру редкую, незаурядную. Другая, напротив, была произведением Парижа, этого ювелира, создающего поддельные драгоценности и тысячи безделушек, прелестных и блестящих, но непрочных, плохо отделанных и плохо скрепленных, настоящим продуктом той мелкой промышленности, в которой когда-то подвизалась она сама.
Особую зависть возбуждал в Сидони ребенок Клер – нарядная куколка, вся в лентах: лентами был украшен и полог колыбели и чепчик ее кормилицы. Сидони, конечно, не прельщали сладостные обязанности матери, требующие большого терпения и самоотречения, она не думала ни о долгих укачиваниях, которыми призывают сон ребенка, когда он не может уснуть, ни о веселом утреннем умывании, брызжущем свежей холодной водой. Нет! С ребенком у нее связывалась только мысль о прогулке… Ведь так красивы развевающиеся ленты и длинные перья, весь этот наряд кормилиц, сопровождающих молодых матерей в уличной сутолоке!
А вот ее некому было сопровождать, кроме родителей и мужа, и она предпочитала выходить одна. Рислер так нелепо выражал свою влюбленность: он играл с женой, как с куклой, – то ущипнет ее за щеку или за подбородок, то вертится вокруг нее с криками «Агу! Агу!» или же смотрит на нее большими умильными глазами, как преданный, ласковый пес. Она стыдилась этой глупой любви, превращавшей ее в подобие фарфоровой безделушки. А родители были ей только помехой в том обществе, какое она хотела видеть у себя, и она тут же после свадьбы поторопилась избавиться от них, сняв им маленький домик в Монруже. Это сразу прекратило частые вторжения Шеба, являвшегося в длинном сюртуке, и бесконечные визиты мамаши Шеб, к которой вместе с обеспеченным существованием вернулись и прежние привычки к сплетням и безделью.
Сидони не прочь была бы удалить заодно и Делобелей, – их соседство тяготило ее. Но Маре, расположенное поблизости от Больших бульваров, где было много театров, являлось центром для старого актера. К тому же Дезире, как и все затворники, дорожила открывавшимся из окна видом, к которому она привыкла, и унылый двор, где зимою уже с четырех часов темнело, казался ей другом, как бы знакомым лицом, которое, когда его освещало солнце, словно посылало ей улыбку. Не имея возможности избавиться от старых друзей, Сидони просто перестала встречаться с ними.
Ее жизнь, в сущности, была бы очень одинока и печальна, если б не развлечения, которые порой доставляла ей Клер Фромон. Но каждый раз это приводило ее в бешенство.
«Неужели все должно исходить от нее?» – думала она.
И если иногда во время обеда ей приносили с нижнего этажа билет в ложу или приглашение на вечер, она приходила в восторг от того, что может показаться в свете, но, одеваясь на бал, только и думала, как бы затмить соперницу. Впрочем, такие случаи становились все реже, так как Клер все больше и больше времени отдавала ребенку. Но когда дедушка Гардинуа приезжал в Париж, он никогда не упускал случая объединить обе семьи. Для полноты удовольствия старому крестьянину необходимо было присутствие Сидони, которую не отпугивали его шуточки. Он угощал всех обедом у Филиппа, в своем излюбленном ресторане, где он хорошо знал хозяев, официантов и смотрителя винного погреба, тратил там много денег и оттуда вез всю компанию в Комическую оперу или в Пале-Рояль, где уже заранее была заказана ложа.
В театре он громко смеялся, фамильярно разговаривал с капельдинершами – совсем как с официантами у Филиппа, – развязно требовал скамеечки для дам, а по окончании спектакля всегда стремился первым получить пальто и меха, как будто он был здесь единственным выскочкой с трехмиллионным состоянием.
Для этих несколько шокирующих выездов, от которых ее муж большею частью уклонялся. Клер с присущим ей тактом одевалась очень скромно, не желая бросаться в глаза. Сидони, напротив, распускала все паруса: расположившись в ложе на переднем плане, она непринужденно смеялась рассказам «дедушки», довольная, что спустилась со второго и третьего ярусов – своих прежних мест – в эти прекрасные, украшенные зеркалами ложи, бархатные барьеры которых казались ей предназначенными для ее светлых перчаток, бинокля из слоновой кости и веера с блестками. Банальное великолепие общественных мест, красные с позолотой обои – все это было для нее подлинной роскошью. Она красовалась в этой обстановке, как хорошенький бумажный цветок в филигранной жардиньерке.
Как-то вечером, на представлении одной модной пьесы в Пале-Рояле, где присутствовало много накрашенных «знаменитостей» в крохотных шляпках и вооруженных огромными веерами, среди всех этих женщин, чьи намалеванные лица, поднимаясь над декольтированными корсажами, выступали на полумрака бенуара, словно ожившие портреты, осанка Сидони, ее туалет, манера смеяться и смотреть привлекли к ней всеобщее внимание. Все бинокли в зале, движимые каким-то магнетическим током, особенно мощным при свете люстр, один за другим повернулись к ее ложе. Клер в конце концов почувствовала себя неловко и из скромности обменялась местами со своим мужем, к несчастью, сопровождавшим их в этот вечер.
Жорж, молодой и изящный, рядом с Сидони казался вполне подходящим ей спутником, а сидевший позади них Рислер, всегда такой спокойный и бесцветный, был как раз на своем месте подле Клер Фромон, которая в своем темном наряде как бы сохраняла инкогнито порядочной женщины, попавшей на бал в Оперу.[10]10
Имеются в виду костюмированные балы, которые давались в парижской Опере каждую зиму с 10 декабря до Великого поста; обычно на них собирался парижский «полусвет».
[Закрыть]
При выходе каждый из компаньонов взял под руку свою соседку. Капельдинерша, обращаясь к Сидони, сказала о Жорже: «Ваш муж», – и молодая женщина просияла от удовольствия.
Ваш муж!
Достаточно было этих простых слов, чтобы взбудоражить ее и всколыхнуть в ее душе множество дурных чувств. Проходя по коридорам и фойе, она смотрела на Рислера и на «мадам Шорш», которые шли впереди них. Ей казалось, что неуклюжая походка Рислера убивает изящество Клер, что рядом с ним пропадает вся ее утонченность, и она думала: «Так, наверно, безобразит он и меня, когда мы идем вместе…» Сердце ее усиленно билось при мысли о том, какую прелестную, счастливую, вызывающую всеобщий восторг пару составили бы они с Жоржем Фромоном, чья рука дрожала в ту минуту под ее рукой.
И когда голубая карета Фромонов подъехала за ними к театру, Сидони впервые подумала, что, в сущности. Клер заняла ее место и что она вправе попытаться снова отвоевать его.
III. ПИВНАЯ НА УЛИЦЕ БЛОНДЕЛЬ
После женитьбы Рислеру пришлось отказаться от посещения пивной. Сидони, конечно, была бы очень довольна, если б он проводил вечера в каком-нибудь изысканном клубе, в обществе богатых и хорошо одетых людей, но мысль, что он снова вернется к дыму трубок и к своим прежним друзьям – Сигизмунду, Делобелю и ее отцу, – эта мысль унижала и удручала ее. И Рислер перестал ходить туда, хотя это и было для него некоторым лишением. Пивная, помещавшаяся в заброшенном уголке старого Парижа, напоминала ему родные края. Редкие экипажи, высокие забранные решетками окна первых этажей, острые запахи москательных и аптекарских товаров придавали маленький улице Блондель отдаленное сходство с некоторыми улицами Базеля и Цюриха. Пивную держал швейцарец, и она усердно посещалась его соотечественниками. Открыв дверь, вы попадали в атмосферу, насыщенную говором северной Швейцарии, и сквозь завесу табачного дыма могли различить огромную низкую залу с подвешенными к потолку окороками, с вытянувшимися в ряд пивными бочками и толстым – чуть не по колено – слоем опилок на полу. На прилавке виднелись большие салатники с картофелем, румяным, как жареные каштаны, и корзины, полные только что вынутых из печи крендельков с золотистой, посыпанной солью корочкой.
В течение двадцати лет у Рислера была здесь своя трубка – длинная трубка с его именем, в подставке для завсегдатаев – и свой столик, к которому обычно подсаживались скромные, молчаливые соотечественники, слушавшие с восхищением бесконечные и не вполне понятные для них споры Шеба и Делобеля. Вслед за Рислером и Шеб с Делобелем тоже перестали бывать в пивной – по весьма уважительным причинам. Одна из них заключалась в том, что Шеб жил теперь далеко. Благодаря щедрости зятя он наконец осуществил заветную мечту своей жизни.
– Когда я разбогатею, – говорил, бывало, маленький человечек, сидя в своей унылой квартирке в Маре, – у меня будет собственный дом под Парижем, почти в деревне, с небольшим садиком, который я сам буду вскапывать и поливать. Для моего здоровья это будет куда полезнее, чем столичная суета.
И вот теперь у него был свой дом, но, смею вас уверить, он не очень-то весело проводил там время.
Дом находился в Монруже, при окружной дороге. «Маленькое шале с садом» – гласила надпись на четырехугольном куске картона, дававшем приблизительное представление о размерах усадьбы. Обои были новые, дачные; все свежевыкрашено; бочка для поливки возле беседки из дикого винограда играла роль пруда. И еще одно преимущество: только изгородь отделяла этот рай от другого, точно такого же «шале с садом», где жил кассир Сигизмунд Планюс с сестрой. Для г-жи Шеб это было драгоценное соседство. Когда ей становилось скучно, она брала вязанье или нуждавшееся в починке белье, отправлялась в беседку к старой деве и, желая пустить ей пыль в глаза, заводила разговор о своем блестящем прошлом. К несчастью для ее мужа, он был лишен подобных развлечений.
Первое время все шло еще хорошо. Лето было в самом разгаре, и Шеб, сняв пиджак, целыми днями занимался устройством своего гнезда. Каждый гвоздик, который нужно было вбить, становился предметом праздных размышлений, бесконечных споров. Немало хлопот доставил ему и сад. Сначала Шеб решил сделать из него английский парк с вечнозелеными лужайками и извилистыми аллеями, окаймленными тенистыми деревьями. Но деревья, черт возьми, растут так медленно!
– Нет, я, пожалуй, разобью здесь фруктовый сад, – говорил, передумав, нетерпеливый человечек.
И вот он уже только и мечтает о бордюрах из овощей, о грядках фасоли, о шпалерах персиковых деревьев. По целым дням рыл он землю, озабоченно хмуря брови и беспрестанно вытирая лоб.
– Да отдохни же ты наконец… Ведь ты замучаешь себя! – уговаривала жена.
В результате сад получился смешанным: в нем были и цветы и фрукты, это был парк и огород одновременно. И каждый раз, отправляясь в Париж, Шеб украшал петлицу розой из собственного цветника.
Пока стояла хорошая погода, достойная чета не переставала восхищаться закатом солнца за крепостным валом, длинными днями и чудесным деревенским воздухом. Иногда вечером, раскрыв окна, они пели дуэтом, и, любуясь звездами, зажигавшимися в небе одновременно с фонарями окружной железной дороги, Фердинанд впадал в лирическое настроение… Но как тоскливо стало, когда начались дожди и нельзя было выходить из дому! Г-жа Шеб, коренная парижанка, с грустью вспоминала узкие улочки Маре, свои походы на рынок Блан – Манто и к поставщикам.
Устроившись с шитьем в руках у окна – на своем обычном наблюдательном посту, она смотрела на сырой садик, где отцветшие вьюнки и увядшие настурции сами собой, точно в изнеможении, падали с ограды палисадника; смотрела на длинную прямую линию все еще зеленых откосов и видневшуюся немного поодаль, на углу улицы, столику парижских омнибусов, на лакированных бортах которых заманчивыми буквами были обозначены все пункты их маршрута. Каждый раз, когда один из омнибусов трогался в путь, она провожала его тем взглядом, каким кайенский или нумейский чиновник провожает возвращающийся во Францию пароход, и мысленно проделывала с ним весь его путь, знала, где он остановится, где неуклюже повернет за угол, задевая колесами витрины магазинов…
Обреченный на затворничество, Шеб стал совершенно невыносим. Он не мог больше заниматься садоводством. По воскресеньям на крепостном валу было безлюдно, и он был лишен удовольствия прогуливаться, как прежде, среди семей рабочих, завтракающих на травке, переходить от одной группы к другой запросто, в вышитых домашних туфлях, с важностью богатого собственника, живущего по соседству. А этого как раз ему недоставало больше всего, ибо он жаждал быть центром внимания. И вот, не зная, чем занять себя, не имея рядом никого, перед кем можно было бы позировать и кто стал бы выслушивать его проекты, разные истории и рассказ о случае с герцогом Орлеанским – ведь нечто подобное, как вы знаете, произошло в молодости и с ним, – незадачливый Фердинанд стал донимать упреками свою жену:
– Твоя дочь сослала нас… Твоя дочь стыдится своих родителей.
Только и было слышно, что «твоя дочь… твоя дочь… твоя дочь». В своем раздражении он доходил до того, что отрекался от Сидони и взваливал на жену всю ответственность за этого «чудовищного, бездушного ребенка». Не удивительно, что г-жа Шеб вздыхала с облегчением, когда муж ее садился на станции в омнибус и отправлялся в Париж на розыски по-прежнему бесцельно шатавшегося Делобеля, чтобы излить ему все свое недовольство дочерью и зятем.
Знаменитый Делобель тоже имел зуб против Рислера и часто говорил про него: «Это вероломный субъект…»
Великий человек рассчитывал стать непременным членом новой семьи, организатором празднеств, арбитром в вопросах вкуса. На деле же оказалось другое: Сидони принимала его холодно, а Рислер перестал даже водить в пивную. Однако актер не слишком громко высказывал свое неудовольствие, при встрече со своим другом был крайне предупредителен и льстил ему, в расчете, что тот может ему скоро понадобиться.
Устав ждать дальновидного антрепренера и так и не получив роли, на которую он уже столько лет надеялся, Делобель задумал купить театр и самому эксплуатировать его. Он рассчитывал, что Рислер даст ему денег на это предприятие. Как раз на Бульваре Тампль из-за банкротства директора продавался небольшой театр. Делобель сказал об этом Рислеру, сперва очень неопределенно, в виде простого предположения: «Можно было бы обделать хорошее дельце…» Рислер, выслушав его со своей обычной флегматичностью, сказал: «Да, в самом деле, для вас это было бы очень хорошо». Затем, когда Делобель высказался уже более определенно, он, не решаясь ответить прямым отказом, стал отделываться всякими увертками: «Увидим… Потом… Я ничего не могу обещать…» – пока наконец не произнес роковой фразы: «Надо бы ознакомиться со сметой».
Целую неделю актер корпел над проектом, выводил цифры, а жена и дочь не сводили с него восхищенного взгляда, упоенные новой мечтой. В доме говорили: «Господин Делобель покупает театр». На бульваре, в артистических кафе только и было разговору, что об этой покупке. Делобель не скрывал, что нашел человека с капиталом, и благодаря этому был постоянно окружен толпою безработных актеров, старыми товарищами, которые, развязно похлопывая его по плечу, напоминали о себе: «Знаешь, старина…» Он завтракал в кафе, писал там письма, приветствовал входивших, фамильярно помахивая рукой, вел оживленные разговоры по углам, сулил ангажементы, и уже два каких-то потрепанных автора прочли ему драму в семи картинах, которая «как нельзя лучше» подходила для открытия театра. Он говорил: «Мой театр», – и ему адресовали письма: «Г-ну Делобелю, директору».
Составив проспект и смету, он отправился на фабрику повидать Рислера. Тот был очень занят и назначил ему свидание на улице Блондель. В тот же вечер Делобель, придя первым в пивную, уселся за их прежний столик и, заказав бутылку пива и два стакана, стал ждать. Он ждал долго, не сводя глаз с двери, дрожа от нетерпения. Рислер все не шел. При входе каждого нового посетителя актер оборачивался. Он разложил свои бумаги на столе и перечитывал их, жестикулируя, покачивая головой и шевеля губами.
Затеянное им дело было единственное в своем роде блестящее дело. Он уже видел себя на сцене – это было самое главное, – на сцене собственного театра, где он исполнял роли, написанные специально для него, для его таланта, роли, в которых он мог развернуться.
Вдруг дверь отворилась, и в табачном дыму показался Шеб. Он был так же удивлен и раздосадован при виде Делобеля, как и тот при виде его. Утром Шеб написал зятю, что ему надо серьезно поговорить с ним и что он будет ждать его в пивной. Дело чести… «строго между нами»… с глазу на глаз… В действительности дело чести сводилось к тому, что Шеб распростился со своим домиком в Монруже и снял на улице Майль, в центре торгового квартала, магазин с комнатой… Магазин?.. Ну да, боже ты мой, магазин!.. А теперь он испугался своего смелого шага и беспокоился, как отнесется к атому дочь, тем более что магазин стоил значительно дороже домика в Монруже и к тому же нуждался в крупном ремонте. Издавна зная доброту зятя, Шеб решил прежде всего обратиться к нему и, впутав его в дело, взвалить на него ответственность за этот переворот. И вдруг вместо Рислера он встречает Делобеля!
Они посмотрели друг на друга исподлобья, неприязненно, как две собаки, встретившиеся у одной миски. Каждый из них понял, чего ждал другой, и они даже не пытались морочить друг друга.
– Моего зятя здесь нет? – спросил Шеб, мрачно косясь на разложенные на столе бумаги и делая ударение на словах «мой зять», чтобы подчеркнуть, что Рислер принадлежит ему, а не кому-нибудь еще.
– Я жду его, – ответил Делобель, собирая бумаги.
Поджав губы, он таинственным и, как всегда, театральным тоном многозначительно прибавил:
– У меня к нему очень важное дело.
– У меня тоже… – не менее веско проговорил Шеб, и при этом его три волоска встали дыбом, как щетина дикобраза.
Он сел рядом с Делобелем и тоже потребовал бутылку пива и два стакана. Затем, засунув руки в карманы и откинувшись на спинку дивана, расположился как дома и стал ждать. Два пустых стакана, стоявших перед обоими и предназначавшихся для одного и того же отсутствующего лица, имели какой-то вызывающий вид.
А Рислер все не шел.
Оба посетителя молчали и нетерпеливо ерзали по дивану. Каждый из них надеялся, что другому надоест наконец ждать.
Но скоро их дурное расположение духа вылилось наружу, и, конечно, за все досталось бедному Рислеру.
– Какая бестактность! Заставлять так долго ждать человека моих лет… – начал Шеб, взывавший к своему почтенному возрасту лишь при подобных обстоятельствах.
– Я считаю, что это просто издевательство, – подхватил Делобель.
– Вероятно, у них к обеду были гости, – ядовито заметил другой.
– И какие гости! – презрительно усмехнулся Делобель, вспомнив, очевидно, все свои обиды.
– Дело в том… – продолжал Шеб.
Тут они придвинулись друг к другу и разговорились. У обоих накопилось немало обид на Сидони и Рислера, и теперь они отводили душу. Рислер, добродушный с виду, в сущности, эгоист, выскочка. Они смеялись над его акцентом, манерами, передразнивали некоторые его привычки. Потом заговорили о его семейной жизни и, понизив голос, поверяли друг другу тайны, непринужденно смеялись, вновь стали друзьями.
Шеб зашел далеко.
– Пусть он поостережется! Разве не глупо было с его стороны допустить, чтобы отец и мать жили вдали от ребенка? Теперь, если что-нибудь случится, пусть пеняет на себя. Дочь, не имеющая перед глазами примера родителей… Понимаете, что я хочу сказать?..
– Конечно, конечно!.. – поддакивал Делобель. – Тем более что Сидони стала такой кокеткой… Ну, уж тут ничего не поделаешь! Он получит то, что заслужил. Разве можно было человеку его лет… Тсс!.. Вот он!..
Рислер только что вошел и, обмениваясь по пути рукопожатиями, направлялся к ним.
На минуту трое друзей почувствовали некоторую неловкость. Рислер начал извиняться. Он задержался дома; у Сидони были гости. (Делобель толкнул под столом ногою Шеба.) Оправдываясь, бедняга смущенно поглядывал на два ожидавших его пустых стакана, не зная, перед которым из них сесть.
Делобель проявил великодушие.
– Вам надо поговорить, господа, не стесняйтесь, – сказал он и, подмигнув Рислеру, шепнул: – Бумаги со мною.
– Какие бумаги?.. – спросил озадаченный Рислер.
– Смета..– подсказал актер.
Затем отодвинулся с подчеркнутой деликатностью и снова углубился в свои бумаги, обхватив голову руками и зажав уши.
Рислер и Шеб вели при нем разговор сначала тихо, потом все громче и громче, так как Шеб не мог долго сдерживать свой резкий, крикливый голос… Он еще не так стар, черт возьми, чтобы похоронить себя в такой глуши!.. Он умер бы от скуки, останься он в Монруже. Ему нужны улица Майль, Сантье, шум и оживление торгового квартала.
– Да, но зачем магазин? – осмелился заметить Рислер.
– Зачем магазин?.. Зачем магазин? – повторял Шеб, красный, как пасхальное яйцо, возвышая голос до самых высоких нот своего регистра. – А затем, что я коммерсант, господин Рислер. Коммерсант, и сын коммерсанта… А, знаю, вы хотите сказать, что я ничем не торгую. Но кто виноват в этом? Если бы люди, загнавшие меня в Монруж, к самым дверям Бисетра, точно слабоумного,[11]11
В Бисетре, под Парижем, находилось убежище для умалишенных и престарелых.
[Закрыть] догадались ссудить меня деньгами для какого – нибудь предприятия…
Тут Рислеру удалось утихомирить его, и теперь слышны были только обрывки разговора: «…более удобный магазин… высокий потолок… легче дышать… проекты на будущее… крупное предприятие… скажу, когда придет время… Многие будут удивлены…» Улавливая эти обрывки фраз, Делобель все больше и больше углублялся в смету, стараясь всем своим видом показать, что он не слушает. Рислер был смущен, время от времени он отпивал для вида глоток пива. Наконец, когда Шеб успокоился – а у него были для этого основания, – его эять повернулся с улыбкой к знаменитому Делобелю и встретил его суровый, невозмутимый взгляд, как бы говоривший: «Ну, а я?..»
«Ах, боже мой!.. Я и забыл!» – подумал несчастный Рислер.
Переменив стул и стакан, он уселся против актера. Но Шеб не отличался деликатностью Делобеля. Вместо того, чтобы скромно удалиться, он придвинул свой стакан и присоединился к Рислеру и Делобелю. Великий человек не желал говорить в его присутствии и, торжественно положив во второй раз свои бумаги в карман, сказал Рислеру:








