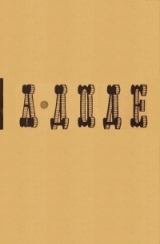
Текст книги "Письма с мельницы"
Автор книги: Альфонс Доде
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Гибель «Резвого»
Раз уж мистралем, бушевавшим прошлой ночью, нас занесло на корсиканское побережье, дайте я расскажу вам страшную морскую быль, которую часто, коротая вечер, вспоминают тамошние рыбаки и чрезвычайно любопытные подробности которой я узнал.
…Тому будет два-три года.
Я бороздил Сардинское море в обществе семи-восьми таможенных матросов. Тяжелое это путешествие для человека непривычного! За весь март не выдалось ни одного погожего дня. Восточный ветер яростно преследовал нас, а разгулявшееся море не унималось.
Как-то вечером мы убегали от бури, и наше судно укрылось у самого входа в пролив Бонифаччо, среди группы небольших островов… Вид их не привлекал: высокие обнаженные скалы, покрытые птицами, кое-где пучок полыни, мастиковые заросли, там и сям в тине гниют обломки дерева. Но, право, все же лучше переночевать на таких угрюмых скалах, чем в рубке ветхого суденышка, до половины покрытого палубой, где волны гуляют, как дома,– вот мы и удовлетворились этим прибежищем.
Не успели мы высадиться, как матросы принялись разводить костер для ухи, а шкипер подозвал меня и, указав на смутно белевшую в тумане каменную ограду на краю острова, спросил:
– На кладбище пойдете?
– На кладбище, шкипер Лионетти? Да где же мы?
– На островах Лавецци. Здесь похоронены шестьсот матросов с «Резвого», на том самом месте, где погиб их фрегат десять лет тому назад… Бедняги! Их не часто навещают, пойдемте поклонимся им, раз уж мы здесь…
– От всего сердца, шкипер!
Грустное же это было кладбище!.. Так и вижу его за низкой оградой, с трудом открывающуюся ржавую, железную калитку, безмолвную часовню и сотни черных крестов, спрятавшихся в траве… Ни одного веночка из иммортелей… Ничего… Бедные, бедные покинутые покойники! Как им должно быть холодно тут, в их случайной могиле!
Мы преклонили колена. Шкипер вслух читал молитву. Огромные морские чайки, одинокие стражи кладбища, кружили у нас над головой, и их резкие крики сливались со стенаниями моря.
Помолившись, мы в грустном раздумье вернулись на тот край острова, где причалило наше суденышко. Пока мы ходили, матросы не теряли времени. Под прикрытием скалы пылал большой костер, от котелка шел пар. Мы уселись в кружок, ногами к огню, и скоро у каждого на коленях стояла глиняная миска с двумя ломтями черного хлеба, обильно политыми супом. Обед прошел молча: мы вымокли и проголодались, а, кроме того, по соседству было кладбище… Однако, очистив миски, мы закурили трубки и понемногу разговорились. Беседа шла, конечно, о «Резвом».
– Как же это случилось? – спросил я у шкипера; тот, подперев голову руками, задумчиво смотрел в огонь.
– Как случилось? – отозвался Лионетти, громко вздохнув.– Увы, сударь, никто на свете этого не скажет. Знаем только, что «Резвый» с войском для Крыма[16]16
То есть для армии, осаждавшей Севастополь.
[Закрыть] на борту вышел из Тулона накануне вечером в плохую погоду. Ночью непогода разыгралась пуще прежнего. Ветер, дождь, море неистовствовали как никогда… Наутро ветер поутих, но море все еще злилось, а тут еще проклятый туман, черт бы его побрал! В четырех шагах сигнального фонаря не видать… Вы даже представить себе, сударь, не можете, что это за предательские туманы… Все равно, я уверен, что «Резвый» уже утром потерял управление, потому что, какой бы туман ни стоял, не случись аварии, капитан не разбился б об эти скалы. Он был испытанный моряк, все мы его знали. Он три года управлял пристанью на Корсике и знал берег не хуже меня, а я ничего другого не знаю.
– А что говорят: в котором часу погиб «Резвый»?
– Должно быть, в полдень… Да, сударь, в самый полдень… Но, господи боже мой, когда на море туман – что в полдень, что ночью,– все равно черным-черно, как у волка в желудке… Один береговой таможенник рассказывал, что в этот день около половины двенадцатого он вышел из дому, чтобы покрепче закрыть ставни,– ветром с него сорвало фуражку, и он бросился за ней вдогонку по берегу на четвереньках, рискуя, что его снесет волной. Понимаете: таможенники – народ небогатый, а фуражка стоит дорого. Так вот, будто бы, подняв голову, он на одну минуту увидел совсем близко в тумане большой корабль без парусов, который гнало ветром на острова Лавецци. Корабль несся быстро-быстро, и таможенник не успел его разглядеть, но по всему видать, это был «Резвый», потому что полчаса спустя пастух с этого острова услышал, как на скалах… Да вот как раз и пастух, легок на помине. Он сам вам и расскажет… Здравствуй, Паломбо!.. Подсаживайся, погрейся немножко. Иди, не бойся.
К нам робко приблизился человек в капюшоне, уже некоторое время бродивший вокруг нашего костра. Я принимал его за кого-нибудь из команды – я не подозревал, что на острове есть пастух.
Это был старик, почти выживший из ума, страдавший цингой, от которой у него так раздулись и вспухли губы, что страшно было глядеть. С великим трудом втолковали ему, о чем шла речь. Тогда, приподняв пальцем больную губу, старик рассказал нам, что действительно в тот день около полудня он, сидя у себя в хижине, слышал ужасающий треск и грохот. Остров был весь залит водой, потому он и не мог выйти, и только наутро, открыв дверь, увидел, что по всему побережью валяются обломки и трупы, выброшенные морем. В ужасе кинулся он к своей лодке и отправился в Бонифаччо за людьми.
Устав от такой длинной речи, пастух сел, и тогда снова заговорил шкипер:
– Да, сударь, этот несчастный старик и оповестил нас. Он со страху чуть не рехнулся. С того самого происшествия он и повредился. Да и было с чего… Можете себе представить: на песке шестьсот трупов, целая груда, вперемешку со щепками и обрывками паруса… Бедняжка «Резвый»!.. Море разбило его вдребезги. Из всех обломков пастух Паломбо еле-еле набрал несколько досок, которые годились на забор вокруг хижины… А люди почти все были изуродованы, искалечены… Жалость брала смотреть на них, как они сцепились целыми гроздьями… Мы нашли капитана в парадной форме, священника в епитрахили, а поодаль, между двумя скалами, лежал молоденький юнга с открытыми глазами. Словно живой. Да нет, какое там! Видно, такая уж у них судьба: ни один не ушел от смерти…
Тут шкипер прервал свою речь.
– Нарди! – крикнул он.– Смотри: костер гаснет!
Нарди подбросил в костер два-три обломка просмоленных досок, они вспыхнули, и Лионетти продолжал:
– Трагичней всего в этой истории вот что… За три недели до катастрофы небольшой корвет, шедший, как и «Резвый», в Крым, погиб почти так же и почти на том же месте, только в тот раз нам удалось спасти экипаж и двадцать обозных солдат, находившихся на борту… Несчастные обозники! Им туго пришлось, сами понимаете! Мы их отвезли в Бонифаччо и два дня держали у себя на берегу… Ну, пообсохли они, пооправились и – будьте здоровы! Счастливый путь! Они вернулись в Тулон, а там их опять погрузили и отправили в Крым… Угадайте, на каком корабле?.. На «Резвом», сударь… Мы всех их отыскали, всех двадцать, среди других трупов на этом самом месте… Я собственными руками поднял красавца бригадира с закрученными усами, парижского франта, который в тот раз лежал у меня и все смешил нас своими рассказами… Когда я увидел его здесь, у меня сердце упало… Ах! Santa madre!..[17]17
Матерь божья (итал.).
[Закрыть]
Добряк Лионетти, совсем расстроенный, вытряхнул пепел из трубки и, завернувшись в плащ, пожелал мне спокойной ночи… Матросы еще некоторое время разговаривали вполголоса… Затем, одна за другой, погасли трубки… Все смолкли. Старый пастух ушел… И среди заснувшего экипажа я остался один со своими думами.
Все еще под впечатлением только что слышанного мрачного рассказа я пробовал представить себе несчастный корабль и историю его гибели, единственными свидетелями которой были чайки. Отдельные поразившие меня подробности – капитан в парадной форме, священник в епитрахили, двадцать обозных солдат – помогли мне угадать все перипетии драмы… Я видел фрегат, отправляющийся ночью из Тулона… Вот он покидает порт. Море злится, ветер бушует, но капитан – испытанный моряк, и на борту все спокойны…
Наутро подымается туман. На корабле это вызывает беспокойство. Вся команда наверху. Капитан не сходит с мостика… На нижней палубе, где находятся солдаты,– тьма, духота. Есть больные – они лежат, подложив под голову ранец. Ужасно качает, немыслимо устоять на ногах. Люди разговаривают, сидя на полу кучками, вцепившись в скамьи; приходится кричать, а то не слышно. У некоторых в сердце начинает шевелиться страх… Да и не мудрено,– в этих широтах кораблекрушение не редкость! Обозные – тут, и могут это подтвердить, а то, что они рассказывают, неутешительно. Особенно, как послушаешь бригадира-парижанина, который вечно над всеми подтрунивает; от его шуток мороз по коже подирает:
– Кораблекрушение!.. Да это очень весело! Ледяная ванна, только и всего, а потом нас отправят в Бонифаччо, покушаем дроздов у шкипера Лионетти.
И обозные хохочут…
Вдруг треск… Что такое? Что случилось?
– Руль унесло,– бросает вымокший матрос, бегом пробегающий по нижней палубе.
– Туда ему и дорога! – кричит неугомонный бригадир.
Но никто уже не смеется.
На палубе суматоха. Из-за тумана не видать друг друга. Матросы суетятся, растерянные, ощупью отыскивая дорогу… Руля нет! Управлять судном невозможно… «Резвый» несется по воле волн с быстротой ветра… Как раз в этот момент таможенный чиновник и увидел его. Половина двенадцатого. Впереди фрегата слышится точно пушечный залп… Буруны!.. Все кончено, надежды нет, «Резвого» несет прямо на берег… Капитан спускается к себе в каюту… Вот он опять на своем посту, но в полной форме… Он хочет умереть в параде.
На нижней палубе перепуганные солдаты молча переглядываются… Больные пробуют приподняться… Шутник бригадир больше не смеется… Открывается дверь, и на пороге появляется полковой священник в епитрахили.
– На колени, братие!
Все повинуются. Громким голосом читает он отходную.
Вдруг ужасный толчок! Крик, вырывающийся у всех, отчаянный вопль, вытянутые руки, судорожно вцепившиеся пальцы, обезумевшие глаза, в которых, как молния, мелькает призрак смерти!
Господи помилуй!..
Так я провел всю ночь. Фантазия вызвала через десять лет после его гибели душу несчастного корабля, обломки которого окружали меня… Вдали, в проливе, бушевала буря, пламя костра пригибали порывы ветра, и я слышал, как у подножия скал, скрипя цепью, прыгало на волнах наше судно.
Таможенники
Судно «Эмилия» из Порто-Веккио, на борту которого я совершил свое мрачное путешествие на острова Лавецци, представляло собой старую таможенную шлюпку, наполовину забранную палубой. Укрыться от ветра, волн и дождя можно было только в крошечной просмоленной рубке, где с трудом умещались стол и две койки. Зато и поглядели бы вы на наших матросов во время непогоды. По лицам текла вода, от вымокших курток шел пар, как от корыта с бельем, и так они, несчастные, проводили в зимнюю пору целые дни, даже ночи, прикорнув на мокрой скамье и дрожа от сырости, потому что на борту нельзя было развести огонь, а до берега часто бывало далеко… И что же вы думаете? Никто не унывал. В самую суровую погоду они были все такие же приветливые, такие же добродушные. А между тем что за безрадостная жизнь у таможенных матросов!
Почти все они семейные, на берегу у них жена и дети, а они месяцами в отсутствии, плавают вдоль опасного побережья. Кормятся сухарями да диким луком. Ни вина, ни мяса, потому что и мясо и вино стоят дорого, а они получают только пятьсот франков в год. Пятьсот франков в год! Сами понимаете, какая у них дома, на берегу, конура, какие босоногие ребятишки!.. Нужды нет! У всех у них довольные лица. На корме перед рубкой стоит большой бак с дождевой водой, из которого пьет команда. Я отлично помню, как, допив последний глоток, каждый матрос опрокидывал кружку и удовлетворенно покрякивал с блаженным выражением,– то и смешило и трогало.
Самым веселым, самым довольным из всех был уроженец Бонифаччо, загорелый и коренастый, по имени Паломбо. Он вечно пел, даже в бурю. Когда вздымались волны, когда с нависшего, потемневшего неба падала крупа и когда все на палубе были начеку, не отпускали шкота, готовясь к шквалу, тут вдруг, среди полной тишины и всеобщей напряженности, спокойный голос Паломбо выводил:
Нет, нет, сеньор!
Страшен позор…
Лизетта просту-ушка
Век будет пасту-ушка.
И пусть налетает шквал, пусть стонет в снастях ветер, пусть треплет и заливает судно – песня не прерывается; словно чайка, качается она на гребне волны. Порой аккомпанемент ветра делался слишком громким, слов уже нельзя разобрать, но после каждого вала в шуме воды, сбегавшей с палубы, слышится веселый припев:
Лизетта просту-ушка
Век будет пасту-ушка.
И вот как-то, когда ветер и дождь особенно злились, я не услышал его голоса. Это было так необычно, что я высунул голову из рубки:
– Эй, Паломбо! Что ж пения не слышно?
Паломбо не ответил. Он лежал неподвижно под скамьей. Я подошел к нему. У него зуб на зуб не попадал, его трясла лихорадка.
– У него пунтура,– с унылым видом сказали его товарищи.
Они называют пунтурой колотье в боку, плеврит. Безграничное свинцовое небо, вымокшее судно, больной в жару, закутанный в старый резиновый плащ, блестевший под дождем, как тюленья кожа,– что могло быть мрачнее? Вскоре от холода, ветра, качки ему стало хуже. Начался бред. Надо было приставать к берегу.
Положив много времени и труда, к вечеру вошли мы в маленькую бухту, пустынную и безмолвную, оживленную только одинокими чайками, кружившимися над ней. Вдоль всего берега вздымались крутые скалы, виднелись непролазные чащи кустарников, темно-зеленые, вечнозеленые. Внизу, у самой воды, белый домик с серыми ставнями – таможенный пост. Среди такой пустыни это казенное строение с номером, словно форменная фуражка с кокардой, производило мрачное впечатление. Сюда-то и внесли бедного Паломбо. Печальное пристанище для больного! Таможенник с женой и детьми обедали у печки. У всех лица были исхудалые, желтые, глаза большие, ввалившиеся от лихорадки. Мать, еще молодая, с грудным ребенком на руках, говоря с нами, дрожала от озноба.
– Ужасный пост,– шепотом сказал мне инспектор.– Приходится каждые два года сменять здешних таможенников. Их изнуряет болотная лихорадка…
Однако надо было раздобыть врача. Врач был только в Сартене, то есть в шести – восьми милях оттуда. Как быть? Матросы выбились из сил; послать кого-либо из детей нельзя,– уж очень далеко. Тогда женщина, выглянув за дверь, крикнула:
– Чекко!.. Чекко!
В дом вошел рослый, складный малый, типичный браконьер, или бандитто, в коричневом войлочном колпаке и в пелоне из козьей шерсти. Когда мы причалили, я уже заметил его: он сидел на пороге, с красной трубкой в зубах и ружьем между колен. Но при нашем приближении он почему-то скрылся. Может быть, он думал, что у нас на борту жандармы. Когда он вошел, жена таможенника слегка покраснела.
– Это мой двоюродный брат…– сказала она.– Можете быть спокойны, он в зарослях не заплутается.
Затем она поговорила с ним шепотом, указав на больного. Мужчина поклонился, не сказав ни слова. Выйдя за порог, он свистнул собаку и ушел с ружьем на плече, прыгая с камня на камень.
А дети, испуганные присутствием инспектора, быстро справлялись с обедом, состоявшим из каштанов и брумо (творога). И, как всегда, запивали обед водой, неизменной водой. А ведь глоток вина был бы не вреден этим малышам. Эх, нужда горькая! Наконец мать пошла их укладывать. Отец засветил фонарь и отправился осматривать берег, а мы уселись у огня, около больного, метавшегося на своей убогой постели, словно он был еще в открытом море, словно его качали волны. Чтоб немного облегчить его страдания, мы грели камни и кирпичи и клали их ему под бок. Раз-другой, когда я подходил к его кровати, больной узнал меня и в знак благодарности с трудом протянул мне руку, широкую, заскорузлую руку, горячую, как те кирпичи, что мы грели на огне…
Печальная ночь! На дворе в сгустившемся мраке разбушевалась непогода – шум, грохот, пенящиеся волны, борьба скал и воды. Порой ветер с моря прорывался в бухту и охватывал наш дом. Это чувствовалось по внезапной вспышке пламени, вдруг озарявшего лица матросов, собравшихся возле печки и глядевших на огонь с тем спокойствием, которое дает привычка к безбрежным просторам и однообразным горизонтам. Время от времени Паломбо тихо стонал. Тогда взоры всех обращались к темному углу, где умирал их несчастный товарищ, вдали от родных, без помощи. Сердце сжималось, слышались тяжелые вздохи. Вот и все, что могло исторгнуть у этих тружеников моря, терпеливых и кротких, сознание их горькой доли. Ни возмущения, ни стачек. Только вздох!.. Впрочем, я ошибаюсь. Проходя мимо меня, чтобы подбросить хворосту в огонь, один из них сказал мне упавшим голосом:
– Сами видите, сударь: наше дело нелегкое!..
Кюкюньянский кюре
Каждый год на Сретение провансальские поэты выпускают в Авиньоне веселую книжку с красивыми стихами и очаровательными сказками. Только что я получил книжку этого года и нашел в ней прелестное фабльо[18]18
Фабльо – распространенный в средние века в городах Франции жанр – стихотворный рассказ сатирического или анекдотического характера.
[Закрыть]; чуточку сократив, я попытаюсь вам его перевести… Ну, парижане, приготовьтесь. На этот раз вас угостят изысканным провансальским блюдом…
Аббат Мартен был кюре… в Кюкюньяне.
Он был мягок, как хлеб, чист, как золото, и любил отеческой любовью своих кюкюньянцев. Для него Кюкюньян был бы земным раем, если бы кюкюньянцы радовали его немножко больше. Но увы! Пауки плели паутину в исповедальне, а в светлое христово воскресенье облатки лежали нетронутыми на дне дароносицы. Добрый пастырь исстрадался душой и молил бога смилостивиться и не дать ему умереть, не собрав в лоно церкви свою разбредшуюся паству.
И вы сейчас убедитесь, что бог внял его мольбам.
Однажды, в воскресный день, после чтения евангелия, аббат Мартен взошел на кафедру.
– Братие! – сказал он.– Хотите верьте, хотите нет: прошлой ночью я, недостойный грешник, очутился у врат рая.
Я постучался, и апостол Петр отворил мне!
– Ах, это вы, мой милый господин Мартен? – сказал он.– Каким ветром?.. Чем могу быть полезен?
– Святой апостол Петр! Вы ведаете гроссбухом и ключами. Не скажете ли, если только не сочтете это праздным любопытством, сколько кюкюньянцев у вас в раю?
– Я ни в чем не могу вам отказать, господин Мартен. Присядьте, давайте вместе разберемся.
Апостол Петр взял свой гроссбух, открыл его, надел очки.
– Проверим… Стало быть, кюкюньянцы. Кю… кю… Кюкюньян. Так, нашел… Господин Мартен, голубчик! Страница-то чистая! Ни души… У нас кюкюньянцев не больше, чем рыбьих костей в индюшке.
– Как! Здесь нет ни одного кюкюньянца? Ни одного? Не может быть! Поглядите как следует…
– Ни одного, праведник божий. Поглядите сами, если думаете, что я шучу.
– Ах, я несчастный!
Я затрясся и, сложив руки, взмолился о пощаде. Тогда апостол Петр сказал:
– Поверьте мне, господин Мартен: не стоит так близко принимать это к сердцу, а то как бы с вами удар не приключился. В конце концов вы тут ни при чем. Видите ли, я уверен, что ваши кюкюньянцы постятся положенные сорок дней в чистилище.
– Смилуйтесь, святой Петр! Дайте мне возможность хоть повидать и утешить их.
– Пожалуйста, голубчик… Вот, обуйте поскорей эти сандалии,– дорога туда неважная… Вот так… Теперь ступайте прямо, куда глаза глядят. Видите там, вдали, за углом? Там серебряная дверь, вся усеянная черными крестами… По правую руку… Постучитесь, вам отворят… Прощайте! Будьте здоровы и не унывайте.
Уж я шел, шел!.. Ну и дорога! Только вспомнишь, мурашки по коже бегают. Узенькая тропка, вся в колючках, усеянная сверкающими карбункулами и шипящими змеями, привела меня как раз к серебряной двери.
– Тук! Тук!
– Кто стучится? – спросил голос хриплый и скорбный.
– Кюре из Кюкюньяна!
– Откуда?
– Из Кюкюньяна.
– А!.. Войдите.
Я вошел. Прекрасный ангел с черными, как ночь, крыльями, в сияющих, как день, ризах, с бриллиантовым ключом на поясе, писал, скрипя пером, в большой книге, еще объемистей, чем у апостола Петра…
– Что же вам надобно и чего вы просите? – спросил ангел.
– Светлый ангел господень! Не сочтите это за праздное любопытство,– я хочу знать, есть ли у вас кюкюньянцы.
– Кто?
– Кюкюньянцы, жители Кюкюньяна… Я, видите ли, их пастырь.
– Ага, аббат Мартен! Не так ли?
– К вашим услугам, господин ангел.
– Значит, вы говорите, Кюкюньян…
Ангел открыл и начал перелистывать свой гроссбух, слюня палец, чтобы легче было листать…
– Кюкюньян,– сказал он и глубоко вздохнул.– Господин Мартен! У нас в чистилище нет никого из Кюкюньяна.
– Иисусе Христе! Дева Мария! Святой Иосиф! В чистилище нет никого из Кюкюньяна! Господи боже мой! Да где же они?
– Э, праведник божий, они в раю! Где же, черт возьми, им еще быть?
– Да я только что оттуда, из рая-то!
– Оттуда?.. Так в чем же дело?
– В чем дело? Их там нет!.. О пречистая матерь!..
– Что делать, господин кюре! Раз их нет ни в раю, ни в чистилище, больше им негде быть, как…
– Матерь божия! Иисусе, сыне Давидове! Ай-ай – ай! Да статочное ли это дело?.. Уж не солгал ли мне апостол Петр?.. Но ведь петух еще не пропел!..[19]19
Согласно Евангелию, Христос предсказал апостолу Петру, что тот отречется от него еще до того, как пропоет петух; предсказание Христа «сбылось».
[Закрыть] Ах мы, несчастные! Как же мне идти в рай, раз моих кюкюньянцев там нет?
– Послушайте, бедный господин Мартен: раз вы во что бы то ни стало хотите сами во всем убедиться и собственными глазами посмотреть, в чем тут дело, вот вам тропинка, бегите по ней бегом, если только вы умеете бегать. Налево вам встретятся широкие ворота. Там вы все точно узнаете. Да поможет вам бог!
И ангел закрыл дверь.
То была длинная тропа, вся вымощенная раскаленными угольями. Я шатался, как пьяный, спотыкался на каждом шагу, весь взмок, из всех пор у меня выступил пот, в горле пересохло от жажды… Но благодаря сандалиям, которые одолжил мне добрый апостол Петр, я не спалил себе ног.
Когда я, ковыляя и спотыкаясь, дошел наконец до цели, я увидел по левую руку дверь… Нет, не дверь, а ворота, широкие ворота, распахнутые настежь, как пасть огромной печи. О чада, какая картина! Тут никто не осведомился, как меня зовут. Тут не было никаких списков. Туда, братие, народ валом валит в широко открытую дверь, как вы валите по воскресеньям в кабак.
Пот лил с меня градом, и все-таки я дрожал, меня знобило. Волосы стали дыбом. Я чувствовал запах паленого, горелого мяса, вроде того запаха, что распространяется у нас по Кюкюньяну, когда кузнец Элуа подпаливает во время ковки копыта старому ослу. Я задыхался в этом смрадном, раскаленном чаду. Я слышал ужасные крики, стоны, вопли и проклятия.
– Ну, чего стоишь? Ты что, входишь или не входишь? – сказал, пырнув меня вилами, рогатый бес.
– Я? Нет, не вхожу. Я праведник.
– Ты праведник?.. Ах ты, пес шелудивый! Так чего же ты сюда пришел?
– Я пришел… Ах, не расспрашивайте, я и так еле на ногах держусь… Я пришел… пришел издалека… с покорной просьбой ответить мне… нет ли… нет ли ненароком здесь кого-нибудь… кого-нибудь из Кюкюньяна.
– А, громы небесные! Не строй из себя дурака! Как будто ты не знаешь, что весь Кюкюньян здесь!
Посмотри, увидишь, старая ворона, как мы их здесь потчуем, твоих любезных кюкюньянцев…
И среди ужасного вихря пламени я увидел:
Долговязого Кок-Галина – вы все его знали, братие,– Кок-Галина, что так часто напивался и так часто лупил свою несчастную Клерон.
Я увидел Катарине… потаскушку… с нагло вздернутым носом… ту, что ночевала одна на гумне… Помните, плутишки?.. Но довольно о ней, я и так наговорил лишнего.
Я увидел Паскаля Дуа-де-Пуа, того, что пользовался маслинами господина Жюльена, чтобы давить себе масло.
Увидел Бабе, которая собирала на жнивье колосья и, чтобы поскорее связать сноп, таскала целые охапки из скирд.
Увидел нотариуса Грапази, что так ловко подмазывал колеса своей повозки.
И Дофину, что так дорого торговала водой из колодца.
И Тортильяра, что, встретив меня со святыми дарами, шел своей дорогой как ни в чем не бывало, не снимая шапки и с трубкой в зубах… гордый, будто сам Артабан…[20]20
Артабан – персонаж романа французского писателя Готье де ла Кальпренеда (1610—1663) «Клеопатра» (1657—1658); имя его стало нарицательным для обозначения гордеца.
[Закрыть] словно ему пес какой повстречался.
И Куло с его Зеттой, и Жака, и Пьера, и Тони…
Взволнованные, побледневшие от страха, слушатели застонали: в настежь открытой преисподней всякий увидал кто отца, кто мать, кто бабку, а кто сестру…
– Вы понимаете, братие,– продолжал почтенный аббат Мартен,– вы понимаете, что так продолжаться не может. Я отвечаю за ваши души, и я хочу, хочу спасти вас от бездны, в которую все вы уже катитесь очертя голову. Завтра же я принимаюсь за работу, обязательно завтра же. А работы будет немало! Вот с чего я начну. Делать – так уж с толком, по порядку. Все пойдет по череду, как в Жонкьере на танцах.
Завтра, в понедельник, я буду исповедовать стариков и старух. Это плевое дело.
Во вторник – детей. С ними я скоро управлюсь.
В среду – парней и девушек. Это, пожалуй, затянется.
В четверг – мужчин. Тут мы мешкать не будем.
В пятницу – женщин. Я скажу: не чешите языком!
В субботу – мельника!.. На него одного целый день ухлопаешь…
Если в воскресенье все будет кончено, лучшего и желать нельзя.
Видите ли, дети мои, когда хлеб созреет, надо его жать, когда вино нацежено, надо его пить. Ну, довольно о грязном белье, подумаем, как бы его выстирать, и выстирать дочиста.
Да будет с вами милость господня. Аминь!
Сказано – сделано. Белье было выстирано.
С того памятного воскресенья на десять миль вокруг Кюкюньяна разносится благоухание добродетели.
И доброму пастырю, аббату Мартену, счастливому и радостному, прошлой ночью приснилось, будто он в сопровождении всей своей сияющей паствы, идущей с зажженными свечами, в дыму кадильниц, окруженный певчими, поющими «Тебе бога хвалим», всходит по освещенной дороге в град господень.
Вот вам история кюкюньянского кюре в том виде, как мне передал ее для вас шутник Руманиль[21]21
Руманиль, Жозеф (1818—1891) – провансальский поэт и прозаик из группы фелибров.
[Закрыть], а он ее слышал от своего веселого приятеля.








