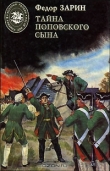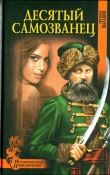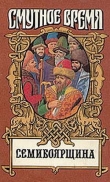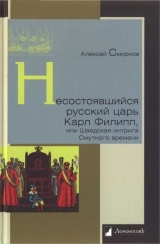
Текст книги "Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Тех, кто сомневался в истинности организованных чудес, ждало суровое наказание. Патриарх объявил об отлучении от церкви особенно злостных скептиков, а колеблющимся было предложено для чтения наскоро составленное житие нового святого, в котором говорилось, что неповинным страданием убиенный царевич стяжал себе нетление и дар чудес.
Москва окончательно хоронила Дмитрия, а на южных окраинах России происходило его новое рождение. Многие города не признали власть Шуйского, отказавшись верить в смерть первого Лжедмитрия. Спасшегося царя еще никто не видел, но его именем уже начался захват территорий, верных Шуйскому. Волна восстания пошла из Северской области, пограничной с Польшей. Во главе многотысячного разношерстного войска, состоявшего из запорожских и донских казаков, беглых крестьян и мелких помещиков, встал Иван Болотников, бывший боярский холоп, испытавший и седло казачьего коня, и скамью турецкой галеры. Он объявил себя воеводой царя Дмитрия и двинул свою армию на Москву. «Убивайте бояр и дворян, берите себе их жен и дочерей!» – эти воззвания Болотникова к крестьянам и городской бедноте срабатывали лучше всяких петард, открывая перед ним ворота крепостей. Взяв город, воеводы Болотникова устраивали «народный суд» над приверженцами Шуйского. Их затаскивали на колокольни и спрашивали собравшихся внизу горожан: «Судить или миловать?» Чаще всего разъяренные массы орали «Судить», и тогда несчастного тут же сбрасывали вниз, к ногам толпы.
С лета 1606 года Карл IX забрасывал Василия Шуйского предложениями о помощи против восставших, но Москва поначалу вообще отрицала факт беспорядков в государстве. Шуйский сообщал шведскому королю, что его армия вышла в поход против татар. Когда царским войскам удалось одержать несколько побед над Болотниковым, к Василию Шуйскому вернулось свойственное московским царям высокомерие. Он приказал воеводе в Кореле (Кексгольме) князю Мосальскому писать в Выборг, для передачи Карлу IX: «Великому государю нашему помощи никакой ни от кого не надобно, против всех своих недругов стоять может без вас и просить помощи ни у кого не станет, кроме Бога».
Однако пренебрежительный тон царского ответа не мог обмануть Карла IX. Наместники в Нарве и Выборге сообщали о бурлении в приграничных русских районах, о том, что важные крепости, в том числе Корела и Орешек (Нотебург), не признают Шуйского царем, сохраняя верность Дмитрию. Повсюду рыскали шайки конных казаков, грабивших всех без разбора и присягавших то Шуйскому, то Дмитрию из соображений собственной выгоды. Конечно, дела царя обстояли совсем не так хорошо, как он пытался это представить. От письма к письму тон посланий Карла IX Шуйскому становился все более угрожающим. Он предлагал срочно организовать встречу комиссаров в пограничной деревне Систербэк для обсуждения ратификации Тявзинского мира, в противном случае Карл будет искать примирения с поляками и начнет захватывать русские территории. «Не выбирайте слов, добиваясь своего», – инструктировал король своих представителей, считая, что своим обычным вежливым стилем общения дипломаты лишь испортят важное дело. Комиссары получили инструкцию требовать у русских на переговорах все важные приграничные крепости: Нотебург, Кексгольм, Ям, Копорье, Ивангород и Колахус. Впрочем, если бы русские сочли эти притязания чрезмерными, можно было уступить, согласившись лишь на ратификацию мирного договора. С начала августа 1606 года шведские комиссары кормили комаров в лесной глуши на берегу быстрой и узкой реки Сестры, ожидая прибытия русских посланцев. Прошел месяц, начался второй, наступили осенние холода, полились дожди – вести переговоры было не с кем. Царь явно уходил от ответа, сообщая, что прибытие его представителей задерживается из-за моровой язвы в России. По той же причине он не мог отпустить домой находившееся в Москве шведское посольство. Карл IX был уверен, что эпидемия в России утихнет, как только царь убедится в серьезности его угроз. В Выборг стали стягиваться войска, которым было приказано неожиданным броском захватить Кексгольм или Нотебург в качестве залога для переговоров с Россией. Если представится случай, следовало взять и куда более серьезный куш – мощную Ивангородскую крепость. Здесь Карл возлагал надежды на вербовку ивангородского воеводы князя Салтыкова, тайного противника Шуйского.
Нарвский и выборгский наместники и сидевшие без дела на Сестре комиссары получили инструкции оказывать покровительство русским перебежчикам и пытаться отделить от России Новгород. Новгородцам следовало напоминать о временах их свободы от Москвы и обещать помощь Швеции, если Новгород снова, как это было чуть более ста лет назад, захочет стать независимым. Если Новгород решит перейти под покровительство Швеции, это также следовало приветствовать.
Карлу IX не пришлось прибегать к интервенции – на него работали успехи восставших. Поняв, что без «живого царя» победить Шуйского будет трудно, Болотников послал в мае 1607 года своего атамана Заруцкого к польским рубежам с откровенно циничным поручением «искать Дмитрия». Замену первому Дмитрию искали не только болотниковцы: свой царь нужен был польским и литовским авантюристам, спасшимся после московского побоища и горевшим жаждой мести, о новом Дмитрии мечтали тысячи польских дворян, не знавших, кому предложить свой меч после закончившегося в Польше восстания против короля Сигизмунда, так называемого «рокоша». Дмитрия ждали вольные шайки казаков и холопов, расплодившиеся по всей России. И в августе 1607 года в белорусском городке Стародубе-Северском пропавший царь неожиданно обнаружился. В историю он вошел как «вор», поскольку, в отличие от первого Лжедмитрия, человека яркого и незаурядного, по своим личным качествам мог играть лишь роль марионетки в руках использовавших его людей.
Русские послы, отправленные Василием Шуйским в Польшу для улучшения отношений между двумя государствами после убийств и арестов польских подданных в Москве, так доносили в своем отчете о результатах расспросов людей, видевших очередного претендента на престол и ответивших на вопрос «каков он рожеем и волосом и возрастом»: «И они сказывали, что возрастом не мал, рожеем смугол, нос немного покляп, брови черны не малы, нависли, глаза не велики, волосы на голове черны курчеваты, ото лба вверх взглаживает, ус чорн, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы, по полски говорит и грамоте полской горазд, и по латыни говорить умеет». Роль Дмитрия взял на себя нищий белорусский учитель, которого несколько мелких дворян вытащили из тюрьмы. В своих воспоминаниях поляки, служившие у «вора», рассказывают, что в его царское происхождение мало кто верил. Убедить войско не помог даже «экзамен», устроенный новому царю на глазах у всех одним из приближенных князя Рожинского, выбранного поляками своим гетманом. Этот приближенный, некий Тромбчинский, знавший первого Дмитрия, стал расспрашивать «вора» о разных событиях, случившихся при его предшественнике. Тот отвечал правильно, поправляя там, где вопрос содержал заведомые неточности. Всем было выгодно признать устроенный спектакль успешным испытанием царя. Когда бояре Василия Шуйского утверждали в письме польскому королю, что «вора водят с собою» по Московскому государству «королевские люди князь Р. Ружинский да князь А. Вишневецкий с товарищи, называючи его прежним именем, как убитый Рострига назывался, – царевичем Дмитрием Ивановичем», они были недалеки от истины. Князь Рожинский при первой же встрече со вторым Лжедмитрием продемонстрировал, какая роль отводится тому в походе на Москву. «Чтобы царь не сбежал, мы прямо на круге выбрали стражу и поставили при нем. От отчаяния он решил себя уморить и выпил немыслимо сколько водки, хотя всегда был трезвым», – пишет в своем дневнике польский ротмистр Николай Мархоцкий.
Ядро армии второго Лжедмитрия составили четыре тысячи польских дворян, профессиональных воинов, сражавшихся в конном строю в тяжелых доспехах. К ним стали стекаться поляки, находившиеся в русском плену в разных городах. «Из нашего товарищества 15 слуг разных панов составили заговор и присягнули на том, чтобы уехать к войску, которое было против Шуйского, кого бы там ни застали: хоть Дмитрия, хоть Петрушку, хоть кого-нибудь другого», – сообщает дневниковая запись одного из поляков, содержавшегося под стражей после московского побоища.
К осени 1608 года в лагере второго Дмитрия, по подсчетам поляков, было «18 000 польской конницы и 2000 хорошей пехоты, не считая 30 000 запорожских казаков и 15 000 донских». Практически вся Россия оказалась в руках сторонников второго Лжедмитрия, у Шуйского оставались лишь Москва, Новгород с русским Севером и Нижний Новгород. Ворваться в Москву с ходу в июне 1608 года Лжедмитрию не удалось, и он предпринял ее осаду. В местечке Тушино под Москвой вырос огромный деревянный город – временная его столица. На вершине холма разместился его дворец: просторная деревянная изба, окруженная шатрами польских военачальников и избами русской знати. Ниже раскинулись наспех сколоченные крытые соломой будки, в которых устроился народ попроще.
По сути дела, один город вел осаду другого. Число сторонников Шуйского таяло, в армию стали призывать даже чиновников, занимавшихся сбором налогов, из тюрем выпустили преступников и, кое-как приодев, дали им в руки оружие. Дворяне, обязанные нести военную службу, скрывались от призыва по домам городских обывателей и крестьянским избам. Царские грамоты запрещали не только укрывать, но даже впускать в дом дворян, грозя за ослушание лишением имущества и казнью. Прежде такого не бывало. Царь еще мог набрать большое войско, но оно скорее походило на кусок гнилой дерюги, расползающейся в руках при малейшем усилии. Даже Москва, считавшаяся прежде главной опорой Шуйского, стала колебаться. Рассказывая об июньском бое, едва не окончившемся взятием Москвы Лжедмитрием, современник сообщает, что москвичей охватила паника: «После того бою учали с Москвы в Тушино отъезжати стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы, и городовые дворяне, и дети боярские, и подьячие, и всякие люди». Наступила длинная полоса так называемых «перелетов»: приближенные Шуйского уезжали в Тушино, получая там чины и награды, затем, уже в высоких чинах и с новыми поместьями, возвращались к Шуйскому. И тот, в свою очередь, награждал их за уход от «вора». Многие знатные люди по нескольку раз становились подданными то Лжедмитрия, то Василия Шуйского. Впрочем, безнаказанно «перелетать» могли лишь дворяне и богатые купцы, простых обывателей, побывавших в Тушине и вернувшихся в Москву, царские слуги хватали по ночам, чтобы не привлекать излишнего внимания, и топили в Москве-реке.
Лагерь самозванца ни в чем не нуждался, со всей страны везли туда продовольствие и разные товары. «Они завалили лагерь всяким провиантом: маслом, мукой, медом, питьевыми медами, солодом, вином, всевозможным скотом в таком изобилии, что можно было удивляться. Головы, ноги, печень, легкие и другие внутренности животных выбрасывались, и их так много лежало всюду на проходах в лагере, что собаки не могли всего сожрать, и из-за этого в лагере распространилось такое зловоние, что даже стали опасаться мора. Ежедневно самые маленькие люди в лагере варили и жарили что только есть отменного, пили больше медов, чем пива, в таком изобилии был найден сотовый мед у крестьян и в монастырях», – описывает жизнь в тушинском лагере находившийся там Конрад Буссов.
То, чего не было в других городах России, поставляли московские купцы. Они продавали в Тушино даже порох и свинец, которыми армия самозванца убивала на следующий день жителей Первопрестольной. Власть Василия Шуйского стала такой зыбкой, что он не решался наказывать перебежчиков и купцов, торговавших с врагом: достаточно было искры, чтобы в Москве поднялось против него восстание. Недовольство царем было вызвано не только его военными неудачами, но и начавшимся в столице голодом. Продовольственные обозы лишь изредка прорывались по дорогам, перекрытым сторонниками Лжедмитрия. Цены на хлеб в столице взлетели в несколько раз. Даже в ближайшем окружении царя зрела измена. Еще за год до осады Москвы тушинцами десять бояр явились к Шуйскому и, описав несчастья, обрушившиеся на Россию в его царствование, уговаривали его уйти в монастырь. Тогда власть царя была еще крепка, и Василий Шуйский отправил наглецов в тюрьму. Но если бы эта история повторилась сейчас, царь не смог бы подвергнуть их даже такому относительно мягкому наказанию. Верных слуг у него почти не осталось.
«Шуйский, видя, что Бог не шлет ему счастья, обратился к помощи дьявола и его орудий, стал вовсю заниматься колдовством, собрал всех слуг дьявола, чернокнижников, каких только можно сыскать в стране, чтобы то, чего не сумел бы один, мог сделать другой. У многих беременных женщин он велел разрезать чрево и вынуть из него плод, а также убить много здоровых лошадей и вынуть у них сердце. Тем самым колдуны добились того, что если такое сердце куда-либо закапывали или зарывали, то люди Шуйского побеждали, стоило только воинам Димитрия перейти за эту черту. Если же московиты переходили за эту черту, то тогда поляки их одолевали», – рассказывает Конрад Буссов об отчаянных усилиях Шуйского переломить судьбу.
От обращения к дьяволу было совсем недалеко и до сближения с давним российским врагом – Швецией. Царь, по сообщению летописи, сидел в столице подобно «орлу бесперу, без клюва и когтей».
Дипломатические усилия Карла IX, сообщавшего царю в одном из последних писем, что от цезаря, турецкого султана и короля Персии ему известно о плачевном положении России, наконец-то дали плоды. В августе 1608 года гонец доставил нарвскому наместнику Филиппу Шейдингу послание новгородского воеводы князя Михаила Скопина-Шуйского. Царь отправил этого своего юного племянника из Москвы в Новгород для организации народного ополчения в еще не охваченных смутой северных районах страны. Ему были даны самые широкие полномочия, в том числе право договариваться со шведами о наеме войска. «Послати в немцы нанимати немецких людей на помочь», – гласила царская инструкция. Немцами в то время в России называли многих иностранцев, в том числе шведов. Приведем наиболее важные отрывки из этого послания, открывшего путь к союзу двух государств, первому за всю историю их существования: «Писал многижда к царскому величеству к великому государю нашему, царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси государь ваш Карлус король, оказуючи любов свою к нему великому государю… хотел помогати от польских и литовских людей… и ныне великий государь наш… хочет быти с Карлусом королем в вечном миру и в соединении и на всех недругов стояти за один… а к вам в Ругодив (русское название Нарвы. – А. С.)велел отписати, чтоб вам вскоре собрати ратных людей тысячю человек конных и прислати их тотчас ко мне в Великий Новгород, а корм им везде по дороге будет готов, и что месецов заслужат, и государь царь пожалует их великим своим жалованьем». В письме выражалась также готовность царя ратифицировать Тявзинский мир.
Скорость распространения информации в то время зависела от резвости коня, скакавшего по плохим и опасным дорогам, да от ветра на море, игравшего неуклюжим парусником: отголоски стремительно менявшихся событий в Москве доходили до короля иногда с месячным опозданием и в сильно искаженном виде. Послание Скопина-Шуйского, составленное от имени царя, легло на стол Карла IX практически одновременно с двумя другими сообщениями. В одном утверждалось, что Шуйский убит и власть в Москве взял Дмитрий, другое, пришедшее несколько позже, уведомляло, что Шуйский жив, но смещен с трона все тем же самозванцем. Приграничные города – Ивангород, Ям и Гдов – палили из пушек, приветствуя возвращение на законный престол чудесно спасшегося Дмитрия. Шведские агенты сообщали, что имя Шуйского исключили из поминальников в молитвах, новый воевода в Ивангороде князь Иван Хованский лишь укрепил веру шведов, что Шуйский пал. Воевода отчитал шведских послов, прибывших в Нарву из Стокгольма и просивших о съезде, за то, что те в своих письмах пишут царем «изменника Васки Шуйского имя». Король в этих обстоятельствах решил действовать, ориентируясь на две возможности. Одна предполагала, что Василий Шуйский жив и еще является русским царем, другая – что он умер или смещен. Пограничная пропаганда шведов летом и осенью 1608 года исходила из худшего: Василий Шуйский перестал существовать либо физически, либо как политическая фигура. Через границу переправлялись манифесты короля с призывом к русскому населению не поддерживать ставленника поляков, а взять царя с кровью Владимира Мономаха, из своих давних властительных династий. Король сообщал, что готов по просьбе русской нации прислать войска, чтобы встать на защиту «старой греческой религии», которую собираются разрушить поляки. Обильно насыщая льстивыми строчками о русской религии свои пропагандистские послания, король, очевидно, невольно морщился: как истинный лютеранин, он считал русских нехристями, которые ничем не отличались от турок.
Впрочем, глядя на наивных и невежественных московитов, устроивших настоящий парад государей в последние годы, трудно было сохранять сдержанность. Карл IX, осведомляясь у новгородского воеводы по поводу того, кто сейчас является царем на Руси, сорвался и принялся выговаривать русским, меняющим своих правителей так же часто, как зайцы – цвет: «…летом он серый, а зимой он белый». Примеру монарха следовали его представители в пограничных крепостях. Наместник в Улеаборге Исаак Баем упрекал игумена Соловецкого монастыря, не стесняясь в выражениях. Русские люди, по его мнению, так часто свергали своих государей, что литовцы скоро им всем головы разобьют, и следовало стыдиться, выбирая в цари всякого негодяя, которого им приведут литовцы. «Сами поляки четко и откровенно говорят, что он – не настоящий Дмитрий и что они могут за одну ночь выпекать по 15 таких бродяг», – пытался вразумить нарвский наместник ивангородского воеводу. Но письменные убеждения шведов не действовали на русские пограничные крепости, присягнувшие второму Лжедмитрию. На шведскую пропаганду оттуда огрызались, что Васька Шуйский продался шведам, хочет ввести «лютерскую» веру в России и потому верные ему русские отдались сатане и его слугам.
«Значит, Шуйский жив и еще не потерял престола», – заключили в Швеции, изучив эти контрпропагандистские послания. Следовательно, письмо Скопина-Шуйского с просьбой о помощи являлось не частной новгородской инициативой, оно было продиктовано из Кремля.
В ноябре 1608 года королевский секретарь Монс Мортенссон, прибыв в Новгород, заключил от имени шведского короля предварительное соглашение об оплате и составе вспомогательных войск. Стороны договорились, что Швеция предоставит три тысячи пехоты и две тысячи всадников. Одновременно в Лифляндии, где война несколько утихла, вовсю шла вербовка иностранных наемников для похода в Россию. Королевский комиссар привлекал солдат со всей Европы, успевших повоевать и на польской, и на шведской стороне, гарантируя высокое жалованье и возможность беспрепятственно грабить в неповинующихся царю районах. «Царь обещает платить конному 25 далеров, а пешему солдату – 12 далеров в месяц. Платить начнут сразу после перехода русской границы!» – вешали вербовщики в лифляндских кабаках и на площадях разрушенных войной городов, угощая пивом за счет казны ободранное и обнищавшее воинство. Деньги предлагались немалые – более чем в два раза превышавшие обычную шведскую солдатскую плату. Оборванцы с оружием уже чувствовали себя богачами. На 12 далеров можно было купить трех коров, или двенадцать бочек ржи, или четыре бочки пива – в какой ходовой товар ни переводи, получалось много.
Войско собирался возглавить популярный среди солдатского сброда человек: сам главнокомандующий шведскими войсками в Лифляндии граф Мансфельд. «Большому воеводе, графу», как обещали русские на переговорах в Новгороде, они дадут пять тысяч далеров в месяц. Опытным воинам, пропившим и проевшим после увольнения из армии одежду и даже оружие, обещали предоставить экипировку в Або. Туда уже прибыли специальные представители Скопина-Шуйского – стольник Семен Головин и дьяк Сыдавной Зиновьев с казной в пять тысяч рублей, предназначенной на снаряжение войска.
Вооруженный последними секретными королевскими инструкциями, граф Мансфельд поднялся в Ревеле на борт корабля, отправлявшегося в Або. Карл IX призывал полководца не особенно увлекаться помощью русским, главной задачей были территориальные приобретения для короны. Прежде всего следовало с парой тысяч воинов, используя петарды, захватить Ивангород, перешедший на сторону второго Лжедмитрия. Если русские возмутятся, объявив это нарушением мира, их нужно обмануть, сказав, что город взят по просьбе Василия Шуйского для него самого.
Увы, каприз природы помешал графу Мансфельду войти в русскую историю и сказочно разбогатеть. Корабль едва вышел из ревельской гавани, как начался один из обычных на Балтике в ноябре штормов. Громоздкий парусник никак не удавалось развернуть на север, к близкому финскому берегу – шквалистый западный ветер рвал паруса, направляя корабль в открытое море. Многочасовая борьба со стихией закончилась полным поражением. Финский берег и Або остались по правому борту, корабль отнесло к побережью Швеции.
Ветер оказался стеной, которую так и не смог преодолеть шведский полководец. Вскоре планы короля в отношении графа Мансфельда изменились: наступление польской армии в Ливонии потребовало его возвращения туда. На роль командующего вспомогательным войском появилась другая кандидатура. Это был 26-летний Якоб Делагарди, сын прославленного Понтуса Делагарди, захватившего у русских в 1580–1581 годах ряд приграничных крепостей, в том числе Кексгольм, Нарву, Ивангород, Яму и Копорье. Военные успехи старшего Делагарди в Эстляндии и Ингерманландии оставили такой след в народном сознании, что темные люди считали его союзником самого дьявола. «Когда у Понтуса не хватало солдат, он ощипывал курицу, произносил заклинание и сдувал ее перья с ладони. Едва эти перья падали на землю, как из них вырастали закованные в железо солдаты», – рассказывали эстонские и русские крестьяне долгими зимними ночами легенды о страшном шведе, пришедшем когда-то в их края со своим заколдованным мечом.
Все завоевания Понтуса, кроме Нарвы, шведам пришлось впоследствии отдать русским, и теперь его сыну Карл IX доверил повторить подвиг отца. Новость о том, что «Понтус вернулся», разойдясь по Ингерманландии, должна была парализовать волю защитников русских крепостей.
Впрочем, свои истинные намерения шведский король доверял лишь текстам секретных инструкций. Представителям Василия Шуйского он сообщил о куда более скромных требованиях в обмен на шведскую помощь. Русский великий князь должен был навечно отказаться от притязаний на Ливонию, подтвердить на все времена Тявзинский мир и передать Швеции крепость Кексгольм, называемую у русских Корелой, вместе со всем уездом. Новгород и Швеция приступили к подготовке договора. Король предвидел, что на пути соглашения появятся препятствия, но их оказалось куда больше, чем он мог предусмотреть.
Дипломатов в то время подстерегали самые разные опасности: их убивали на дорогах разбойники, они тонули в море, их бросали в тюрьмы разъяренные иностранные властители, которым не было знакомо сегодняшнее понятие «дипломатического иммунитета». В сношениях с Россией послы могли стать жертвами и еще одного коварного врага – алкоголя. «Напоить иностранца у русских считается вопросом чести, а те, кто не может или не хочет упиться, не пользуются никаким уважением. Напротив, они всячески превозносят тех, кто без меры напивается пивом, медом и вином», – писал шведский дипломат Петр Петрей, находившийся в Москве в 1608 году с поручением Карла IX предложить Василию Шуйскому заключить договор со Швецией. Спаивая иностранных дипломатов с тем, чтобы у тех от алкоголя развязались языки, их русские партнеры и сами рисковали жизнью. Жертвой дипломатической традиции стал посланный Михаилом Скопиным-Шуйским в Стокгольм курьер. В январе 1609 года от Карла IX в Новгород пришло скупое сообщение, что курьер «Петр Филиппович упился самогоном в усмерть».
Вот как рассказывает об этом драматическом эпизоде Петр Петрей: «Как женщины, так и мужчины пьют до неумеренности и излишества, так что не в состоянии ни ходить, ни стоять: от того многие из них и умирают скоропостижно, что и случилось в славном столичном городе Стокгольме, во время знаменитого короля Карла IX, к которому послан был от Великого князя один москвитянин за каким-то делом. Вечером в жилище его поставили перед ним разных напитков, испанских, рейнских и других вин: он пил их по-скотски за свое здоровье и неумеренно прикладывался к водке, несмотря на напоминания шведов, что эта водка то же самое вино, которое гонят у русских из овса и воды, и потому ее нельзя так много пить, как он пьет. Он не обращал на то внимания и все продолжал пить, так что наутро, когда ему следовало бы быть на представлении у короля, нашли его мертвым».
К счастью, главные русские переговорщики – Семен Головин и Сыдавной Зиновьев, – так же как и их шведские партнеры послы Йоран Бойе и Арвид Теннессон, отличались крепким здоровьем и выдержали почти месячные обсуждения в Выборге, перемежавшиеся обильными возлияниями. 28 февраля 1609 года договор был заключен. Русские послы от имени царя и под ответственность князя Михаила Скопина-Шуйского подписали соглашение, согласно которому Тявзинский мир подтверждался на все времена, царь отказывался от притязаний на Лифляндию и передавал Швеции в вечное владение Кексгольм с уездом. Территориальная уступка могла лишить Шуйского последних сторонников в России, поэтому послы просили хранить этот пункт договора в глубокой тайне. «Велев выйти своим спутникам, они под клятвой молчания, секретным образом и на языке, без переводчика непонятном, уславливаются о присоединении Кексгольмского замка с областью навсегда к шведским территориям, а также об утверждении великим князем в течение двух месяцев актов, касающихся этого», – сообщает о ходе переговоров шведский историк XVII века Юхан Видекинд, имевший доступ к ныне утраченным документам. Кексгольм следовало передать Швеции через одиннадцать недель после начала похода.
Король обязался предоставить Шуйскому пятитысячное войско по уже утвержденным ранее расценкам. Общая плата составляла 32 тысячи рублей в месяц – огромная сумма для российской казны, если учесть, что ежемесячное жалованье десятитысячного отборного стрелецкого войска обходилось царю в шесть раз дешевле. Король обещал дать впоследствии дополнительно несколько тысяч солдат за ту же плату, исходя из своих возможностей. Шведские военачальники, согласно русскому тексту договора, обязывались быть у Скопина-Шуйского «в послушанье и в совете, а самовольством ничего не делати».
Наемникам сообщили, что идти нужно до самой Москвы, где сидел на своих богатствах окруженный со всех сторон врагами русский царь. Уж там он достойно вознаградит каждого за помощь. Воображение солдат рисовало сокровища Кремля, о которых в Европе ходили легенды. Один камешек из царских сундуков мог обеспечить простого человека на всю жизнь! С другой стороны, даже самым отважным было страшновато отправляться в бесконечные дикие русские просторы. В таком дальнем походе – более чем в тысячу километров – не был ни один европейский солдат. Оставалось надеяться на удачу и помощь высших сил. Наемники показывали друг другу свою секретную защиту, у одного это были кости святых покровителей, у других – листочки с заклинаниями, спасавшими от пули и удара меча. По опыту своих прежних сражений они знали, что многих их товарищей не защитили от смерти самые надежные амулеты и заговоры, но это лишь означало Божью волю, от которой не уйдешь. Возле русской границы собрались тертые люди, пришедшие сюда, как гласила популярная среди шотландских наемников поговорка, не для того, чтобы спросить, который час и вернуться домой. Ветер с востока доносил до Выборга дым пожарищ. Это был знакомый будоражащий запах войны, суливший кому славу, кому наживу, а кому и смерть.