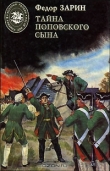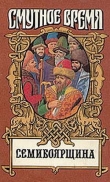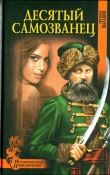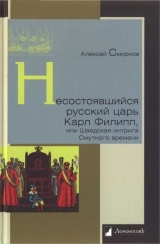
Текст книги "Несостоявшийся русский царь Карл Филипп, или Шведская интрига Смутного времени"
Автор книги: Алексей Смирнов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Вскоре после устранения с политической сцены Сидорки в Ярославль явились посланные Заруцкого и Трубецкого с предложением соединиться с нижегородским ополчением в борьбе с поляками. Казаки сообщали, что Марину и ее сына на царство они более не желают, а в своем недавнем выборе Дмитрия раскаиваются, с наивной простотой признав, что это был «прямой вор», не тот, который сидел в Тушине и в Калуге: «Мы про того вора сыскали и от него отстали, и крестным целованием меж собой укрепились, что нам тому вору не служити, и иного никакого вора не затевать, а выбрати на Московское Государство Государя, соединяясь всем Московским Государством».
Временное правительство согласилось принять помощь казаков, но провинциальное дворянство, составлявшее костяк сил Пожарского, все равно не испытывало к ним доверия. Передовым отрядам ополчения, пришедшим к Москве в первых числах августа, было приказано строить острожки отдельно от казачьих таборов и опасаться казаков так же, как и поляков. Заруцкий понимал, что над ним сгущаются тучи. В конце июня в Ярославле поймали двух казаков, неудачно покушавшихся на жизнь Пожарского. На допросе они показали, что были подосланы Заруцким. Когда основные силы ополчения подойдут к Москве, Заруцкому могли припомнить и организацию этого покушения, и смерть Прокопия Ляпунова. Растаяли надежды на возведение на трон сына Марины Мнишек – большинство казачьих атаманов стало склоняться к мысли, что эта карта отыграна и нужно искать другого кандидата. Нужно было начинать все сначала. И Заруцкий с двумя тысячами сторонников покинул лагерь, уйдя в Коломну, где ожидала развязки его любовница Марина Мнишек с «воренком». Затем за сыном царицы прислали астраханцы, и Заруцкий увел свою маленькую армию на юг, в Астрахань, надеясь вскоре вновь подняться на очередной волне Смуты. Но его звезда клонилась к закату. Заруцкого выдали царским войскам его товарищи-казаки, и Марина Мнишек в очередной раз стала вдовой. Ее невенчаного супруга в августе 1614 года посадили на кол в Москве. Еще бесчеловечнее обошлись с ее четырехлетним сыном, которого в столице называли «Ивашкой-Воренком». В октябре того же года ребенка обманом забрали у Марины, сидевшей в башне кремля в Коломне, и привезли в Москву.
Было холодно, ребенок мерз в одной рубашке, которая была на нем во время заточения в каменном мешке. Палач завернул дрожащего «воренка» в шубу и на руках отнес на Лобное место – традиционное место публичных казней, где он и был повешен. Вскоре ушла в мир иной и Марина – ее то ли отравили, то ли она покончила с собой, разбив голову о железные плиты камеры. По официальной версии «Маринка на Москве от болезни и тоски о своем выбледке умерла». Современники считали такую жестокость вполне оправданной – именем Марины и «воренка» уже были убиты тысячи людей, и потому следовало любой ценой избавиться от риска возобновления гражданской войны…
С бегством Заруцкого из подмосковных таборов второе ополчение избавилось от угрозы вооруженной конфронтации с казаками. Боярин Дмитрий Трубецкой, формально возглавлявший казачьи отряды, был готов на союз, собственных политических планов он не имел, а заботился лишь о соблюдении «чести». Теперь можно было брать Москву.
Обычным оружием для взятия крепостей был голод, и ополчение лишь заботилось о том, чтобы его призрак смог материализоваться во всесокрушающего великана. В первых числах сентября на помощь осажденным с четырьмя сотнями возов продовольствия в очередной раз пришел гетман Великого княжества Литовского Карл Ходкевич, но его двухтысячное войско завязло в выкопанных русскими рвах и ямах, окружавших Китай-город. Несколько дней шли сражения. Поляки выпрягли из телег лошадей, которые не могли пройти через завалы, устроенные вокруг стен Китай-города, и принялись толкать возы сами, подходя то с одной, то с другой стороны к крепости, но каждый раз были вынуждены отступать. Одну из атак армии Ходкевича попытались поддержать своей вылазкой осажденные, но они к сентябрю уже не представляли опасности для Пожарского. «Русские, наевшись хлеба, были сильнее наших, которые шатались от дуновения ветра. Только шляхетное благородство могло побудить их решиться на эту вылазку, чтобы показать своему вождю гетману и своему государю королю, что для блага отечества они готовы умереть. В то время несчастные осажденные понесли такой урон, как никогда. Когда они ели хлеб, русские никогда не были для них так страшны и сильны; всегда они на вылазках поражали русских, вгоняли их в таборы и, устрояя засады, хватали русских из таборов, как грибы; но когда не стало хлеба и голод усиливался, в то время не только ноги, но и руки отказывались служить; тогда русским легко было бить поляка, совсем обессилившего, не могущего ходить, бессильного даже уходить», – писал в своем дневнике полковник Осип Будило, сидевший со своим полком в осаде.
Ходкевич, обескровленный бесплодными атаками, объявил осажденным, что на три недели покинет Москву, чтобы вернуться с новыми силами из Смоленска. Но этим обещаниям не суждено было исполниться. В Польшу вторглись турки, королю Сигизмунду стало не до осажденного в Москве гарнизона.
В конце сентября князь Пожарский направил полякам письменное предложение о сдаче, сообщив, что помощь не придет: «Королю теперь нужно думать о себе, – он рад будет, если его избавят от турок… Ваши головы и жизнь будут сохранены вам. Я возьму это на свою душу и упрошу согласиться на это всех ратных людей. Которые из вас пожелают возвратиться в свою землю, тех пустят без всякой зацепки, а которые пожелают служить Московскому государю, тех мы пожалуем по достоинству. Если некоторые из вас от голоду не в состоянии будут идти, а ехать им не на чем, то, когда вы выйдете из крепости, мы вышлем подводы». Надежды поляков на столкновение ополчения с казаками Трубецкого были беспочвенны: «Если бы даже у нас и была рознь с казаками, то и против них у нас есть силы и они достаточны, чтобы нам стать против них».
Ответ осажденных был проникнут высокомерием и полон оскорблений. Поляки называли Пожарского и его воинов бунтовщиками, забывшими о том, что они целовали крест царю Владиславу, утверждения о печальном положении польского государства считали ложью и насмехались над неумением ополченцев – людей мирных профессий – сражаться в открытом бою. «Мужеством вы подобны ослу или байбаку, который, не имея никакой защиты, принужден держаться норы, – писали осажденные. – Ваше мужество, как это мы хорошо знаем и видим, сказывается в вас только в оврагах и в лесу; ведь мы хорошо видели собственными глазами, как страшен был вам гетман Великого княжества Литовского с малою горстью людей. Мы не умрем с голоду, дожидаясь счастливого прибытия нашего государя – короля с сыном, светлейшим Владиславом, а счастливо дождавшись его, с верными его подданными, которые честно сохранили ему верность, утвержденную присягой, возложим на голову царя Владислава венец… Ложью вы ничего не возьмете и не выманите. Мы не закрываем от вас стен; добывайте их, если они вам нужны, а напрасно царской земли шпынями и блинниками не пустошите; лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть хлоп по-прежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, Кузьмы пусть занимаются своей торговлей, – царству тогда лучше будет, нежели при твоем управлении, которое ты направляешь к последней гибели царства».
Однако уже спустя месяц после этого дерзкого ответа осажденные направили к гетману Литовскому двух послов с просьбой немедленно, в течение недели, прийти на помощь, иначе Москва падет. Гордые польские рыцари, кичившиеся перед русскими своим благородством и верностью долгу, клявшиеся, что готовы умереть за короля, в борьбе за жизнь превратились в зверей. Страшный голод пришел рука об руку с морозом и снегом, под которым исчезла жухлая трава, которой питались люди. В нетопленых и темных кремлевских палатах, наполненных бесценными сокровищами, бродили скелеты с вывалившимися от цинги зубами, покрытые лохмотьями легкой одежды, с ногами, обмотанными суконными тряпками, которые заменяли съеденную кожаную обувь. Их глаза горели безумием, а иссохшие руки хватали саблю при каждом шорохе: в любой темной нише мог таиться такой же призрак, вышедший на охоту за человеком. Давно пустовала страшная пыточная башня с узкими лавками вдоль стен и крюками, косами и пиками, воткнутыми в пол. Уснувший узник, неловко повернувшись на своем ложе, падал на пол и оказывался пронзен этим страшным железом. Но несчастных избавили от долгих мук, съев уже в первые дни голода.
Вот как повествует о преисподней, точно поднявшейся в Кремль, чтобы покарать поляков, превозносивших свои добродетели перед «низкими» русскими, дневник полковника Будилы: «Ни в каких летописях, ни в каких историях нет известий, чтобы кто-либо, сидящий в осаде, терпел такой голод, чтобы был где-либо такой голод, потому что когда настал этот голод и когда не стало травы, корней, мышей, собак, кошек, падали, то осажденные съели пленных, съели умершие тела, вырывая их из земли; пехота сама себя съела и ела других, ловя людей. Пехотный поручик Трусковский съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою мать; один товарищ съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца не щадил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого мог, кто был здоровее другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал такового, судились, как о наследстве, и доказывали, что его съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому другому. Такое судное дело случилось во взводе г. Леницкого, у которого гайдуки съели умершего гайдука их взвода. Родственник покойника – гайдук из другого десятка жаловался на это перед ротмистром и доказывал, что он имел больше права съесть его, как родственник; а те возражали, что они имели на это ближайшее право, потому что он был с ними в одном ряду, строю и десятке. Ротмистр… не знал, какой сделать приговор, и опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места. Во время этого страшного голода появились разные болезни, и такие страшные случаи смерти, что нельзя было смотреть без плача и ужаса на умирающего человека. Я много насмотрелся на таких. Иной пожирал землю под собою, грыз свои руки, ноги, свое тело и что всего хуже, – желал умереть поскорее и не мог, – грыз камень или кирпич, умоляя Бога превратить в хлеб, но не мог откусить. Вздохи: ах, ах – слышны были по всей крепости, а вне крепости – плен и смерть. Тяжкая это была осада, тяжкое терпение! Многие добровольно шли на смерть и давались неприятелю: счастье, если кто попадется доброму врагу, – он сохранял ему жизнь; но больше было таких несчастных, которые попадали на таких мучителей, что прежде, нежели сдавшийся спускался со стены, был рассекаем на части».
Седьмого ноября 1612 года голод открыл ворота крепости. Полумертвые от истощения поляки, выбитые за четыре дня до этого из Китай-города, согласились сдаться. Они выговорили себе лишь одно условие – сохранение жизней. Те, кого взяло ополчение Пожарского, выжили, но почти всех пленников, оказавшихся в казачьих руках, ждала смерть. В таборах Трубецкого царили разбойничьи нравы, и что значили клятвы о сохранении жизни сдавшимся врагам перед возможностью отомстить им за гибель товарищей!
Бояре, сидевшие с поляками в осаде и до последнего сохранявшие преданность королю Сигизмунду и его сыну, отделались испугом. Казаки требовали перебить бояр за измену, а их имущество разделить на войско, но дворяне из земского ополчения встали на их защиту. Слишком велико было у них почтение к боярскому сану, чтобы поднять руку на представителей древних княжеских родов, хотя бы и сотрудничавших с врагом. Впрочем, члены семибоярского правительства представили дело так, что они находились в Кремле на положении пленников и потому заслуживают благодарности за перенесенные страдания. Ради успокоения страны вожди земского ополчения предпочли поверить в эту версию.
Кремль, переживший полуторагодовую осаду, был разорен и осквернен. Ополченцев поразило зрелище чанов с засоленным мясом, стоявших в подвалах. Это была человечина – останки родственников и друзей обезумевших польских рыцарей, ставших каннибалами. Церкви были поруганы, наполнены нечистотами, иконы обезображены. В кремлевских дворцах остались лишь каменные стены – спасаясь от холода, осажденные сожгли не только кровлю помещений, но и двери, оконные рамы и лавки. Исчезла драгоценная коллекция древних византийских манускриптов: поляки пытались утолить голод, вываривая пергамент и добывая из него растительный клей.
Колокола Успенского собора в Кремле и других переживших пожар 1611 года московских церквей звонили по случаю освобождения столицы, когда пришла весть о приближении короля Сигизмунда с сыном. Королю удалось собрать только двухтысячное войско – Польша была разорена, наемники отказывались воевать в долг, – однако он надеялся, что одним своим появлением в окрестностях Москвы придаст мужества «польской партии» в России и непостоянные подданные царя Владислава вновь склонят перед ним головы. Безуспешно попытавшись взять Волоколамск, король отступил от его стен и решил, что русские крепости сами распахнут свои ворота, стоит лишь договориться с вождями ополчения в Москве. К князьям Трубецкому и Пожарскому были посланы двое русских парламентеров в сопровождении сильного отряда. Но надежды Сигизмунда, что его ждут в столице, не оправдались. Послов избили и прогнали, хотя те и принесли утешительные вести о том, что сторонники Владислава все еще оставались в столице, несмотря на отъезд в свои вотчины многих бояр, запуганных чернью: «На Москве у бояр, которые вам, великим господарям служили, и у лучших людей хотение есть, чтобы просити на господарство вас, великого господаря королевича Владислава Жигимонтовича». Однако всем заправляют казаки, которые «делают все, что хотят».
Некоторое время король в нерешительности стоял под Волоколамском, взвешивая свои шансы на взятие Москвы: послы сообщили, что ополчение рассеялось, в столице осталось едва две тысячи дворян и примерно четыре тысячи казаков, остальные разъехались кто куда. Дворяне отправились по своим поместьям, а казачьи отряды – искать добычи в менее разоренных областях страны. Серьезной военной опасности остававшиеся в Москве осколки ополчения не представляли, и все же король повернул назад. Его испугала перспектива зимовки в глубине чужой голодной страны с ненадежной армией, жаловавшейся на скудную оплату. Поход за русской короной пришлось отложить до лучших времен.
Польская опасность исчезла, и победители стали деятельно готовиться к избранию царя. Уже в первых числах ноября по городам и областям России были разосланы повестки с призывом отправить в Москву к шестому декабря по десять «лучших, разумных и постоятельных» людей от каждого города, чтобы им «о государственном деле говорити». Однако первые делегаты появились в Москве только в январе 1613 года, когда подтвердились новости о возвращении Сигизмунда в Польшу. Постепенно количество выборщиков, представителей всех сословий – от посадских людей до духовенства, – достигло полутысячи, они съехались из пятидесяти городов России, откликнувшихся на приглашение участвовать в царских выборах.
В Москве их ждал хаос политической борьбы, с угрозами, подкупами и подтасовками. Кандидатов на русский трон было много, и депутатов разрывали между собой сторонники различных партий. Но вскоре выкристаллизовались две главные силы, боровшиеся за умы и души выборщиков. Первую представляли казаки и близкое им по социальному происхождению и взглядам низшее духовенство, в основном монахи. Они отвергали иностранных кандидатов на престол, призывая выбрать «Маринку с сыном» или 16-летнего Михаила Романова, сына митрополита Филарета Романова. С ними у казаков, большинство которых когда-то сражалось на стороне «тушинского вора», было общее прошлое – из него они надеялись извлечь практические выгоды: получить жалованье за службу и возможность продолжать грабить под снисходительным взглядом государя «из своих». Филарет Романов, кроме того, что в тушинском лагере исполнял обязанности патриарха, привлекал патриотов своими страданиями в польском плену, куда он попал, отправившись к королю Сигизмунду в составе посольства. Вспоминали о том, что боярин Романов когда-то сам мог стать царем, об этом, мол, говорилось в завещании последнего из Рюриковичей – Федора Иоанновича, но коварный Борис Годунов перехватил у него царский посох, а опасного соперника и его жену вынудил принять монашество, чтобы навсегда удалить их из светской жизни.
Казаки, куда более многочисленные, чем провинциальное дворянство, оставшееся в Москве после роспуска земского ополчения, пытались добиться своего, терроризируя противников. Но князь Дмитрий Пожарский не собирался уступать давлению крикливой и скорой на расправу голытьбы. В освобожденной Москве он последовательно продолжал политическую линию, выбранную еще в Ярославле, добиваясь воцарения шведского принца Карла Филиппа. Страшнее казачьего буйства было промедление с приездом ставленника земского ополчения к русской границе.
В ноябре 1612 года Делагарди отправил в Москву из Новгорода дворянина Богдана Дубровского, который уверил вождей ополчения в скором появлении принца в Выборге и, в свою очередь, убедился в неизменности взглядов Совета всей земли на будущее московского трона. Князь Дмитрий Пожарский сообщил, что уже обсуждается состав посольства, которое должно встретить будущего великого князя на границе для сопровождения его в Москву. Наконец-то лед тронулся и в Стокгольме. В декабре Делагарди получил долгожданное известие от короля Густава Адольфа, что принц в сопровождении комиссаров, уполномоченных заключить договор с русскими, прибудет в Выборг до конца февраля 1613 года. Король, правда, не отказался от своих претензий на русские приграничные крепости, но эти строки его письма, способные сорвать дело, так и не стали известны вождям земского ополчения. Копия королевского послания, с которой отправился в Москву из Новгорода очередной гонец, содержала только приятные новости о скором прибытии принца. Делагарди по совету новгородских властей приказал вычеркнуть при переводе абзацы, свидетельствующие о неумеренном аппетите шведской короны.
С приездом в Москву новгородского гонца позиции дворянской партии во главе с Дмитрием Пожарским еще более усилились. Вождю ополчения удалось перетянуть на свою сторону казачьего предводителя боярина Дмитрия Трубецкого, отказавшегося от поддержки кандидатуры Михаила Романова. Нельзя было забывать и о традиционном авторитете в народе представителей родовитых боярских фамилий. Пусть многие бояре и запятнали себя сотрудничеством с поляками, но обаяние их громких фамилий было куда сильнее, чем негодование по поводу их поступков. И Дмитрий Пожарский распорядился вызвать в Москву укрывшихся по вотчинам «изменников», обещав им защиту от казачьего произвола. «Польская партия», поняв, что принц Владислав на выборах не пройдет, влилась в ряды «шведов»: Карл Филипп был все же лучше, чем отечественный кандидат, победа которого могла означать продолжение анархии и соперничество за власть различных кланов.
Казаки, видя усиление противников, попытались заставить избирательный Собор ответить на принципиальный вопрос: выбирать царя из русских или из иностранцев? Ставка была на то, что непопулярный к тому моменту принц Владислав, точно гиря, потянет за собой на дно еще не отыгранного Карла Филиппа. Но сторонники Михаила Романова проиграли. Дмитрий Пожарский выступил с убедительной речью, напомнив выборщикам о бедах, которые повлечет за собой избрание царя из «своих». Недавний опыт показывал, что с соотечественниками на престоле русская земля пережила много бед и только шведский принц сможет спасти страну от анархии и объединить народ перед угрозой нового польского вторжения. Если же выберут царя из урожденных русских, не только Польша, но и Швеция станет врагом. Кроме того, оккупированный шведами Новгород с прилегающими территориями будет безвозвратно потерян.
7 февраля 1613 года выборщики, заседавшие в Большом Кремлевском дворце, высказались в пользу иноземного принца, то есть Карла Филиппа. Его коронацию запланировали на конец месяца. Это принципиальное решение, проведенное национальным героем Дмитрием Пожарским, почти на четыре столетия стало одной из самых больших тайн русской историографии. Профессионалы, поначалу выполнявшие заказ правящего дома Романовых, а затем следуя традиции, вышли из неудобного положения с исключительной простотой. За решение Собора была принята непрошедшая резолюция «казачьей партии», гласившая: «а Литовского и Свийского короля и их детей, за их многие неправды, и иных никоторых земель людей на московское государства не обирать, и Маринки с сыном не хотеть».
Шли дни, Пожарский и его сторонники с надеждой ждали новостей из Новгорода о прибытии Карла Филиппа в Выборг. Обстановка в столице между тем накалялась. Казаки всеми силами пытались разрушить формальный ход выборной процедуры. Видя, что проигрывают, они предложили бросить жребий, чтобы Бог указал, кому из кандидатов на престол править на Руси, а когда эта идея была отвергнута, стали готовить переворот. Толпы вооруженных оборванцев, предводительствуемые кликушами-священниками, собирались у дворов Пожарского и Трубецкого, перешедших на осадное положение. Чернь вопила, что хочет только Михаила Романова, который вознаградит ее за лишения и страдания при освобождении Москвы от поляков. Шведский король обманывает русских, как это уже сделал Сигизмунд, он хочет приобрести Россию для себя!
Запуганные выборщики стали колебаться. У всех на памяти была расправа казаков с предводителем первого земского ополчения Прокопием Ляпуновым. Жизнь дороже, чем принципиальный спор о том, кто окажется лучшим царем для России. К тому же аргументы казачьих вождей начинали действовать. Королевич все не ехал, и – кто знает, – может, шведский король Густав Адольф вовсе и не думает отпускать брата на царство, а лишь пытается извлечь из этой истории собственные выгоды. Пожарский пытался тянуть время, говоря, что Михаил Романов слишком молод, ему нельзя садиться на престол в такое трудное время. Казачья партия восприняла эту новую тактику как проявление слабости и лишь усилила нажим.
Среди бояр, чутко следивших за расстановкой сил в Москве, тоже появились сторонники Михаила Романова. В конце концов, юность и слабость монарха тоже могут быть полезны – больше власти перейдет к боярской думе. Федор Шереметьев, объясняя причину своей активной поддержки этого кандидата, писал боярину Василию Голицыну, находившемуся в польском плену: «Мы выберем Мишу Романова, он молод и еще незрел умом, и нам с ним будет повадно».
Страсти достигли пика, когда выборщики собрались на очередное заседание 21 февраля 1613 года. Во дворец ворвались разъяренные казаки с криками, что никто отсюда не уйдет, пока не выберут Михаила Романова. В русской историографии, на протяжении столетий лепившей из лоскутов приемлемую канву событий, об этом форменном парламентском перевороте ничего не говорится. Лишь вскользь упоминается, что права Михаила Романова на престол популярно объяснил Собору некий «славного Дону атаман». Однако для современников обстоятельства воцарения основоположника династии Романовых не были тайной. В Швеции и Польше даже годы спустя после этих событий Михаила Романова презрительно называли «казачьим царем».
Мы не знаем, что происходило в тот день с Дмитрием Пожарским и его сторонниками, возможно, их попросту не пустили на заседание Собора. В поспешно разосланной 25 февраля по городам грамоте говорится о единодушном избрании на престол Михаила Романова. Польского и шведского принцев Собор отверг, поскольку отец первого разорял Россию и угнетал православных, а шведский король обманом захватил Новгород. Среди лиц, подписавших этот документ, нет имен вождей земского ополчения Пожарского и Трубецкого, как и имени знатнейшего из бояр, возглавлявшего семибоярское правительство, князя Мстиславского. Казачий переворот удался, теперь оставалось убедить робкого и болезненного юношу принять скипетр из рук разбойников, уже вознесших за последние годы к власти череду самозванцев.
Никто точно не знал, где находятся Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа, выехавшие из бурной и голодной Москвы сразу после освобождения столицы от поляков. Была сформирована делегация – нетрудно догадаться, что в ее составе не было ни Дмитрия Пожарского, ни Кузьмы Минина, ни Дмитрия Трубецкого, находившихся под домашним арестом, – которой поручили «искать царя». Его нашли тринадцатого марта в Ипатьевском монастыре возле Костромы.
Торжественная церемония приглашения Михаила на царство состоялась на следующий день. Посольство, взяв для поддержки костромское духовенство, направилось к монастырю с иконами и хоругвями. Инокиню Марфу с сыном пригласили прошествовать в соборную церковь, где послы и сообщили о цели своего визита: Московское государство просит Михаила принять скипетр, а мать – благословить сына на царство. Эта новость не вызвала радости у монастырских затворников. Марфа ответила послам: «Сын мой еще не в совершенных летах, да притом Московского государства люди измалодушествовались – давали свои души прежним московским государям и не прямо служили им». Перечислив всех погубленных московских царей – от убитого сына Бориса Годунова до Василия Шуйского, постриженного в монахи и отправленного в Польшу, – Марфа заключила: «Как же можно быть на Московском государстве государю, видя такое непостоянство и крестопреступления, и убийства, и поругания над прежними государями?» Ее беспокоило и разорение государства, из-за чего царь не мог выполнять своих обязанностей – платить войску и чиновникам, – и судьба находившегося в польском плену митрополита Филарета, которого поляки могли убить из мести после избрания на престол его сына. Кроме того, без благословения отца нечего было и думать о принятии Михаилом царского посоха.
Надо сказать, что Филарет из плена поддерживал переписку со своей семьей и друзьями и, зная о планах возведения на престол его сына, никак эти проекты не поощрял. Он выгодным образом отличался от прочей русской знати – исключительно косной по европейским меркам – своим интересом к наукам, моде и иностранным языкам, был человеком волевым, крепким и честолюбивым. Хилый и недалекий сын, не получивший даже минимального образования в годы потрясений, обрушившихся на Россию, вряд ли мог справиться со вздыбившейся страной и удержать в руках царский скипетр. Когда-то отец Михаила и сам мечтал о царском венце. В середине девятнадцатого века в запасниках музея в Коломне был найден портрет Филарета в патриаршем облачении – работа художника XVIII века. На холсте проступала корона, явно относившаяся к какой-то другой работе. Верхний слой краски сняли, и под портретом священника оказалось изображение того же человека, но со скипетром в руках и с порфирой на плечах. Надпись на этом более старом полотне гласила: «Федор, царь всея Руси».
После принудительного пострижения в монахи отец Михаила закрыл для себя возможности светской карьеры, но при этом и не переносил свои несбывшиеся мечты на сына. В письмах из плена в Москву он предлагал выбрать царем кого-либо из бояр, ограничив его права. Филарет явно проникся обаянием польской конституции, запрещавшей королям принимать важные решения – от объявления войны до изменений законов – без согласия сейма. И все же судьба распорядилась так, что корону собирались вручить сыну Филарета, менее многих пригодному по своим качествам для вывода России из кризиса.
Робкий семнадцатилетний юноша с безвольным лицом, нетвердо стоявший на больных ногах, с надеждой и страхом смотрел на мать, ожидая ее решения. Ему протягивали посох – он его с ужасом отталкивал, точно это была змея, которая могла ужалить. Послы клялись, что Михаил не повторит судьбу своих предшественников на троне, что все русские люди соединились в желании избрать его царем, а отказ приведет к исчезновению Московского государства и гибели православной веры: «За души православных христиан взыщет Бог на тебе, государь Михаил Федорович, и на тебе, на великой старице иноке Марфе Ивановне!»
Вообще-то русская традиция требовала, чтобы народ умолял будущего царя принять царство, а тот отказывался. Подобные спектакли с заранее известным концом разыгрывались по нескольку дней, и чем сильнее кипели страсти, тем почетнее считалось для обеих сторон. Но в данном случае, судя по отрывочным свидетельствам современников, сопротивление Михаила и его матери было искренним. Четыре царя, свергнутых с престола за последние десять лет – Федор Годунов, два Лжедмитрия и Василий Шуйский, – из которых троих убили, а четвертый томился в плену, могли заставить задуматься даже зрелого честолюбца, не говоря уже о тихом юноше.
И все же миссия послов удалась. Уговоры тронули Марфу, и она благословила Михаила на царство. Молодой человек принял посох из рога волшебного зверя Единорога, спасенный от польских солдат в Кремле.
Недалекий, всего в триста километров путь Михаила Романова из Костромы в Москву занял два месяца. Царь со свитой ехал с длительными остановками, и земля на его пути казалась одной сплошной раной, по которой брели куда глаза глядят искалеченные и обожженные странники. Подходя к царскому поезду, они рассказывали о зверствах казачьих шаек, мучивших и убивавших людей, сжигавших их дома, чтобы выбить из населения деньги и пожитки. Летописи рассказывают, что Михаил был так поражен представшей перед ним картиной, что хотел вернуться назад, обратившись к послам с упреком: те, мол, обманули его, уверяя, что государство успокоилось.
Длительное путешествие было связано не только с душевными колебаниями Михаила, которые приходилось преодолевать долгими молебнами в святых местах, и весенним половодьем, затруднявшим поездку, но и необходимостью войти в соглашение с противниками царя. Родовая аристократия и вожди земского ополчения, хотя и вынужденные уступить казакам, были все еще грозными противниками, которым следовало дать гарантии их личной безопасности и привлечь на свою сторону. По ряду сведений, в марте и апреле стороны договаривались об ограничительных условиях царского правления, которые были заранее подготовлены для иностранных принцев в случае избрания кого-либо из них на московский престол – польского Владислава или шведского Карла Филиппа. В конце концов была составлена избирательная грамота, по которой Михаил – впервые в русской истории – обязывался не менять законов без согласия Собора или боярской думы, а также обещал объявлять войну и заключать мир с их одобрения. Это была форма правления, принятая в то время в Польше и Швеции. До нашего времени дошли лишь глухие упоминания о таком соглашении, следы которого были тщательно уничтожены через несколько лет, когда царская власть достаточно окрепла и Михаил Романов, поддержанный своим энергичным отцом, вернувшимся из польского плена, посчитал себя свободным от взятых некогда обязательств.