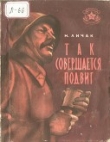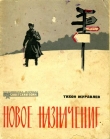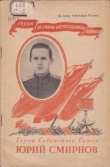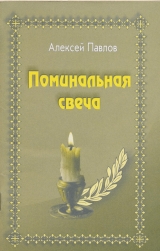
Текст книги "Поминальная свеча"
Автор книги: Алексей Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
ОТ ПЕРЕМЫШЛЯ ДО ЭРЗЕРУМА…
В самом начале Первой мировой войны Кубанская казачья область поставила на фронт около 60 тысяч активных штыков и сабель. По преимуществу казачьи полки
первой очереди вливались в Сарыкамышский, Ольтинс– кий и Батумский отряды, развернувшие боевые действия на Кавказе против отмобилизованной турецкой армии.
Большие силы кубанцев двинулись на запад. Из второй очереди маршевым порядком туда были переброшены 2–й Хоперский, 2–й Кубанский линейный и другие полки. В боях против австро – германских и турецких союзников вместе со всей русской армией кубанские воины сражались за Отечество мужественно и храбро.
В январе 1915 года завершились упорные трехмесячные бои в районе Перемышля. Город защищали три авст– ро – немецкие армии. Но капитуляции гарнизон не избежал. В плен угодило около 200 тыс. австрийцев, немцев, венгров. Брусиловские чудо – богатыри захватили более 70 орудий, 550 пулеметов и много других трофеев.
В той широкомасштабной операции приняли участие несколько соединений, частей и подразделений кубанцев. Офицер – артиллерист А. Дульцев, рассказывая о боях в Карпатах, упомянул ряд городов, где отлично проявили себя кубанцы – под Львовом, Збаражем, Галичем, Самбо– ром. Неотразимость их ударов враг испытал неоднократно, в его рядах не раз возникала паника.
В районе Львова героически сражался личный состав Таманского казачьего полка. После взятия города командование части помогло восстановить богослужение в русской православной церкви, подарило ей иконы и другие принадлежности. Герои – казаки тем самым подчеркивали, что в лоно православной Руси возвращаются отторгнутые вековыми недругами славян земли Галиции как законное «наследие князя Владимира Святого».
Несколько раньше, 10 августа 1914 года, в бою за деревню Требуховцы отличились казаки Кубанского имени генерала Вельяминова линейного полка. В самой деревне (после атаки казаков) осталось 38 убитых врагов. С налета была захвачена немецкая батарея. Убегая к лесу, австро – герман– цы потеряли еще до 70 человек. Казацкой пикой в висок был сражен австрийский генерал Родзиховский, направлявший сюда на помощь обороняющимся подразделения австро – венгерских гусаров. У линейцев же было 11 убитых. Хорунжий Д. Бондаренко с особым чувством вспоминал подвиг Подставкина, своего коллеги из второй сотни, который в конной атаке первым ворвался в деревню.
С выходом на венгерскую равнину в своей казачьей части пример мужества и героизма показал урядник
ст. Темиргоевской Иван Вавилов. Ему удавалось успешно таскать «языков» из разведки, за что он был награжден Георгиевским крестом II степени и британской медалью.
Из 2–го Кубанского линейного полка даховский казак первой сотни Иван Рева во время разведки случайно отбился от группы, попал на неприятельское минное поле. Австрийцы его не обстреливали, дабы не выдать свою систему обороны, и хотели тихо захватить в плен. Рева смекнул, в чем дело, и, поманипулировав с электропроводами, из укрытия поднял на воздух весь минный пояс. Мощный взрыв потряс окопы противника. По стелющемуся дыму казак ушел к своим, расчистив путь к наступлению 12–й Сибирской дивизии.
Подъесаул того же полка Петр Бабыч со своим небольшим отрядом сутки удерживал горный проход у деревни Сливки под натиском двух неприятельских батальонов, чем оказал неоценимую помощь двум казачьим полкам. «Будучи тяжело ранен в грудь, – говорит о нем очевидец, – продолжал руководить сотней до потери сознания».
На одном из участков Западного фронта сотник В. П. Ярошевич повел группу казаков в разведку с тем, чтобы вслед за нею мог двинуться вперед и весь казачий полк. Командир и его подчиненные вскоре оказались в плотном кольце окружения. На них наседали немцы, австрийцы, венгры – конные и пешие. В отрыве от своего полка храбрецы сражались до последнего патрона. Только нескольким из них удалось вырваться из западни.
После брусиловского прорыва освобожденные галицийские города посетил царь Николай И. Император чествовал лучшие соединения и части наступающей армии. Заезжал он и к кубанским казакам, 16 января 1916 года видел их на смотре. Особого его внимания и наград удостоились казаки 6–го пластунского батальона, шефом которого он объявил себя.
За многие сотни верст на другом фронте, в Закавказье, велись сражения с турками в пространстве от Черного до Каспийского моря. Закавказье то гремело упорными битвами, то на время стихало. Горное бездорожье, зимние глубокие снега и холода сковывали воюющие стороны. Однако и в этих удаленных местах кубанцы шли в первых рядах наступающих. Пути – дороги тут были исхожены вдоль и поперек их дедами и прадедами, многим из которых не Довелось вернуться на кубанскую сторонку из длинной череды войн с Турцией и Персией в прошлом веке.
Кавказская армия в целом удачно проводила военные операции. И здесь кубанские казаки не посрамили своей чести. В решающих схватках они одерживали верх над противником.
В сражениях за Ахтынский перевал, Сарыкамыш, Эр– зерум, Муш, Керманшах, у горы Арарат, на реке Кара– Дере и в других местах казаки – кубанцы показали несгибаемую волю к победе. С особым блеском участвовали 4–5 апреля 1916 года 1–я и 2–я Кубанские пластунские бригады в десантной операции по занятию турецкого го– рода – порта Трапезунд. Не зря же царь Николай II отметил орденскими наградами весь 3–й пластунский батальон в составе 550 казаков и объявил его шефом своего наследника, юного Алексея. Батальон не уступал противнику ни пяди земли, неудержимо продвигался в полосе наступления своей бригады.
1–й Кавказский конный казачий полк, один из старейших на Кубани и Кавказе, пластуны и другие части и подразделения вклинились далеко в глубь турецкой территории, заняли обширные окрестности в районе реки Евфрат. В частности, 1–й Кавказский полк занял Кизиложа, Перселик, Магары, Килиса – Куми и другие селения.
Оборонительные и наступательные бои кубанцев изобиловали примерами доблестного исполнения воинского долга. Вот некоторые из них.
Есаул Кузьма Толмачев из 1–го Хоперского полка во время боя у селения Катанлу вблизи Евфрата натолкнулся на круговую оборону турок. Три десятка аскеров сели спинами друг к другу и с земли поливали шквальным огнем наступающих. На призыв Толмачева вызвалось 15 храбрецов его четвертой сотни. Он приказал им атаковать противника. Итог таков:
«Турки подпустили казаков на 50 шагов и дали залп. Три казака пали славною смертью героев, а остальные сурово отомстили за товарищей: из 30 человек атакованных только один был взят в плен, а остальные изрублены».
В составе Ольтинского отряда под Ардаганом успешно дрались с турками кубанские пластуны под командованием есаула Александра Геймана. Командование бросило батальон на главный участок прорыва. Кубанцы врубились в гущу неприятелей и бились до тех пор, пока город не был очищен от врага. Под Ардаганом и в нем турки потеряли около 3 тысяч убитыми и примерно столько же
пленными. Казаки – геймановцы сыграли в той победе видную роль.
Как дрались кубанские воины под Эрзерумом, ярко повествует следующее сообщение:
«Наши казаки, атаковав в конном строю вблизи форта Эрзерумской крепости турецкий авангард, изрубили несколько сот турок и захватили в плен более тысячи аскеров, остаток же авангарда бежал в Эрзерум».
Воюющее казачество поддерживало постоянные связи с Кубанью, родными станицами и хуторами. Из тыла на фронт шли посылки с подарками, делегации земляков навещали бойцов переднего края непосредственно на позициях. Прибывшие на долечивание по ранению воины и в краткосрочный отпуск Георгиевские кавалеры окружались всеобщим вниманием и почетом.
Боевой дух казаков, как и всех фронтовиков, мало– помалу стали подрывать лишь обескураживающие известия в прессе о нарастающем разгуле спекуляции в тылу, всякого рода махинациях, шпионских гнездах в верхних эшелонах царской власти. Немало дурного узнали они о недостойном поведении в Екатеринодаре торговых воротил Богарсукова, Оснача, Виноградова, священника Четыр– кина и других лиц.
Но даже спад в настроениях фронтовиков не подорвал в казаках любви к своей Родине, простому народу – труже– нику. Отечество для них оставалось дороже всего на свете.
КУРЛЯНДСКАЯ ЭПОПЕЯ
Семь месяцев, с октября 1944–го по май 1945 года, на территории Латвии, по кривой дуге Тукумс – Либава шли ожесточенные бои наших войск с прижатой к Балтийскому морю группировкой немцев, по численности и вооружению превосходившей сталинградскую. Более 30 дивизий 16–й и 18–й гитлеровских армий с оперативной группой «Клеффель» оказывали нам яростное сопротивление, неоднократно пытаясь вырваться из «Курляндского котла» и соединиться с главными силами вермахта. До января 1945 года группировка называлась «Север», с января – «Курляндия».
В ее составе воевали отъявленные головорезы, те самые, что 900 дней и ночей блокадой душили Ленинград, зверствовали и бесчинствовали на территориях Ленинг
радской, Новгородской и Псковской областей. В одной упряжке с ними укрепленные рубежи занимали их сообщники из 19–й латышской дивизии СС, нескольких частей и подразделений РОА генерала – предателя Власова, банде– ровская и прочая нечисть.
Краснознаменный зенитно – артиллерийский полк 6–й гвардейской армии, в котором я принял под командование огневой взвод, неоднократно прикрывал ее соединения и части от ударов врага с воздуха, нередко выставлял свои автоматические 37–миллиметровые пушки для стрельбы прямой наводкой по наземным целям противника. И там, на «передке», я не однажды слышал истошные призывы изменников Родины, передаваемые через радиоусилители:
– Советские солдаты и офицеры! Переходите на сторону великой Германии. Вы получите отличное обмундирование, питание и денежное содержание.
И это безмозглые пропагандисты вещали осенью 44–го и зимой 45–го годов, когда даже слепому было видно – совсем близок конец войны.
Наши армии неудержимо двигались вглубь Польши, а затем и Германии. И только здесь, в Курляндии, оставалась недобитая вражеская группировка. Она перемалывалась месяц за месяцем. Гитлер присылал сюда подкрепления до самого последнего момента. Причем прибывали не эрзац – вояки типа фольксштурма, а закаленные служаки, под стать тем, кто засел за каменными фундаментами на мызах латышей, в окопах и блиндажах, сооруженных вблизи лесов, болот, больших и малых дорог.
Враг основательно уплотнил свои позиции: на семь километров по пехотной дивизии, на каждом из них он сосредоточил столько танков, орудий, минометов, пулеметов и другой боевой техники, что прорвать его оборону представляло величайшую сложность. К тому же осенне– зимняя и весенняя слякоть и бездорожье затрудняли наше продвижение вперед.
Наступающие войска и, прежде всего, стрелковые части и подразделения несли тяжелые потери. Но все равно – медленно, с напряжением, мы отжимали немцев к Балтийскому морю.
В 60–километровой полосе наступления 6–й гвардейской армии главной ее целью являлось взятие предмостного городка Приекуле, находившегося в 30 километрах от Либавы (Лиепаи). Тут был особый приекульский «котел»
в общем «Курляндском котле». Наш полк действовал все время на данном направлении.
В феврале 1945 года части 71–й гвардейской стрелковой дивизии во взаимодействии с приданными танковыми и другими частями и подразделениями предприняли несколько безуспешных попыток выполнить боевую задачу.
И только 23 февраля 1945 года, в День Советской Армии, после двух предыдущих дней наступлений, штурмом овладели городком с 3–тысячным населением. Было убито 200 немцев, взяты трофеи, 66 пленных. Мизер по пленным говорил о многом – у врага никакой деморализации не происходило. Курляндская эпопея продолжалась с прежним ожесточением.
2 мая в Берлине уже прекратились бои, гарнизон капитулировал, а мы в Курляндии все еще продолжали воевать. На 8 мая назначалось генеральное наступление по всему фронту, утро того дня и начиналось со втягивания передовых отрядов в боевые действия. Но вот окопы немцев запестрели белыми флагами из простыней, носовых платков, полотенец. Они стали направляться к нашим позициям с поднятыми вверх руками, без оружия. Это – капитуляция и плен. Победа!
Трудно сказать, сколько в ее честь мы в ночь на 9 мая выпустили в небо из своих орудий трассирующих снарядов. Длинные и короткие очереди зениток расцветили разрывами снарядов весь передний край на участке полка, на батареях стоял треск от стрельбы из стрелкового оружия.
Как и многие офицеры, я принял участие в оприходовании и актировании трофеев – боевой техники и имущества. Вместе с одним из майоров 71–й дивизии подсчитывал и заносил данные в акт по вооружению и снаряжению какой‑то немецкой конной части, чье добро теперь аккуратно было разложено на песчаной поляне в сосновом бору.
В целом на оприходование Ленинградскому фронту к
31 мая поступило 478 танков и штурмовых орудий, 2450 полевых орудий, 931 миномет, 18221 автомашина, 675 транспортеров и тягачей, 263 бронетранспортера, 496 мотоциклов, 1080 радиостанций, 158 самолетов, два бронепоезда, 88 паровозов, 5077 вагонов, 7039 повозок, 36464 лошади. Войска фронта взяли в плен свыше 285 тысяч вражеских солдат и офицеров и 48 генералов. В плен попал и сын фельдмаршала В. Кейтеля Эрнст Кейтель, он был полков
ником, начальником штаба 563–й гренадерской дивизии.
Таков был итог курляндской эпопеи. Свою частичку в победу над врагом внесли воины нашего полка, ранее сражавшиеся под Сталинградом, на Курской дуте, в Белоруссии, имевшие на своем боевом счету к концу войны свыше ста сбитых и подбитых фашистских самолетов, несколько танков и другой боевой техники противника.
Ныне паучьи сети националистов оплели Латвию, Литву, Эстонию. Не без помощи подлого предательства – Горбачева, Яковлева и им подобных. Но я верю: рано или поздно здоровые народные силы бывших советских прибалтийских республик не только отдадут должное нашему совместному общему прошлому, но и откроют предпосылки для более светлого будущего. НАТО для них – не спасение!
СТИХОТВОРНОЕ СК030НИЕ
ОГОЛТЕЛЫЕ АРИЙЦЫ
Лихо Гитлер своим генералам
Отдавал свой последний приказ:
Вермахт должен дойти до Урала,
Захватить весь Советский Кавказ.
И послушные орды арийцев
Оголтело рванули вперед.
Но нещадно от самой границы
Фрицев Красная Армия бьет.
Тут для них не дорожка для кросса,
И они без потерь не пройдут.
Здесь погибнет их «план Барбаросса»
Под истошные вопли «капут».
ПОХМЕЛЬЕ
В одном бою под Воронежем фашисты предприняли «психическую атаку». Они шли густыми цепями в одних нижних рубахах, подкрепившись изрядной дозой водки. Наш минометный дивизион открыл ураганный огонь по врагу. Фашисты обратились в бегство, устлав поле трупами своих солдат и офицеров.
Из газет
Прет арийцев пьяных рать
Без конца и счету,
И хотят бандиты смять
Мигом нашу роту.
Шнапс в башке кадриль поднял,
Куролесят ноги.
Встретил фрицев смертный шквал
Прямо с полдороги.
Этих фрицев больше нет.
Им уж не резвиться:
Им путевка на тот свет,
Чтобы протрезвиться.
В ТРУБУ
В одном из переулков в Сталинграде немецкий корректировщик засел в печной трубе и направлял огонь своих батарей. Бойцы Борщенко и Явич опустили камень в отверстие трубы. Немец, сидевший в дымоходе, свалился вниз. Черного от сажи вражеского корректировщика разведчики привели на КП.
Из газет
Фриц в трубу залез, как в бронь.
Весь в пыли и саже.
Корректирует огонь
Батареи вражьей.
И похож на черта он
Или еще хуже.
Только рад, что так спасен
От стрельбы снаружи.
Вдруг матерый живоглот
Схлопотал булыжник,
Через черный дымоход
Рухнул, словно лыжник.
Тут Борщенко автомат
Поднавел на фрица:
«Ну, с трубой, чумазый гад,
Нужно распроститься».
НА ПОБЫВКУ
Гнутся рельсы под колесами,
Набирает поезд ход.
А за снежными откосами —
Сосен стройный хоровод.
В дом родной побывку краткую
Воин с фронта получил.
Значит, нес он службу ратную
Изо всех солдатских сил.
Сколько верст с боями пройдено!
Голубая манит даль.
На груди блестят два ордена,
Ярко светится медаль.
Будто в жданном сновидении
Увидала сына мать.
Слезы радости, волнение
Трудно было ей унять.
БУДНИ ЗЕНИТЧИКА
В час, когда унимается бой
И, ракетами рдея вдали,
Опускается ночь над землей,
Погружаюсь я в думы свои.
Вновь приходят, как сны наяву,
Лица близких и их голоса.
Будто нет ни тревог, ни разлук,
Что в тугие сплелись пояса.
Но забудешься только на миг —
Снова слышится гул в облаках.
И опять у орудий своих
Мы стоим на бессменных постах.
На войне не бывает чудес:
Чуть умолкло, и снова дуэль.
«Фоккера» бьют в нас с черных небес,
Мы с земли шлем им в брюхо шрапнель.
Рвутся бомбы и пули свистят,
В небе мечутся трассы огня.
От врага прикрывает солдат
Наших зыбких разрывов броня.
В ЯСНЫЙ ДЕНЬ
Мой друг, давай с тобой вот здесь присядем —
На берегу в зеленом дубняке.
Притихший лес задумчив и наряден,
Вершинами купается в реке.
Давай свернем, закурим папироски
Все так же по привычке фронтовой
И вспомним, как мы брали перекрестки,
Идя вперед под бурей огневой.
Еще вчера на этом самом месте,
Где травами окутались луга,
Во имя жизни, а не ради мести
Громили мы коварного врага.
Одержана великая победа,
Которой равной не было в веках.
Мы счастливы, что сквозь огонь и беды
Несли свободу на своих штыках.
ИЗ ПРИЕКУЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ (По впечатлениям от поездок в Латвию)
ЗЕМНОЙ САРКОФАГПамятником ожесточенных боев в Приекуле и его окрестностях является братская могила, в которой похоронено более 23 тысяч советских солдат и офицеров. На территории, подвергавшейся немецкой оккупации в Советском Союзе, – это самое большое воинское кладбище.
Из путеводителя
ПАМЯТЬ
В это трудно
поверить
И объять
умом:
Столько
в Приекуле наших
бойцов и офицеров
Лежат
в саркофаге земном.
Больше, чем за Варшаву,
Сражений
цена!
Так
маленькое
это селенье
В Курземском крае
Отметила
данью
война.
Полгода
смертной жути
Царило
вокруг.
Ах, какие
здесь гибли в атаках,
на маршах люди
В сиянье
боевых заслуг.
Братская
их могила —
последний редут,
Откуда они,
возвышаясь
над смертью,
С живыми
диалог о жизни
ведут.
ПРИЕКУЛЬСКИЙ АДРЕС
Много лет я не был в Приекуле —
Со времен военных грозовых.
Вновь по сердцу память полоснула
Ликом односумов фронтовых.
Вот она, оглохшая пехота,
Прижимаясь к танкам у Ишкот,
При поддержке арт– и минрасчетов
Рвется сквозь сплошной огонь вперед.
Снова здесь и снова у Динсбурбе.
Бой у неприметных хуторков.
О, котел курляндский, как он труден
Был для обескровленных полков.
По осенней, зимней и весенней
Непролазной хляби и снегам
Пролегла дорога наступлений
К золотым балтийским берегам.
КУБАРИ
Уже который год подряд
И радостный, и грустный
Почтовый льется водопад
На адрес приекульский.
Сюда со всех концов страны,
Свершив большие кроссы,
Приходят, ранами больны,
Нелегкие запросы.
Их шлют с войны еще скорбя
Родители и жены,
Чьи сыновья или мужья
В окрестностях сражены.
Тем трудным письмам нет числа —
И от детей, и внуков,
Судьба которым принесла
С погибшими разлуку.
Суть всех запросов: где, когда
Смерть встретил близкий воин,
Где был он в прежние года
И нынче похоронен?
На каждое письмо – ответ
На бланке исполкома.
И это стало, как обет,
Как просто аксиома.
Как будто по крутым волнам
Среди живого люда
Печаль и слава пополам
Расходятся отсюда.
МОЖАЙСКАЯ ОСЕНЬ
Войны ушедшие года
Давно сменились хрупким миром.
Я счастлив тем, что был тогда
Политруком и командиром.
В строю – бессменно, начеку.
Ведь запад полыхал пожаром.
А здесь, с востока, на Читу
Нам самурай грозил ударом.
Матчасть орудий. Стрельб накал.
Походы в степь. Тренаж в артпарке.
С нас даже в стужу пот стекал,
Как словно бы при банной парке.
Еще не ведая всех бед
И не мечтая о погонах
Я отработал трудный хлеб
На батарейных полигонах.
Потом настал и мой черед,
И вместе с новыми друзьями
Я шел к Победе, и мой взвод
Свой путь прокладывал с боями.
Был дух бойцов необорим,
Мы все преграды одолели.
Недаром, значит, кубари
В моих петлицах пламенели.
Посвящается подвигу бойцов и командиров 82–й Халхингольской мотострелковой дивизии (позже – 3–я мотострелковая гвардейская Краснознаменная), переброшенной из Монголии в грозные дни октября 1941 года и с ходу вступившей в бой с немецко – фашистскими захватчиками на Можайском направлении и затем погнавшей гитлеровцев на запад.
И снова осень. В позолоте
Леса можайские окрест.
И дни уже на укороте,
Задумчив поздний благовест.
Пройди полями – сеткой дождик
Заткал туманный небосвод.
Пройди, пока еще на пожнях
Снега поземка не метет.
Здесь каждый камень, каждый холмик
С времен далекой старины
Сраженья жаркие запомнил
За жизнь и честь родной страны.
Отсюда гнали в лихолетье
Наполеоновских вояк.
Минуло более столетья —
И снова повторилось так.
Сюда в суровом сорок первом
Шагнула Гитлера орда.
Куда ни глянь – на юг, на север —
Пылали наши города.
Когда Отчизна в бой позвала,
Нужны ли громкие слова?
Все – от бойца до генерала —
Мы знали – за спиной Москва.
И насмерть встали под столицей
Моей дивизии полки.
От Нары гнали подлых фрицев
Кадровики – сибиряки.
К Бородину их на подмогу
Сибирь направила. Скорей!
Бойцы несли с собой в дорогу
Благословенье матерей.
С курьерской скоростью летели
К Москве составы, как могли.
Семь тысяч верст сплошной метели
От Керулена пролегли.
Их ждали тут на поле снежном,
Надежды возлагали все,
Чтобы щитом дивизий свежих
Прикрыть Можайское шоссе.
И в уставное нарушенье —
Война устав писала свой —
Минуя сосредоточенье,
Полки бросались с ходу в бой.
Навстречу танкам, самолетам
И морю шквального огня.
Казалось, дрогнет здесь пехота
И вспыхнет пламенем броня.
Взрывались бомбы и гранаты
И грохотало все вокруг.
– Назад ни шагу! – так солдатам
– Сказал отважный политрук.
Рубеж дивизия держала,
Как несгибаемый колосс,
Героев доблестных рождая,
В раскатах тех военных гроз.
Над Подмосковьем в исступленье
Мела железная пурга.
Но день пришел. И в наступленье
Пошли бойцы, громя врага.
Можайск и Дорохово взяты!
Отбито вновь Бородино!
И имя той победы свято
И жить в веках ей суждено.
Там, пробивая путь солдатам,
Шел сквозь огонь и дым крутой
Дивизион «сорокопяток» —
Семья и дом военный мой.
Бойцы под свист и рев шрапнели
Катили пушки на руках,
В упор расстреливая цели
И превращая танки в прах.
И где‑то в их строю шагая
В метели сквозь огонь и лед
Врага разил, не уставая,
Мой бывший боевой расчет.
Не счесть, пожалуй, сколько хлопцев
В жестоких схватках полегло,
Чтобы сияло нынче солнце
И все живое расцвело.
На той земле, на том пределе
Гвардейский высветлился знак
Что завоеван в ратном деле,
В огне стремительных атак.
И хоть потом встречала Прага
И был поверженный Берлин,
Родной дивизии отвага
С можайских началась равнин.
Давно пожары погасили.
Округа та – живой музей.
Я здесь прочту ряды фамилий
Бойцов дивизии своей.
На постаментах обелисков
И в документах наградных.
И вновь далекое мне близко
И те места родней родных…
И оттого в волненье стоя,
Я здесь колени преклоню,
Отдам дань памяти героям
И почесть Вечному огню.