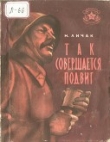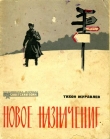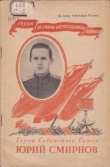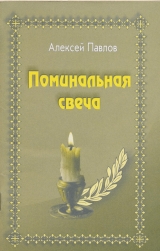
Текст книги "Поминальная свеча"
Автор книги: Алексей Павлов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
БОЙ У ГОСТАГАЯ
Заручившись поддержкой Англии и Франции в войне против России, Турция уже в начале 1853 года перед развертыванием широких военных действий густо нашпиговала своими агентами всю территорию Северного Кавка‑за. Особое ее внимание приковывалось к кубанскому Причерноморью, которое в ходе войны становилось объектом воздействия соединенного флота союзников. Настойчиво осуществлял замыслы турок по вовлечению горцев в нападения на «неверных» один из главных турецких эмиссаров абадзехский предводитель Магомет – Эмин. Будучи сам лезгином, он, однако, претендовал на роль межплеменного вождя.
Лестью, обманом и запугиванием сколачивал Магомет– Эмин ряды своих сторонников. Сразу, как только в апреле 1853 года из Геленджика он перебрался на северный склон горного хребта, учинил варварскую расправу над шапсуг– | ским старшиной Харатокором Хамырзой Кобле за то, что тот два года назад не выполнил его разбойных требований. С такой же агрессивностью вел он себя и в аулах натухайцев.
Подстрекая абазинцев, шапсугов и натухайцев, этот фанатик организовал несколько дерзких нападений на русские пограничные гарнизоны и казачьи селения на Черноморской береговой, Кубанской и Лабинской кордонных линиях.
Получив должный отпор во многих местах, Магомет– Эмин предпринял попытку захватить Гостагаевское укрепление. Инструктируя ближайших помощников, Магомет– Эмин указывал на то, что надо ввести в заблуждение русских. распространить слух, будто горцы собираются напасть на станицу Николаевскую (ныне Анапскую), в 3–4 верстах от Анапы.
К 25 июля 1853 года в горно – лесных верховьях реки Адагум собрался шеститысячный отряд шапсугов и натухайцев, готовых не только штурмовать Гостагаевское укрепление, но и пустить кровь казакам, если они по зову осажденных окажутся в пути из Витязево на спуске с Султанских высот.
Со всеми хитростями и предосторожностями творилось злоумыслие. Это‑то и дезориентировало анапское воинское командование во главе с полковником Мироновым, имевшее в своем распоряжении немало орудий, пехоты и конницы.
В результате команды 1–го отделения Черноморской береговой линии неплохо подкрепили Анапский и Николаевский гарнизоны, Раевский форт и Алексеевский редут. А Гостагаевский гарнизон, находящийся в 25 верстах от Анапы и в 12 – от Витязево в теснине реки Гостагай, оказался ими забыт.
Гарнизон располагал небольшими силами: ротой черноморских линейцев под командованием капитана Анкудинова и несколькими маломощными орудиями на четырех фасах земляного вала с палисадом под началом прапорщика Соколова. В общей сложности воинский начальник, комендант гарнизона Вояковский вместе с провиантской командой и лазаретной обслугой имел под рукой не более 300 защитников укрепления.
Молодой начальник из бывших студентов – медиков среди многих горцев пользовался уважением. У него в их среде было несколько верных кунаков, с которыми он чаще всего общался на «сатовках» в дни обменной торговли горцев и жителей форштадта вблизи укрепления.
В ночь на 25 июля 1853 года у ворот укрепления неожиданно появились два всадника. Их лица закрывали башлыки.
«Нам нужен Вояковский, – с трудом выговаривая русские слова, попросили горцы караульного начальника. – Дело очень важное».
Встреча состоялась. Всадники спешно и скрытно уехали. А Вояковский, Анкудинов, поручик Булич, подпоручик Кульбицкий, прапорщики Цепринский, Цекава и другие обер– и унтер – офицеры буквально в пожарном порядке принялись за приведение гарнизона в полную боевую готовность. По тайному сообщению кунаков коменданта гарнизона, с минуты на минуту могло произойти нападение огромной массы магомет – эминовцев, сосредоточившихся для этой цели у ближайшей реки Псебепс.
Форштадт опустел, его немногочисленные обитатели перебрались в укрепление. Вместе с офицерами и солдатами на оборону укрепления поднялось все его гражданское население.
«Воины российские, люди добрые, – призывал священник Наум, – помните о своей присяге, Бог вам в помощь в защите правого дела».
Жены и дети военнослужащих встали на фасах для подноски снарядов к пушкам. Пехотный капитан Анкудинов раздавал ружья заболевших солдат тем, кто ими был способен воспользоваться. К нему обратился и его собственный денщик Никита Бабуренко за «ружом».
«А что, – подумал офицер, – парень крепкий, он может не только мне сапоги начищать до блеска». Но в суматохе о своем намерении дать ему оружие забыл. Тогда Никита, нимало не смущаясь, вытащил из капитанской
брички оглоблю, окованную железом, и подался на северный фас к батарейке.
В предрассветной мгле в соседних кустах послышался ^ шорох, между ними замелькали фигурки вооруженных людей. Никита вместе со всеми увидел, как к батарейке быстро бегут нападающие. На земляной вал ворвалось до;
30 налетчиков. Ухнули пушки, началась рукопашная. Вмиг преобразился и Никита Бабуренко. Подобно Добрыне Никитичу своей дубиной принялся крушить недругов, сбил с ног высокого и сильного противника, взялся за других.
На его удачу подвернулось ружье, выпавшее из рук тяжелораненого солдата. С ним Никита бросился к орудию, возле которого сгрудилась кучка неприятелей. Вскоре уцелевшая часть нападавших была сброшена в ров, положение на северном фасе восстановилось. Шла непрерывная стрельба из пушек и ружей, бой закипел уже на восточном фасе. Не хватало воды для пробанивания орудий, ее стали подносить женщины и подростки. И здесь штурм удалось отбить.
Волна за волной накатывались атаки неприятеля. У защитников укрепления появилось двое убитых и около тридцати раненых. Толпа нападающих ринулась на палисад с сухой травой, хворостом, шанцевым инструментом, чтобы поджечь деревянные заграждения и сделать подкопы в земляном валу, дабы проложить путь внутрь укрепления.
Вояковский бросил в помощь обороняющимся свой резерв из 12 человек. Сюда же прибежал из лазарета святой отец Наум. С возгласом: «Не дадим разорить нашу святыню – церковь, грудью защитим жен и детей», – осенил он воинов крестом на подвиги. Тем временем подпоручик Муравлев по скоплению неприятеля у палисада ударил с бруствера окопа картечью из двухствольного ружья. Меткие выстрелы вывели из строя многих нападающих. Отскочив от палисада, они попали под фланговый губительный огонь пушек и ружей.
А затем, хотя и с запозданием, на выручку гарнизона из Витязево подошла сотня черноморских казаков, а из Анапы – две роты солдат. К их прибытию защитники укрепления закончили многочасовое сражение, отбросив противника на его исходные позиции. Прибывшие подразделения сменили личный состав гарнизона, выведенный на отдых в Анапу.
В ожесточенном бою защитники укрепления потеряли
47 человек. Дорого обошлась авантюра нападавшим. Во рвах перед укреплением обнаружилось 78 их трупов, а по окрестным кустам и балкам – еще более двухсот.
Так Магомет – Эмин 140 лет назад в жаркий июльский день расплатился с горцами за их доверчивость к фальшивым посулам и обещаниям.
Военная доблесть Гостагаевского гарнизона стала известна императору Николаю I. Его коменданта, боевого офицера Вояковского, он наградил орденом св. Георгия 4–й степени и досрочным производством в следующий чин, Ордена Владимира 4–й степени получили подпоручик Муравлев, штаб – лекарь Яновицкий и другие воины. Иеромонаху Науму был вручен золотой наперстный крест на Ге– оргиевской ленте, а храбрая жена поручика Булича, оказывавшая помощь раненым в лазарете, получила в дар ценный браслет, ей назначалась пожизненная пенсия в размере жалованья ее мужа – 457 рублей в год. Денежными суммами отмечалась самоотверженность и ее помощниц.
ЗА БРАТЬЕВ – СЛАВЯН
На Кубани, как и по всей России, зима 1877 года была напряженной из‑за сложной обстановки на Балканах. Турецкие насильники, пять веков угнетавшие народы Болгарии, Боснии, Герцеговины и других славянских стран, чинили дикий произвол над немусульманским населением.
И это вызвало повсеместный гнев и возмущение российской общественности. Правительство царя Александра II не могло не считаться с настроениями своего народа, близкого по духу и крови братьям – славянам. Военное ведомство России, его армия и флот развернули широкую подготовку к решению славянского вопроса военной силой, памятуя о том, что воевать придется на суше и на море, на Балканах и на землях Закавказья.
Уже в январе по железным дорогам Кубанской области загромыхали воинские эшелоны к местам сосредоточения и предстоящих сражений: лучшие конные, пехотные, артиллерийские и другие части и соединения Кубанского казачьего войска. Жители городов и станиц тепло и сердечно встречали воинов, устраивали задушевные проводы.
Так было и в станице Ладожской, куда поступила весть о прибытии личного состава четвертой батареи Кубанской конно – артиллерийской бригады и его дальнейшем
следовании на погрузку в эшелон на станции Кавказской. Новость всколыхнула местное население столь основательно еще и потому, что командира батареи, казачьего офицера В. Я. Яцкевича, здесь знал стар и млад. До недавнего времени он состоял здесь на службе в должности начальника войсковой больницы. У него, как говорят, закваска была лекарско – артиллерийская: по недругу в бою задаст шрапнелью, а друзей – побратимов выручит и вылечит.
Прибывшая в станицу в походном порядке казачья батарея расположилась вблизи станичной семинарии. Педагоги и воспитанники этого учебного заведения с нетерпением ждали торжества по случаю почетного приема и проводов защитников Отечества. Батарея была доведена до штатов военного времени, в ней насчитывалось более 250 человек.
С дороги казаки приводили в порядок материальную часть. Тем временем в станицу из Екатеринодара прикатили на резвых рысаках начальник штаба Кубанского казачьего войска генерал – майор В. В. Гурчин и командир артиллерийской бригады полковник И. К. Назаров. Им важно было посмотреть, как станичники приветят казаков, в числе первых воинских формирований отправляющихся на вероятный театр военных действий.
… День 12 января 1877 года выдался не по – зимнему солнечным и ясным. Предстоящее прохождение по станичной площади батарейцев в торжественном строю, напутственные выступления провожающих, общий молебен, а затем праздничный обед для виновников торжества вносили в обстановку дня необычное оживление.
Глядя на рослых, подтянутых артиллеристов, станичники высказывали слова восхищения.
– Экие молодцы. Им и пушка – что игрушка.
Послышалась команда:
– Строиться!
Печатая шаг, шестиорудийная батарея прошла перед своим начальством, станичниками и семинаристами под звуки марша. У семинарии строй казаков составил плотную колонну. По команде «вольно» артиллеристы выслушали немало добрых напутствий от своих старших начальников. Но сильнее всего напутственное слово прозвучало из уст священника Мосальского.
– Дорогие наши казаки, – сказал он. – Нам не впервые приходится провожать на поле брани сынов Кубани. Но нынешний ваш поход представляет особое значение.
По всему видно, что вам предстоит великая христианская миссия – встать на защиту жизни братских славянских народов на Балканах, освободить их от турецкого ига.
Сам Господь Бог благословляет вас на это святое дело.
В горячей, прочувствованной речи православного священника как наказ, как воля всех жителей станицы прозвучали слова ободрения и вдохновления воинов:
– Впереди у вас долгий, трудный и опасный путь к достижению цели. Благословляя вас на ратные подвиги, хочу напомнить вам заветы отцов и дедов, которые всегда высоко несли честь и достоинство кубанских казаков в битвах с любыми супостатами. Бог вам в помощь за освобождение славян!
Потом перед всеми присутствующими командир батареи произнес прощальное слово:
– Спасибо всем ладожцам. Мы никогда не забудем этих теплых проводов. Обязательно оправдаем ваши пожелания.
Станичные торжества сопровождались колокольным звоном, в десять часов следующего утра батарея зарысила с орудиями на станцию Кавказская. Но путь батарейцев пролег не на Балканы, как ожидалось, а на кавказский фланг, в район Абхазии, где им пришлось отражать натиск турецких войск с Черного моря. «Все равно, – говорили артиллеристы, – мы и здесь отстаиваем святое дело братьев – славян». Они дрались с врагом храбро и умело, их пушки метко разили суда и живую силу противника. И не случайно произведенный в чин полковника командир батареи Яцкевич был награжден орденом святого Георгия 4–й степени. Знаки отличия военного ордена 4–й степени были вручены бомбардирам батареи Никите Долгошееву, Николаю Лещенко, Василию Дуракову и канониру Андрею Пренко.
В жарких схватках с османами под Плевной, Ловче, Горным Дубняком, Телише и другими селениями Болгарии героически сражались с противником казаки Ейского, 2–го Кубанского, Полтавского, Таманского, Хоперского конных полков, 7–го и 2–го пластунских батальонов, других частей и подразделений. Десятки тысяч казаков– кубанцев отстаивали дело славян на Кавказе и в Закавказье. Вместе с Дунайской и Кавказской армиями, со всеми воинами – россиянами кубанцы внесли свой вклад в завоевание свободы и независимости для народов ряда балкан
ских стран, принудили турок пойти на заключение Сан– Стефанского договора о мире в марте 1878 года, который, кстати, еще долго «утрясался» западными завистниками России и на так называемом Берлинском конгрессе.
Особо теплое расположение русские воины и казаки питали к болгарам. По иронии судьбы правители Болгарии в Первую мировую войну 1914–1918 гг. вовлекли свою страну в союз с кайзеровской Германией, главным противником России. И во Вторую мировую войну (1939–1945 гг.) узурпировавшее власть профашистское правительство Цанкова снова отвернулось от России, холуйски прислуживало Гитлеру.
Только после разгрома фашистского рейха болгарский народ, изгнавший из страны предателей, стал подлинным другом и братом великой России в лице народов Советского Союза. Увы, предательская политика Горбачева развеяла в прах сложившуюся прочную дружбу. Нынешнее руководство Болгарии вопреки воле большинства населения вновь отвернулось от верного соратника и жаждет проскочить в блок НАТО, отнюдь не страдающий избытком дружелюбия к разгромленной без войны России.
История ничему не научила ни горбачевых – ельциных, ни болгарских правителей.
КУБАНЦЫ НА АРАКСЕ
На тысячу с лишним километров протянулась река Араке от своих верховий в Турции до слияния с рекой Курой на территории Азербайджана. Примерно треть своего пути Араке мчит свои воды по горным ущельям, и лишь при слиянии с рекой Карасу у города Горадиз он сбавляет свой бег и начинает втягиваться в обширную Прикаспийскую низменность, которая и приводит его в лоно реки Куры.
Араке – река пограничная. Россия здесь держала свои кордоны, соседствуя с Турцией и Ираном. Большой сложностью отличались участки, располагавшиеся в срединном, горном течении реки. И особенно нелегко было нести тут пограничную службу после русско – турецкой войны 1877–1878 годов. Вооруженная контрабанда, перестрелки, погони, внезапные налеты нарушителей границы – изо дня в день, из месяца в месяц.
С сопредельной стороны нарушители границы переправляли контрабандой оружие, порох, украшения, чай и
другие режимные товары. Оттуда же нередко засылались лазутчики – шпионы. Со значительным размахом действовали местные азербайджанские абреки, не признававшие законов империи.
Вот такие суровые будни выпали на долю многих каза– ков – кубанцев, занаряженных сюда на долгие годы бесприютной жизни. В 1879–1887 гг. в горных районах Джуль– фы, Ордубада и других мест вниз по течению Аракса немало располагалось дистанций и постов, где они тянули свою тяжелую солдатскую лямку без громкой славы и почестей, зато с постоянно нависшей угрозой быть убитым или захваченным в плен и обращенным в рабство.
В указанные годы на приречных кордонах Аракса от поста Менджеванского до поста Карадулинского дислоцировались строевые сотни 1–го Полтавского казачьего конного полка под командованием полковника князя Эрнстова, вблизи Каспийского моря, на горных постах ленко– ранского кордона, располагались подразделения 1–го Ейского конного полка. По Араксу были разбросаны сотни Кавказского и других казачьих полков, разновременно сменявшихся и рассылавшихся по другим гарнизонам.
По опыту своих предков и собственным навыкам каза– ки – кубанцы установили интервалы между кордонными постами в 9—10 верст, устраивали между ними залоги и секреты, в определенных промежутках находились базовые стоянки сотен и штабы батальонов, пункты боепитания и продовольственного снабжения. Строго по распорядку совершались смены нарядов на постах, о всех происшествиях в обязательном порядке подавались рапорты по служебным инстанциям.
Впечатляющую картину беспокойной службы на границе представляют документы тех лет, которые велись во втором пластунском батальоне Полтавского казачьего полка, охранявшем Ванкскую кордонную линию. Кроме самого приречного урочища Ванк, в его зону бдения входило урочище Хан – Кенды с дислокацией штаба батальона, а также еще несколько охраняемых пунктов по левому берегу реки.
Много больших и малых происшествий зафиксировано по батальону. Вот, скажем, начало утра 23 декабря 1879 года. У поста Карадулинского оно выдалось туманным и холодным. Стоявший на охране берега у брода пластун Пучков вскоре заметил, как с сопредельной иранской стороны какой‑то всадник – азербайджанец на коне пересек главное
русло реки и, озираясь вокруг, въехал в мелкую протоку. Выйдя из засады, Пучков крикнул нарушителю по – персидски:
– Яваш! Ким адам? (Стой! Что за человек?)
Всадник, не останавливаясь, ответил:
– Я – русскоподданный. Ездил за границу разыскивать своих лошадей.
Когда же он приблизился к Пучкову, то тут же соскочил с лошади и ухватился левой рукой за винтовку пластуна, пытаясь ее отобрать, а правой рукой стал наносить ему кинжалом удар за ударом. Несмотря на кровь и боль, пластун удерживал оружие, а потом, изловчившись, отбросил от себя противника.
Однако сильный разбойник вновь набросился на казака, прорубил ему папаху и башлык, кроме ранее нанесенных ран оставил у него на голове еще две кинжальных меты да на руке четыре. Пластун истекал кровью и вот– вот мог потерять сознание. Собрав все свои силы, он, наконец, вскинул винтовку и выстрелом в упор уложил на месте коварного врага.
На противоположном берегу после выстрела Пучкова засуетилась целая группа вооруженных людей, ища удобный брод для переправы. Это грозило казаку еще более неравной схваткой. На его счастье к нему быстро подоспела подмога, а потом он был отправлен в лазарет.
В январе – феврале 1880 года на постах Культапин– ском и Вейсалинском несколько раз происходили схватки с контрабандистами, в которых казаки проявили смекалку и решительность, что помогло им выйти победителями из сложных ситуаций. При этом одновременно им удалось нейтрализовать, например, в селении Бегманлы, отстоявшем от брода в 300 шагах, агентуру контрабандистов.
Г од спустя, в те же месяцы, беспокойно было на постах Шарофанском, Державном, Менджеванском, Бартазском, Бугорлинском. Например, на рассвете 18 февраля 1881 года с поста Буторлинского на пикет напротив селения Менд– жеванского по заданию командира 3–й сотни Жеглинского отправились казаки Савелий Стрелец и Михаил Чеботарев. Взобравшись на горный пикет, дозорные хорошо видели всю окрестность в излучине Аракса. Усевшись посреди камней, постовые заметили, как из глубокого ущелья на противоположном берегу Аракса к реке медленно следуют один за другим два вооруженных всадника.
У берега остановились, осмотрелись и, не заметив ничего для себя опасного, двинулись вброд на чужую сторону. Пикетчики, как принято в таких случаях, остерегли их окриком: «Яваш! Ким адам?» Но в ответ раздались выстрелы. На свою сторону, бросив лошадь, ушел только один нарушитель, другой засел в промоине и вел оттуда частый огонь из винтовки. На помощь контрабандистам примчалось из селения еще до двадцати всадников, которые рассыпались по берегу, открыв по пикетным через реку плотную ружейную стрельбу.
Весь пост был поднят по тревоге, и попытка прорыва нарушителей была предотвращена. Брошенная ими одна лошадь с восьмью пудами пороха досталась сотне в качестве трофея. Казак Савелий Стрелец за находчивость и стойкость был произведен в приказные.
Так продолжалось и в последующие месяцы этого года. В той же третьей сотне отличились на посту Державном казак станицы Владимирской Игнат Мерзликин, на посту Бартазском – казаки Василий Переверзев (ст. Линейная) и Моисей Филоненко (ст. Уманская), на посту Менджеван– ском – казак станицы Некрасовской Севастьян Афонин и ряд других. Исправно служила сотня и в дальнейшем. Ни в чем не уступали личному составу данного подразделения воины первой, второй, четвертой и пятой сотен.
На участке Безаглыбан – Корчеван несли вахту пластуны четвертой сотни, которой командовал подъесаул Булавинов. Тут были такие скальные карнизы и переходы над Араксом, что после дождей высеченные в них патрульные маршруты превращались вообще в непроходимые «тропы смерти».
Не случайно хорунжий Кюрдяжского поста Алексей Малиновский о труднейшей службе пластунов батальона сочинил проникновенную песню с припевом:
Сторонись!
По дороге той
Конный, пеший
Не пройдет живой!
Положенная на ноты батальонным капельмейстером Самовским, эта песня распевалась не только в Полтавском казачьем полку на границе, но и в станицах, хуторах, в строевых частях Кубанского казачьего войска.
Из самых предприимчивых и отважных воинов батальона в составе 70 человек в начале октября 1885 года
командование сформировало специальный отряд, предназначенный для решительного истребления разбойничьих шаек, орудовавших в камышах и скрытых складках местности по течению Аракса между постами Меджеванским и Карадулинским.
Среди особо одаренных поисковиков выделялись своим мужеством и воинской доблестью хорунжий Николай Воронов, по прозвищу Николай – бек, урядник станицы Некрасовской Данил Колыбельников, урядник станицы Курганной Григорий Дрововоз, казак станицы Махошевс– кой Андрей Кудрин и многие другие.
Охотники целыми сутками находились на прочесывании в высоких камышах и прибрежных кустарниковых зарослях, у бродов и перекатов, выслеживая вооруженных разбойников. Нередко вступали в перестрелки и преследования противника. В одном из боев погиб казак третьей сотни Иван Химичев. По завершении операции в мае 1886 года сорок воинов отряда вернулись в урочище Хан – Кенды, к штабу батальона, а тридцати пластунам по приказу командующего округом довелось еще послужить на горных кордонах вблизи Каспийского моря.
На протяжении семи – восьми лет у пограничной реки Араке в стычках с контрабандистами полегло немало кубанских защитников кордонной линии. В батальонной летописи с большими подробностями описана трагическая гибель казака станицы Гурийской, пластуна второй сотни Петра Судоплатова. Произошло это в июне 1885 года. Получив приказ отправиться в расположение сотни на посту Бартазском, молодой рослый кубанец и подумать не мог, чем для него закончится поход за провиантским довольствием. Его старт начался с поста Агбенского, по патрульной дороге предстояло пройти десять верст. Казак в ноговицах с крепкой подошвой без каблуков, в короткой черкеске, в папахе вназбочь, при берданке и двух пачках патронов весело покинул землянку, перекрестился и отправился в путь.
Но не по дороге, а напрямик, по узкой тропинке через горы.
– Побыстрее дойду, – рассуждал он.
Так и получилось. В Бартазском он принял порцию баранины на свою команду, несколько канцелярских пакетов и отправился в обратном направлении. Шагал казак и размышлял о своей родине Кубани, отце, матери, молодой красивой жене.
«Идет, задумавшись, пластун и не видит, – ведет батальонный летописец рассказ, – что из‑за высокого куста дикой гранаты высунулось дуло кремневой винтовки и ловит его на большую медную мушку прищуренный правый глаз татарина – злодея… Вспыхнул огонек и одновременно грянул громкий ружейный выстрел, повторенный в горах перекатным эхом несколько раз».
И дальше:
«Уронив винтовку и широко распластав руки, с легким стоном упал Судоплатов, смертельно раненный у края патрульной дороги: из пробитой пулею груди полилась на землю его молодая горячая кровь».
Обеспокоившись долгим отсутствием Судоплатова, начальник поста послал наряд по его следу. На знакомой дороге казаки увидели мертвое тело товарища, уже изгрызанное шакалами и гиенами. Винтовки и снаряжения уже не было – их унес с собой убийца.
Подобных смертей случалось немало.
В признание заслуг воинов – пограничников на Араксе в 1884 году командующий 1–м Кавказским армейским корпусом исхлопотал перед царем награды казакам за их верную службу, связанную с пресечением вылазок нарушителей границы. Была учреждена серебряная медаль «За храбрость». Из кубанцев первыми ее получили урядник станицы Ширванской Константин Уханев, казаки Василий Сапунов и Федот Стасенко (ст. Черниговская), Андрей Лещенко (ст. Бжедугская), Игнат Мерзликин (ст. Владимирская), Иван Щербаков (ст. Николаевская) и другие.
В 1887 году по представлению начальника Ванкской кордонной линии такие же награды за отличия в борьбе с контрабандистами на границе Аракса были вручены уряднику ст. Суворовской Кузьме Мищенко, пластунам Андрею Куркину (ст. Удобная), Семену Бараба (ст. Царская), Якову Сингиреву (ст. Баталпашинская).
Сожаление вызывало то, что названная медаль не давала награжденным права на получение пенсий, хотя фактически цена ей была ничуть не ниже орденского знака.